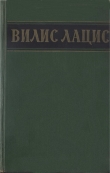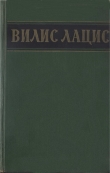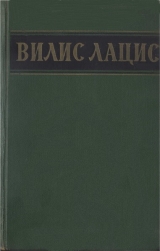
Текст книги "Собрание сочинений. Т.5. Буря. Рассказы"
Автор книги: Вилис Лацис
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 36 страниц)
– Господа… пардон, товарищи, что же рюмочки-то у вас полные, – напоминал Каупинь. – Не хорошо, оно ведь выдыхается. За товарища Буткевича! За то, чтобы ему в декабре выполнить план и сделать это так, чтобы волки были сыты и овцы целы.
Угощение продолжалось всю ночь. Опорожняя рюмку за рюмкой и закусывая яичницей с ветчиной, трое кулаков и трое «сотрудников» советских учреждений выпили за дружбу на вечные времена. Биезайс и Буткевич обещали сделать так, чтобы Вилде и Крекису не пришлось сдавать зерно по высшей норме, а Пушмуцан коротко и ясно заявил, что в волости кулаков нет – одни середняки.
– Нам надо держаться друг за друга, – сказал Вилде. – Рука руку моет – и обе чистые. Мир – благоденствие, вражда – разорение. Все мы латыши, одна плоть и одна кровь. Зачем нам ссориться?
– На самом деле – зачем ссориться?.. – прошепелявил Буткевич. – Одна плоть, как говорится, и одна кровь. Нельзя давать волю Марте Пургайлис и Гаршину.
– Я их арестую… – лепетал Пушмуцан, окончательно охмелев. – Пойдем скорее, а то убегут…
Вилде переглянулся с Каупинем, и оба улыбнулись: сами они почти не пили, только губы мочили.
– Пусть обождут до завтра, товарищ Пушмуцан, – сказал Каупинь. – Никуда они не убегут.
– Ну, хорошо, обождем до завтра, – согласился милиционер. – Завтра я им задам.
Биезайс ушел раньше всех. За ним, пошатываясь, поплелся Крекис, довольный, что сам председатель исполкома признал его середняком. Буткевича и Пушмуцана уложили спать здесь же, на полу, а Вилде с хозяином ушли в кухню и долго там шептались.
– Обработали, – хихикал Каупинь.
– Умеючи можно и кота охолостить, – сказал Вилде.
Утром Каупинь разбудил Буткевича и Пушмуцана, каждому налили на похмелку по чайному стакану водки, потом проводили немного и пустили по дороге. Буткевич дальше церкви не добрался, тут он упал на краю дороги и уже не поднялся. Пушмуцан с минуту смотрел на уснувшего собутыльника, потом увидел собиравшихся у церкви прихожан, и его обуял внезапный гнев: по какому праву они собрались здесь среди бела дня? Что им здесь надо?
– Разойдись! – закричал он не своим голосом. – Да поскорей у меня! Раз, два, три… всех арестую!
Люди растерялись. Несколько старушек отступили к церковной ограде, какой-то старик с перепугу спрятался в придорожной канаве, а остальные с удивлением следили за пьяным милиционером: какая муха его укусила?
– А, вы не подчиняться! – зарычал Пушмуцан. – Я покажу вам, как не подчиняться!
Непослушными пальцами он вынул револьвер и расстрелял всю обойму в воздух. Площадка перед церковью живо опустела, людей точно ветром сдуло. Пушмуцан, довольный своими успехами, засунул револьвер в карман брюк и, шатаясь, поплелся домой, покинув Буткевича возле церкви.
К концу дня об этом событии узнала вся волость. Старый Вилде смеялся, держась за живот.
– Так-так-так, все идет как по нотам. Больше и желать нечего.
Марте Пургайлис все стало известно еще утром. Она сразу поняла, чьих рук это дело.
«Волки в овечьей шкуре! – думала она о Вилде и Каупине. – Они бы, не задумываясь, перегрызли горло и мне и Гаршину. Только им это не под силу, вот и ищут, кто послабее… Смотрите, просчитаетесь!»
– Мамочка, что с тобой? – спрашивал Петерит, глядя на мрачное лицо Марты. – У тебя болит что-нибудь?
Он приехал сюда в конце июня. В доме других детей не было, и мальчик целыми днями играл на соседних дворах. Иногда Гаршин брал его в МТС, и он ходил по ремонтной мастерской и гаражу, знакомился с рабочими и шоферами и одолевал их бесконечными вопросами.
Марта обняла мальчика и сказала:
– Да, сынок, болит. Но скоро перестанет болеть.
Она спустилась вниз и позвонила в МТС.
– Товарищ Гаршин, вы слышали, каких безобразий натворили Буткевич и Пушмуцан?
– Слышал уже. Об этом вся волость говорит.
– Всякому терпению есть границы… Пора избавить волость от некоторых лиц, которые столько времени мутят воду. Иначе мы не добьемся перелома. У вас не выберется сегодня свободный часок?
– Если серьезное что, найду.
– Хочу созвать после обеда партийную группу совместно с комсомольцами.
– Вот это правильно, товарищ Пургайлис. Я вам помогу оповестить товарищей.
– Спасибо. Совещание назначим на шесть часов.
Кончив разговор, Марта заметила, что в канцелярии сидит Ирма Лаздынь. Нарядившись по случаю воскресенья в лучшее платье, свежая, ловкая, она казалась очень хорошенькой. Девушка перебирала на своем столе бумаги и улыбалась.
– Вы слыхали, что случилось, товарищ Лаздынь? – заговорила Марта. – Ну, что вы об этом скажете?
– Это меня не касается, – холодно ответила девушка и стала читать какую-то старую инструкцию.
– Я думаю, это касается каждого из нас. Если на наших глазах творятся безобразия, никто не может оставаться равнодушным.
– Безобразий так много, что переживать их все нет никакой возможности. К тому же от злости пропадает красота, а я не хочу портить цвет лица.
Она, словно поддразнивая, с улыбкой посмотрела на Марту и вышла.
Вечером состоялось совещание. Узнав о нем, в исполком пришел и Биезайс, но Марта не позвала его наверх, в свою комнату, где собрались остальные. Тогда он открыл окно кабинета и, высунувшись из него, стал прислушиваться. Но наверху окно было закрыто и участники совещания говорили так тихо, что внизу нельзя было разобрать ни одного слова.
«Готовят петлю старику Биезайсу. Вмешиваются в мою личную жизнь. Какое им дело, с кем я выпиваю субботнюю рюмочку? Исполкомовские деньги я ведь не трогаю – хватает и своих».
А в это время наверху Марта Пургайлис говорила:
– Биезайса надо снять с работы. Он пропивает волость, топит каждое начинание. Такие люди, как Буткевич и Пушмуцан, только компрометируют советскую власть и дают нашим врагам пищу для сплетен. Новые люди должны занять их место. Профессоров мы не найдем, но быть того не может, чтобы во всей волости не набралось несколько хороших работников. Если мы хотим, чтобы наша волость из отстающей стала передовой, нам всем на несколько месяцев придется отказаться от отдыха, работать и работать. Кому это кажется трудным, пусть заявит сейчас и не обманывает товарищей. Подытожим наши силы, распределим задания и возьмемся за работу, потому что мы больше не имеем права плестись в хвосте ни один день, ни один час.
Утром Марта уехала в город. Вернулась она через два дня, а вместе с нею приехали уездный уполномоченный министерства заготовок и начальник уездного отдела НКВД. В волости произошли важные события. Председателя исполкома сняли сработы, а исполнение его обязанностей поручили заместителю Лаксту. Новые работники из волостных активистов и комсомольцев сменили Буткевича и Пушмуцана, а старого Вилде и Каупиня арестовали, так как к этому времени были неоспоримо доказаны их преступления во время гитлеровской оккупации.
Будто свежий живительный ветер пронесся над волостью, будто гроза прошла и очистила воздух. Люди стали спокойнее и деятельнее. У пункта Заготзерна длиннее стали очереди подвод, наконец-то волость начала борьбу за первое место в уезде, вступила в трудное и захватывающее соревнование.
Как-то вечером Гаршин сидел у Марты. Говорили о будущей работе, о сделанном и виденном за день. Было покойно, тепло и приятно. Петерит давно привык к Гаршину и, не стесняясь, расспрашивал «дядю Володю» обо всем, что занимало его беспокойный, пытливый ум. Гаршин гладил светлые, мягкие волосы ребенка, и сердце у него вдруг сжалось, заныло давней, привычной болью.
Он вспомнил такой же вечер, когда в последний раз сидел в кругу своей семьи. Такой же мальчуган ласкался к нему, требовал рассказов и сам что-то рассказывал тоненьким голосом. И тут же рядом самый милый, верный друг – жена.
На другой день вся Советская страна слушала историческую речь Молотова. То было 22 июня 1941 года. Вечером того же дня инструктор Н-ского районного комитета партии Смоленской области Владимир Емельянович Гаршин явился в военный комиссариат и получил предписание. Его направили в резервный полк. Через год, повоевав уже под Москвой и у Старой Руссы, он попал в Латышскую стрелковую дивизию. Еще в роте разведчиков Гаршин начал учиться латышскому языку, а позднее, когда его перевели в штаб пехотного полка, один капитан, работавший до войны учителем в Риге, занялся с ним грамматикой и познакомил с латышской литературой. В конце 1943 года Гаршин впервые получил известие о родных: и жену и сына гитлеровцы убили в первую же неделю оккупации, как только узнали, что глава семьи – командир Красной Армии. Прошлой зимой, выписавшись из госпиталя, Гаршин съездил навестить родные места и родные могилы. Никто не знал и не мог сказать, где похоронены его жена и сын. Через несколько дней Гаршин вернулся в Ригу – помогать своим боевым товарищам латышам. Проработав два месяца в одном тресте, он неожиданно для самого себя согласился поехать директором в одну из восстанавливаемых машинно-тракторных станций.
Собственно, это было понятно – задолго до войны Гаршин года два работал в политотделе МТС. Вспомнилось тогдашнее счастливое время, молодость. Вот так Владимир Гаршин и очутился в этих краях.
Медленно надвигались сумерки. Тихо звучал голос Марты. Петерит забрался на колени к Гаршину и незаметно задремал, прислонившись головой к его груди. И Гаршину казалось, что он дома и теперь опять будет продолжать прежнюю, прерванную войной, жизнь.
Он молчал и задумчиво глядел в окно.
Когда он простился с Мартой и вышел, было уже темно. На дворе к нему быстро подошла, очевидно поджидавшая его здесь, Ирма Лаздынь.
– Товарищ Гаршин, мне надо вам несколько слов оказать, – торопливо и взволнованно начала она вполголоса.
– Пожалуйста, я слушаю, – отозвался Гаршин, немного удивленный ее волнением.
Она оглянулась, будто хотела удостовериться, что никто ее не слышит, и придвинулась к Гаршину. В лицо ему повеяло ее горячее дыхание.
– Не ходите сейчас домой, – быстро зашептала она, – там на дороге вас ждут… наверно, бандиты. Я с час тому назад ходила погулять, зашла в лес, слышу – голоса, двое мужчин разговаривают очень тихо, я их не могла узнать. Я испугалась, притаилась за деревом… Они спорили между собой – когда вы обратно пойдете. По имени вас, правда, не называли, а так… – она запнулась, – однорукий. Я уверена, они вас убить хотят. Это – бандиты, честное слово. Потом они ушли подальше, а я потихоньку выбралась из леса. Не ходите, товарищ Гаршин…
– Интересно, – протянул Гаршин.
– Интересного тут ничего нет, это просто ужасно. Разве нельзя позвонить по телефону в МТС, оказать заместителю, что не придете домой…
– Я не могу околачиваться здесь до самого утра, – сказал Гаршин. – На фронте у нас было гораздо больше врагов, и то мы с ними справлялись. На что это будет похоже, если гвардии капитан капитулирует перед несколькими бандитами?
– Зачем так неразумно рисковать, товарищ Гаршин? – горячо уговаривала его девушка. – И вам не надо оставаться на улице… вы можете побыть в моей комнате…
– Благодарю вас, товарищ Лаздынь, – сказал Гаршин и, взяв руку Ирмы, крепко пожал ее. – Пусть не думают, что меня можно взять голыми руками. До свиданья…
Он вышел на дорогу. Во дворе исполкома долго еще стояла девушка, вглядывалась в темноту, с тревогой и отчаянием прислушивалась к каждому звуку, доносившемуся до нее в эту осеннюю ночь.
«Господи, хоть бы с ним ничего не случилось… хоть бы удалось пройти незамеченным… Не верит он мне, а это правда…»
Прошло с полчаса. Все было тихо, не прозвучал ни один выстрел. Ирма Лаздынь немного успокоилась и ушла к себе в комнату, но заснуть в ту ночь так и не могла.
Попрощавшись с девушкой, Гаршин пошел не обычной своей дорогой, а свернул в поле и по межам, с противоположной стороны, приблизился к ельнику, который на полпути между исполкомом и МТС острым клином подходил к самой дороге. Если уж кто-нибудь собирался его убить, он должен был засесть только тут, больше негде было. В Гаршине проснулся бывалый разведчик. Тихой, кошачьей поступью, с приготовленным для стрельбы «вальтером» в руке, он бесшумно крался между деревьев, и глаза его, привыкшие видеть и ночью, буравили темноту, ощупывали издалека каждую ель, каждый куст и кочку.
Наконец, он заметил тех, кого искал. Два человека сидели на опушке леса у самой дороги – в том самом месте, где Гаршин предполагал их найти. Один сосал папиросу, прикрывая огонек ладонью, другой наблюдал за дорогой.
Гаршин улыбнулся.
«Чтобы вас не клонило ко сну на этом трудном посту, позаботимся о развлечении», – подумал он. Сначала у него мелькнула мысль вернуться в исполком, поднять на ноги истребителей и окружить это место, но он тут же отказался от нее: сомнительно, чтобы истребителей удалось так же бесшумно подвести к опушке, как подошел он сам, ведь эти двое тоже не дремали. Только шум подняли бы. Нечего было думать и о том, чтобы самому задержать обоих бандитов, на этот раз оставалось удовольствоваться маленьким переполохом.
Он спрятал «вальтер», подобрал два камня, встал за толстой елью и, прицелившись, насколько это было возможно в темноте, бросил их один за другим в бандитов, громко крикнув:
– Первая группа, вперед! Второй отрезать путь к отходу!
Один камень, кажется, угодил в спину курящему, тот закричал благим матом и ринулся через дорогу, а его бдительный друг быстрее лани перепрыгнул через канаву и умчался в поле.
Гаршин дошел до того места, где сидели бандиты, и подобрал брошенные ими при поспешном отступлении немецкий карабин и автомат.
Обвесившись трофеями, старый разведчик, гвардии капитан Владимир Гаршин вышел на дорогу и спокойно зашагал домой. С теплым, дружеским чувством подумал он об Ирме Лаздынь: «А девушка-то наша. Не стала бы она предупреждать меня, если бы не была нашим другом!»
1
Приняв завод, Ояр Сникер сказал парторгу Курмиту:
– Вот мы дали слово, что до конца года построим оба новых цеха и восстановим довоенную мощность «Новой коммуны». Подумаем теперь, как выполнить это задание. Легко оно нам не дастся.
– Подумаем, товарищ Сникер.
Они просидели над расчетами и планами трое суток, совещались со всеми инженерами, с руководителями строительства и старыми рабочими; еще раз взвесили все плюсы и минусы, еще раз перелистали календарь, затем созвали общезаводское собрание и единогласно приняли решение: выполнить производственный план 1945 года и план капитального строительства до годовщины Великой Октябрьской революции. Каждый цех, каждая бригада, каждый рабочий приняли на себя четкие обязательства, каждый подумал о том, как увеличить до предельной возможности свой вклад в общую работу. Чтобы лучше контролировать ход этого большого начинания, своевременно оказывать помощь отстающим участкам и согласованно двигать к финишу все работы, выработали подробный график – отдельно по месяцам и на каждую декаду, – назначили ответственных лиц и установили контроль.
Затем началась борьба, борьба за время, борьба с послевоенными трудностями. Нередко приходилось иметь дело с несознательными людьми и даже с явными противниками, с упрямством закоренелых бюрократов, засевших в некоторых трестах и конторах. В то время, когда во всех концах Советской страны подымались леса новостроек, когда на развалинах, как грибы после дождя, вырастали корпуса возрождаемых фабрик, электростанций и жилых домов, когда все нуждались во всем, а возможности удовлетворить нужды были ограничены, – ничто не давалось само собой, без усилий. Каждую малость надо было разыскать, получить и пустить в дело. Надо было верить самим и убедить других. А время не стояло на месте, каждый упущенный час надо было наверстывать ценою упорного труда, бессонных ночей. И все это было бы неосуществимо без энтузиазма, без самоотверженности, без коллективного геройства. Чтобы все это было, нужна была вера, а чтобы поддержать эту веру – нужны были факты, ощутимые доказательства выполнимости плана.
В конце июля Ояр спросил Курмита:
– Какого ты мнения на сегодня о наших делах?
И Курмит отвечал:
– Пока все в порядке, но я не думаю, что так будет продолжаться и впредь, если мы успокоимся и начнем хвастаться. Последний этап решающий. А если мы не сдержим данное партии слово, веры нам больше не будет. Скажут, что Сникер и Курмит – болтуны.
– Точно так же и я думаю, Курмит. Тогда нам больше не поверят. Но этого не должно случиться.
И борьба продолжалась. Главный инженер переселился на завод, в свой кабинет; многие мастера и рабочие спали тут же в цехах; Ояр приезжал домой только на час, на два, чтобы помыться и переменить белье.
В сентябре завод получил во всесоюзном социалистическом соревновании первую премию и переходящее красное знамя. Теперь весь коллектив завода день и ночь думал об одном: любой ценой удержать знамя.
И, конечно, удержали. А за два дня до двадцать восьмой годовщины Великой Октябрьской революции Ояр Сникер и Ансис Курмит пришли к секретарю районного комитета партии Петеру Спаре и рапортовали о досрочном выполнении «Новой коммуной» годовой производственной программы. Было поздно, уличное движение уже утихало. Они втроем сидели в кабинете секретаря, и трудно было бы решить, чье лицо выражало больше радости, чьи глаза блестели ярче.
– Прошу завтра к нам в двенадцать на открытие новых цехов, – сказал Ояр. – После этого отпразднуем Октябрьскую годовщину.
– Спасибо, Ояр, обязательно буду, – ответил Петер Спаре. И как он ни устал, но последних своих посетителей не отпускал больше часа: хотелось расспросить про все подробно и, главное, поговорить о планах завода на будущий год и на всю пятилетку.
Ояр и Курмит по очереди рассказывали обо всем, и для всех троих это было лучшим отдыхом.
На следующий день в цехи завода «Новая коммуна» прибыло много знатных гостей. С интересом выслушали они немногословное сообщение директора – ведь каждый прикидывал: «А нельзя ли и на нашем предприятии так?»
Ояр рассказал, с какими трудностями приходилось бороться коллективу, пока из развалин, груды металлического лома и ободранных моторов рождалось то, чему так радовались все сегодня.
– Теперь этот завод в буквальном смысле – наш. Он нами создан, нами восстановлен – понятно, что мы любим его, как родное детище.
Он говорил, обводя оживленным взглядом аудиторию.
– Но это не единственное детище, выращенное за такой короткий срок рабочими Советской Латвии. В Риге, Лиепае, Даугавпилсе – всюду дымят фабричные трубы и, как легендарная птица, неумирающий феникс, из пепла и развалин подымается новая жизнь. Как, товарищи, есть ведь смысл жить в такую эпоху? Радостно жить и радостно работать – плечом к плечу, одним дыханием со всем советским народом…
После митинга он провел гостей по цехам, показал то, что уже есть, и рассказал, что должно быть через полгода, через два и через пять лет. Представители редакций быстро записывали услышанное, а позади всех стояла молодая женщина и не сводила глаз с улыбающегося лица директора. Это была Рута.
– Ей-ей, завидую я Ояру, – проговорил стоявший рядом с нею Петер Спаре. – Ему не приходится расставаться со своим питомцем.
– Разве ты уходишь с завода? – спросила Рута. Она еще не знала, что Петер перешел на другую работу.
– Я уже почти две недели секретарь районного комитета партии. Странное существо – человек. Знаю ведь, что завод в верных руках, сам я работаю в том же районе, всегда в курсе всех заводских дел и, если понадобится, всячески помогу, но когда в Центральном Комитете мне сказали, что надо идти на другую работу, я несколько дней скрывал это даже от Мауриня… он теперь на моем месте. Мне казалось, что я собираюсь оставить на произвол судьбы старуху мать или раненого товарища на поле боя. А когда прощался с товарищами, они так уныло глядели на меня! Теперь Мауринь каждый вечер приходит ко мне и все по старой памяти величает директором. Дня не проходит, чтобы я не заехал туда и не обошел все уголки. Вот что значит свой! В этом, наверно, и заключается великая сила советского строя, что в нашей стране все свое: наше государство, наша земля, наше право и наш труд. Все наше и все для нас. Только сумасшедший способен думать, что можно это у нас отнять.
– Один подумал, да сгинул с лица земли, – ответила Рута и вдруг, что-то вспомнив, с удивлением оглядела Петера. – Значит, ты теперь секретарь райкома? Поздравляю. А как же с университетом – остается у тебя время на лекции?
– Трудновато, но как-то ухитряешься. Я, что ли, один так? А Жубур, а Капейка, Аустра, да и ты сама! Все мы учимся… Сейчас еще легко. Вот скоро мы все получим новые задания, но даже и тогда надо будет со всем справляться.
– Ты имеешь в виду выборы в Верховный Совет?
– Да, выборы.
– У меня уже есть свой участок, я там бываю по нескольку часов каждый вечер.
…Следующие месяцы пролетели для них незаметно. Снова началась напряженная и захватывающая работа, с которой они впервые познакомились в предвоенную зиму.
Собрания избирателей, встречи кандидатов в депутаты с избирателями, беседы на избирательных участках, жалобы на бюрократов и на неполадки в торговой сети, неприятные открытия, касающиеся некоторых товарищей, которые начинали забывать о своей ответственности перед народом, демагогические, с подвохом вопросы некоторых избирателей – в общем, работы было много. Каждую жалобу и сигнал надо было немедленно проверять, непорядки исправлять, тому, кому требовалась помощь, немедленно оказывать ее. За это время все обогатились чем-то новым: и те, кто задавали вопросы, и те, кто на них отвечали.
Из тысяч мелких черточек, которые, взятые в отдельности, заключали в себе какое-то выражение характера, вырисовывалось лицо народа – мудрое, смелое, честное. В день выборов оно улыбалось теплой, солнечной улыбкой, – народ сказал свое решающее слово:
– Советская власть – моя власть, я голосую за нее!
Теперь Петер Спаре, Жубур, Айя, Рута, Курмит, Аустра, Капейка впервые после многих недель получили возможность отдохнуть. В свободные дни друзья собирались то у Петера, то у Жубура, вспоминали о пройденных вместе дальних фронтовых дорогах, делились мечтами и планами на будущее.
И о чем бы они ни говорили – о прошлом или о будущем, – имена Андрея Силениека и Роберта Кирсиса постоянно повторялись в этих беседах. Но не как мертвых вспоминали их ученики, соратники и друзья, – образы Андрея и Роберта вставали перед ними в жизненных ситуациях, они становились участниками сегодняшних дел. В трудную минуту и Жубур, и Айя, и Ояр, и Курмит, и многие другие всегда обращались как к своей совести к памяти Андрея или Роберта.
– А что бы он мне сейчас посоветовал? Как бы он поступил?
Сыны великой коммунистической партии, Андрей Силениек и Роберт Кирсис не могли умереть, исчезнуть бесследно, потому что жили они не узенькой жизнью, истраченной на заботы о собственном лишь счастье, – нет, они жили широкой, огромной жизнью партии, жизнью, исполненной борьбы за счастье всего народа. А народ всегда одаряет таких людей частицей своего бессмертия.
2
Эдгар Прамниек был до глубины души горд недавно полученной Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Латвийской ССР. За прошлый год, кроме цикла рисунков «Фашистская оккупация», он написал несколько картин, декорировал избирательные участки и общественные здания ко дню выборов и, кроме того, каждый день проводил несколько часов в Академии художеств, где вел свой класс живописи. За всю жизнь он никогда так много не работал, и никогда его работа не была такой разносторонней, как теперь. Когда Калей предложил ему оформить постановку новой советской пьесы, Прамниек раздумывал два дня, затем дал согласие и взялся за эскизы.
Конечно, если человек несет на своих плечах такой большой груз, ему уже не хватает времени на то, чтобы сидеть в кафе, для него каждый час представляет немалую ценность. Тем более приятно было Прамниеку, когда к нему забегали старые друзья. Разглядывая его работы, они напускали папиросами и трубками столько дыму, что светлая, солнечная мастерская становилась похожей на овин.
В двери уже стучалась весна, и солнечные лучи грели так сильно, что почки на деревьях почувствовали это, хотя распускаться было еще рановато.
Редактор государственного издательства Саусум чуть отодвинулся от окна, потому что солнце светило ему прямо в лицо. Карл Жубур, став за спиною Прамниека, рассматривал через его плечо новую картину, на которую художник клал последние мазки.
– Послушай, Жубур, можешь ты сказать мне одну вещь: почему это находятся еще люди, которые любят брюзжать на советскую власть? – спросил, не оборачиваясь, Прамниек. – Почему все, что делает советская власть, кажется им плохим, – даже то, что она им лично делает хорошего, даже это они принимают как-то нехотя?
Жубур засмеялся.
– На этот вопрос лучше всего мог бы ответить ты сам – старый брюзга и скептик.
Саусум поощрительно подмигнул Жубуру:
– Отстегай его, Жубур. Пусть за все разом получит.
– Прошли те времена, когда я брюзжал, – тихо сказал слегка задетый за живое Прамниек. – Нельзя всю жизнь пользоваться составленным раз навсегда представлением о человеке. Человек меняется, а вместе с ним должно меняться и мнение общества о нем.
– Я имел в виду не того Прамниека, с которым сейчас разговариваю, а того, которого знал несколько лет тому назад.
– Но тогда я ведь еще ни черта не понимал! – воскликнул Прамниек. – Я был настолько наивным, что верил только своим иллюзиям и при этом считал себя материалистом, думал, что я просто не верю ничему такому, что нельзя пощупать руками. Не могу пожаловаться, что никто не пытался мне помочь. Андрей Силениек… Эх, какой был светлый, сильный ум… Я бы, кажется, сейчас несколько лет жизни отдал, чтобы хоть раз поговорить с ним, оказать ему, что теперь стал другим… Когда-то он учил меня видеть не только то, что совершается и существует на свете, но и то, что неотвратимо должно совершиться и существовать. И надо заметить, когда он говорил о железных законах развития общества, я ведь решительно ничего не имел против этих законов, против того, что осуществляется в результате действия этих законов… Социализм и тогда представлялся мне самой лучшей, идеальной формой общественного устройства. Но мне казалось, что жизнь в целом развивается как-то по-другому – как результат многих случайностей и капризов истории, минуя, так сказать, эти законы. Классовый антагонизм, классовая борьба казались мне чем-то вовсе не таким уж универсальным, – я думал, что взаимоотношения между рабочим классом и классом капиталистов могут принимать довольно благодушную форму, думал, что при наличии доброй воли возможно компромиссное разрешение вопроса.
Коммунисты мне казались мечтателями – только очень строгими мечтателями, которые многое преувеличивают, слишком спешат с осуществлением будущего и готовы во имя его жертвовать настоящим. Мне казалось, что они требуют от человека больше, чем он может дать. Словом, я думал, что мир вовсе не так суров и отдельный человек всегда может расположиться в нем соответственно своим вкусам и склонностям, не считаясь ни с какими железными законами… Ну, что же… – Прамниек опустил кисть и на секунду умолк. – Да, жизнь за это крепко наказала меня, крепче не бывает… После разговора с шефом гитлеровской пропаганды, после тюрьмы и Саласпилса, после гибели семьи – тогда только я и понял, что коммунисты самые трезвые реалисты. Понял я тогда еще одно: единственный возможный для меня путь – с коммунистами, и это уже до конца жизни. Поэтому могу еще и еще раз подтвердить: да, я ничего не понимал, иного объяснения тогдашней своей тупости не нахожу.
– Вот ты сейчас сам ответил на свой вопрос, почему иным людям все, что делает советская власть, кажется плохим, – сказал Жубур. – Тогда ты многого не понимал. Те, кто еще сегодня ворчат на нас, тоже многого не понимают. Иной не хочет отказаться от старых привычек, боится нового, не зная и не понимая его, а его отношение обусловливается просто грошовым подсчетом плюсов и минусов в собственном материальном положении. Некоторым принцип «каждому по труду» кажется неприемлемым, потому что их потребности больше их заслуг, кроме того, они привыкли при буржуазном строе получать больше, чем заслуживали, ясное дело – за счет других, которые не получали полностью заработанного.
– Это слишком простое объяснение, – сказал Прамниек.
– Зато верное, – заметил Саусум.
– Нельзя так элементарно объяснять такой сложный вопрос, – не сдавался Прамниек. – Сегодняшний жизненный уровень – величина изменяющаяся, и каждый разумный человек, а среди этих ворчунов не все дураки, понимает, что за несколько лет материальный уровень всего народа может подняться на небывалую высоту. Почему все-таки они недовольны и слышать не хотят о неоспоримой правоте коммунизма? Консерватизм? Идеалистические предрассудки? Нежелание расстаться с богом? Но они сами в этого бога давным-давно не верят, для большинства религия только вывеска над дверями лавочки. Упрямое, принципиальное нежелание воспринять то, чего они сами не искали?
– Суеверие, – заговорил Саусум. – В средние века церковь, как идеология и главная охранительница реакции, объявляла ересью и чертовщиной все новое, прогрессивное; ученых жгли на кострах, каждое новое открытие в астрономии, медицине, физике осуждали, как вмешательство в компетенцию господа бога. Сейчас господь бог капитулировал на всем широком фронте науки, на его когда-то неприкосновенной территории хозяйничают как у себя дома ученые, и никому не приходит в голову обвинить их в ереси и тащить на костер. Наоборот: если у папы римского заболит живот от неумеренного потребления земных благ, он лечит его не молитвами, а принимает испытанное лекарство. Следовательно, в этой области все как будто в порядке. Коммунизм же объявил войну не только духовному, но и материальному суеверию, экономическому консерватизму. Он несет новую правду и новые нормы справедливости. С частной собственности сорван ореол божественности, и в понятии современного человека она становится вопиющей бессмыслицей, злокачественной опухолью, которую необходимо удалить посредством операции, каннибализмом, против которого направлены законы социалистического государства. Реакционеры и все их приспешники не дают себе труда познать эту новую правду или не в состоянии органически понять ее. Они видят в ней лишь кощунство по отношению к старым святыням, угрозу своему гибнущему миру и, не будучи в силах спасти его в открытой идейной борьбе, прячутся за свои тупые предрассудки, как за крепкий щит. И сколько есть на свете глупцов и подлецов, столько же у них единомышленников.
– Ну, товарищ Саусум, вы здесь что-то путаете, – сказал Жубур. – Во-первых, мы о разных вещах говорим. Эдгар ведь спрашивал о тех людях, которые объективно выигрывают в социалистическом обществе, хотя еще не доросли до понимания этой истины. Мне кажется, что он имел в виду некоторых представителей интеллигенции, зараженных предрассудками капиталистического общества. Об этом разряде людей можно сказать, что они заблуждаются оттого, что не понимают законов исторического развития. Их действительно в большинстве случаев можно перевоспитать и надо перевоспитывать. Но ведь по вашим словам получается так, что империалисты – это что-то вроде жертв собственной темноты и невежества. Право, можно так понять! Это что же, если хозяевам Уолл-стрита, например, прочесть несколько хороших лекций по историческому материализму, так они вам и согласятся, что до сих пор были глупыми, а впредь образумятся и станут вести себя хорошо? Вреднейшая иллюзия, товарищ Саусум. Они и сами давно понимают, что далеко не благополучны дела в лагере империализма. Ну и что же, готовы сложить по этому поводу оружие? Да ничего подобного, они обращаются и будут обращаться к самым жестоким, бесчеловечным формам борьбы, чтобы отстоять мир эксплуатации, общественного неравенства, грубой власти денег. Ведь что такое фашизм? Это и есть оружие отчаявшегося издыхающего капитализма. После поражения Германии и Италии его не выбросили на свалку, нет, его старательно подбирают и подновляют заботливые руки.