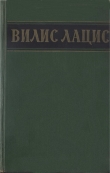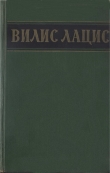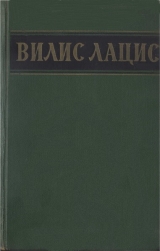
Текст книги "Собрание сочинений. Т.5. Буря. Рассказы"
Автор книги: Вилис Лацис
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 36 страниц)
© Перевод Я. Шуман
Бэлла – сука доктора Фридмана ощенилась пятью щенками в тот же день, когда Леда, принадлежащая торговцу с барахолки Майсиню, принесла семерых. Собаки были соседками. Хотя темно-серая остроухая немецкая овчарка Бэлла большую часть своей жизни проводила в гостиной, нежась на тигровой шкуре, а дворняжка неизвестной породы Леда свои дни коротала во дворе, они хорошо знали друг дружку. Если бы какому-нибудь досужему американскому генеалогу вздумалось исследовать родословную всех двенадцати новорожденных щенков, то они оказались бы довольно близкими родственниками. Хорошо натасканным ученым, которые за приличную мзду могут любого миллионера превратить в потомка королевского рода, несомненно, было бы под силу привести в порядок и родословную дворняжки…
Молодые отпрыски Бэллы мало радовали доктора Фридмана: из пяти слепых, визжащих маленьких существ только трое казались чистокровными овчарками, а двое определенно были потомками уличных бродяжек. Семья же Леды состояла из представителей самых разнообразных пород. Там были и черные с белыми пятнами, и желтые длинношерстые, и обещавшие в будущем стать курчавыми. Сама Леда нисколько не была привлекательна: длинная, темно-серой масти, с коротковатым, как бы съежившимся хвостом, с белым пятном на крестце. Как бы там ни было, но своих детенышей она защищала с такой же яростью, как любая собачья аристократка. Даже мальчишки барахольщика Майсиня не осмеливались приближаться к логову Леды в дровяном сарайчике. Каждому смельчаку, который намеревался переступить порог сарайчика, угрожали белые собачьи зубы. Свобода передвижения кухарки доктора Фридмана по кухне была сильно ограничена. Бэлла со своим потомством расположилась в углу за плитой.
Пока щенки были еще слепы, они не отползали дальше своего логова, их вполне устраивала близость теплого мохнатого существа. Это греющее и питающее их тело казалось им всей вселенной. Но в один прекрасный день малыши прозрели. Огромный мир открылся их взорам! Сарайчик и кухня, казалось, были насыщены грозными силами. Чувствовать себя в безопасности можно было только под боком матери, их кормилицы, которую они узнавали по запаху.
Однажды, когда щенки подросли настолько, что начали бродить подальше от своего логова, жена барахольщика Майсиня заманила Леду в квартиру и дала ей полакать немного молока. В это время сам Майсинь уложил щенков в большую бельевую корзину, оставив в логове для утешения Леды только одного. С остальными щенятами Майсинь подался на барахолку. Проходя мимо соседских ворот, он встретился с доктором Фридманом, который услышал визг щенков и поинтересовался содержимым корзины.
– Хм, у меня дома пятеро таких же, – сказал врач. – Дал бы вам хорошо заработать, если бы вы взяли их тоже продать…
Он умолчал о том, что уже предлагал щенков своим знакомым, но у всех были собаки, а увеличивать свое хозяйство животными сомнительных кровей никому не улыбалось. Сейчас были в моде чистокровные породы с родословными свидетельствами.
– Какой у вас породы щенки, господин доктор? – поинтересовался Майсинь.
– Немецкие овчарки. Мать – третье поколение от волка.
Это дельце сулило прибыль, а Майсинь был не из тех, кто упускает случай и возможность заработать. На барахолке Майсинь появился с двумя корзинами.
У Бэллы похитили четырех щенят. Маленькие создания, не чувствуя возле себя привычного тела матери, жалобно скулили и тесно прижимались друг к дружке. Собачий ряд барахолки навещался разным людом. Иные были действительно серьезными покупателями, они интересовались качествами и достоинствами щенят и справлялись о норове и повадках суки, другие заглядывали сюда, чтобы побалагурить с продавцами. Некоторые продавцы привели с собой матерей щенков и демонстрировали их как образец, гарантирующий высокое качество товара. Несомненно, собаки были стройны, и претендовали на честь родства с волками. Но если бы кто-нибудь из действительных покупателей подробнее поинтересовался родительницами этих щенят, его поразила бы их плодовитость: корзины продавцов ежедневно пополнялись различными шавками, а одну и ту же стройную собаку с навостренными ушами представляли как их доподлинную родительницу. С одинаковым успехом она могла признать своими потомками бульдогов, терьеров или мопсов и сенбернаров. Но публике нужна была гарантия, а для гарантии требовались стоячие остроконечные уши…
Около полудня на базаре появился плотный розовощекий мужчина в серой одежде. На берегу реки Лиелупе ему принадлежали большой хутор и лавка. С ним был долговязый подросток в фуражке школьника.
– Ну, как дела с собаками? – обратился кулак к Майсиню. – Стоящий ли у тебя товар?
Этот человек был знатоком собак. Он перебирал, переваливая с боку на бок, всех щенят Майсиня и испытывал их выносливость, приподымая тремя пальцами за шкурку. Заскуливших он тотчас клал обратно в корзину и больше не уделял им никакого внимания. В конце концов ему понравился щенок черной масти из длинношерстых, который терпеливее всех переносил испытание. Маленький чернушка позволял себя переворачивать и щупать.
– Вот это будет пес. Что просишь за него?
– Десять латов.
– Ну и ну, рехнулся! Десять латов? Все ли у тебя дома? Чтобы за этакого лохмача давать десять латов. Стыдись, человече!
– Нечего стыдиться. Очень сердитая порода. Жаль, что не привел мать, – настоящая волчиха…
– А почему вислоухий?
– Разве вам не известно, что у щенят немецкой овчарки уши делаются стоячими только на четвертом месяце?
– Гаральд, так ли это? – обратился хуторянин к долговязому подростку.
– Да, так говорят…
Маленького чернушку купили за шесть латов.
– Папа, он не серой масти. Теперь все заводят себе серых овчарок. Нерон у лесничего, Писарев Марс, учительский Фило – все серой масти.
– Ну, и что же?
– Господин, у меня есть и серые… – напомнил Майсинь. – Похожи на настоящих волчат…
Хуторянин немного подумал, почесал подбородок и решил: «В чем же дело? Будем растить двух щенков. Старому Караву скоро придется дать отставку».
Таким образом обыкновенный чернушка Леды, за которого отдали только шесть латов, получил спутника и товарища – серого от Бэллы, стоимостью в десять латов. В тот же вечер, помещенные в пустую корзину, они предприняли свое первое путешествие – их увезли из Риги. Черному дали кличку Боб, серого, как истого представителя породистых собак, прозвали Джеком…
Случилось это в летние каникулы, и за первоначальное образование собак взялся Гаральд. Вооружившись вычитанными в журналах советами по дрессировке и воспитанию собак, он решил применить все известные ему способы, чтобы его воспитанники стали образцовыми экземплярами. Прежде всего следовало определить карьеру каждой собаки. Чистокровного Джека было решено воспитывать, как игрушку, которую по воскресеньям можно было бы брать с собой, когда идешь в церковь, показывать знатным людям волости и, как равного, ввести в общество собак лесничего, писаря волостного управления и учителя. Само собой понятно, что ему надо было пройти лучшую школу, научиться вести себя должным образом, приобрести хорошие манеры. Бобу же решили со временем передать цепь и конуру старого Карава, поэтому от него, как от будущего цепного пса, требовали злости и звериной ярости. Казалось, что характеры обеих собак как нельзя больше подходили к этим карьерам. Джек был смышленой, внимательной собакой. Он быстро понял, что благополучие всецело зависит от долговязого подростка и его отца, что послушное выполнение их приказов избавляет от ударов плетеного арапника и, кроме того, приносит кое-какое лакомство. Отчасти боясь арапника, отчасти соблазняясь кусочками сахара, Джек признал власть подростка и стал подлизываться к нему. Он быстро научился сидеть, становиться на задние лапы, держать в зубах папиросу, ложиться, облизываться по приказанию и носить порученные ему вещи. Это было выгодно, ибо после каждого такого трюка следовало вознаграждение. Джек был хорошей породы и соображал, откуда идет добро. Он заметил, что толстяк с розовыми щеками является здесь главным, все его боятся, все его слушаются – значит, к нему следовало проявлять особое внимание и привязанность.
На каждый зов или оклик хозяина Джек подобострастно вилял хвостом. Иногда он ложился у ног хозяина и время от времени украдкой лизал ему руку. Это было наивысшей лестью, какую собака могла выразить. Это должно было показать, что нет на свете ничего слаще хозяйской руки. Гаральд научил Джека ненавидеть всех оборванцев, всех чужих, с которыми сам был груб.
С Бобом было труднее. Его предки свободно кочевали по улицам пригородов, промышляли пропитание и не привязывались ни к одному из тех двуногих существ, которые при каждом удобном случае угощали их пинком или камнем. Уже при первой попытке дрессировки команда «ложись» пробудила в нем чувство сопротивления. Он не понимал, к чему такое лежание, и совсем не давал себе труда упражняться в нем. Но каждый раз, когда он упрямо вставал на ноги, его били; если не помогали оплеухи, его хлестали арапником. Всовывать себе в рот папиросу он тоже не позволял, и однажды, когда Гаральд попытался силой разжать ему челюсти, он впервые укусил его. И странно: грозное двуногое существо отпрянуло в сторону, вытерло пальцы и никогда больше не пыталось лезть в пасть Боба. Порку он, конечно, получил, но она отнюдь не вселила в него благоговение: он еще больше возненавидел это злое, причиняющее боль создание. Позже, когда порки стали повторяться слишком часто, Боб понял, что их можно избежать. Не надо только при каждом окрике подростка боязливо прижиматься к земле. Издали тот ничего плохого сделать не мог, а камни, которые он швырял, не попадали в цель. На зов Гаральда Боб теперь не реагировал – он притворялся глухим. Он совсем не смотрел в его сторону и, занятый каким-нибудь своим делом, убегал подальше. Наконец, педагог бросил всякую надежду сделать из него умное, послушное животное. Однажды этот вопрос был обсужден на семейном совете за ужином.
– Ну, если он не хочет ничему учиться, не надо, – заключил хозяин. – Ему эта учеба и не нужна. Был бы только злым, тогда все в порядке…
Все приметы Боба свидетельствовали об отваге. Чтобы развить в нем врожденный инстинкт недоверия к людям и сделать злость преобладающим качеством характера, его стали систематически злить по специально продуманному методу. Боба запирали в комнату и часами всячески дразнили. Тыкали в морду палкой, ловили за хвост, за шиворот, словом – тиранили. Вначале, устав от таких мучений, Боб пытался вымолить сострадание, жалобно скулил, стараясь найти прибежище у ног хозяина и хозяйки. Но его никто не жалел, все его отталкивали, и протесты несчастного животного становились все отчаяннее. Он начал грызть палки, которыми его дразнили, с оскаленными зубами набрасывался на своих мучителей, а если осмеливались хватать его за хвост, Боб, не задумываясь, впивался в руку. Его дразнили, старались причинить боль, и животное стало избегать человека. Часто он прятался где-нибудь в сторонке и в одиночестве жалобно стонал и тихо скулил, жалуясь на непонятную ненависть, с которой обрушивался на него весь мир. Людей он стал считать своими врагами и на всех, пытающихся к нему приблизиться, скалил зубы и предостерегающе рычал. Боб день ото дня становился все злее, в нем росла слепая ненависть к людям.
Со временем Боб поумнел. Наблюдения привели его к выводу, что преследовали его лишь на своем дворе, там, где все подчинялись толстому, краснолицему человеку, а на улице и на берегу реки его никто не трогал. Встречались даже такие странные двуногие, которые старались его приласкать и бросали ему что-нибудь съестное. Но недоверие к человеку так глубоко засело в сознании Боба, что он никого к себе не подпускал. Поняв, что вне его собственного двора никто не дернет его за хвост и не будет совать ему палки в морду, Боб все чаще предпринимал продолжительные прогулки. Вместе с другими молодыми собаками он мог целыми часами, бегать по лугам и полям так далеко от своего дома, что постройки хозяйского хутора скрывались из виду. В обществе собак он был спокоен. Ему не приходилось никого опасаться; наоборот, здесь все боялись оскала его зубов и сердитого рычаний. Даже старые псы почтительно относились к его рычанию и обнюхивались с Бобом как с равным, не пытаясь демонстрировать свои боевые способности.
После многих трепок и колотушек Боб так привык к физической боли, что незначительные царапины, которые случалось ему получить при буйной возне с другими собаками, его совсем не беспокоили. Что это была за радость – в веселой, резвой и шаловливой своре носиться по полям, валяться на лугу, окрести землю, пока не заболят когти. И там еще была река… Когда в полуденный зной становилось слишком жарко, можно было заплыть далеко-далеко. Охваченное приятной прохладой тело становилось бодрее, дыхание легче, не надо было больше высовывать язык. Хорошо! Выкупавшись, собаки отряхивались и, чтобы согреться, гонялись друг за дружкой. Унаследованный от предков охотничий инстинкт заставлял их сливаться с землей, как бы таиться от врага, чтобы затем внезапным прыжком бросаться навстречу одна другой. Боб озорничал, охваченный диким восторгом. Первым кидался в воду, переплывал реку, часами гонялся за воронами. На воле и в постоянном движении его тело быстро развивалось, лапы становились сильными и приобрели ловкость. Единственной тенью, ложившейся на его радости, было возвращение домой. Неизвестно за что хозяин каждый раз кричал на Боба, топал ногами, иногда даже хватал за шиворот и бил вожжой. Очередная порка была делом привычным, но так как за ней следовала миска с ужином, то первое не могло еще отпугнуть Боба от дальнейших странствований.
Джек был слишком умен, чтобы причинять страдания своему телу, поэтому он слушался своего воспитателя. Он не бегал, не шатался с грязными собаками, сопровождал Гаральда по вечерам на прогулках. Обычно, забежав шагов на двадцать вперед хозяина, Джек останавливался и поджидал его… Во всех его повадках было заметно влияние культуры.
Наступила вторая половина лета. Сенокос был закончен, на полях убирали хлеб. Боб не понимал, почему в тот день хозяин пришел к реке и поманил его. Остальные собаки остановились и с безопасного расстояния наблюдали это странное явление. Хозяин подбрасывал Бобу лакомые куски и показывал, что у него в руке их еще больше. Искушение было слишком велико, и Боб подошел к хозяину. Вокруг шеи ему обвязали веревку и повели домой. Оглядываясь, Боб видел, что стайка оставшихся собак вновь оживилась, там снова началось веселое озорство. Он хотел вернуться к друзьям, но едва начал упираться, как хозяин просто поволок его по земле. Приятного в этом было мало. Боб не знал, что старый Карав взбесился и хозяин пристрелил его сегодня утром. Конура была пуста, цепь валялась на песке. На Боба надели кожаный ошейник, цепь и оставили одного.
– Набегался, голубчик, теперь ты мне побегаешь…
Боб никак не мог понять, почему на этот раз его не били и так скоро оставили одного. Ворота были открыты, а по дороге как раз проезжал на рессорной телеге крестьянин. За телегой, высунув язык, бежала большая пестрая собака. Боб встрепенулся, вскочил на ноги и бросился к воротам, но тотчас же произошло нечто необычное. Что-то резко ударило его спереди по горлу, сперло дыхание, и ужасное незримое существо не позволило ни шагу шагнуть вперед. Когда Боб немного отступил, стало легче дышать и двигаться. Странно! Еще много раз вскакивал Боб на ноги, бросался то в одну, то в другую сторону, но всегда на определенном расстоянии от конуры ему сжимало шею и незримая рука не пускала его дальше. Только к вечеру Боб понял, что он неразрывно связан с цепью и принадлежащей теперь ему конурой. Если бы в его силах было потащить за собой конуру, он смог бы уйти отсюда. Пес, цепь и конура составляли одно целое. Тогда Боб утихомирился и загрустил. Он прилег возле конуры и грустно глядел в глаза каждому проходившему мимо него. Ведь это было только небольшим капризом хозяина, кто-нибудь должен прийти и отпустить его на волю. Жалобно скуля, Боб улыбкой приветствовал хозяйку, Гаральда, батрачку, но никто не обращал на него внимания, не находил для него ни одного слова. Вечером пришла батрачка, принесла и оставила миску с едой, но Бобу и на ум не приходило полюбопытствовать, чем сегодня полна миска. Поняв, что никто не собирается помочь его беде, Боб отчаялся. Тоска по свободе заставляла его снова и снова вскакивать и рвать цепь. Все яснее сознавал он, что эта бренчащая тонкая привязь является единственной причиной, мешающей ему уйти отсюда. Его обуяла неимоверная злость. Он прилег на землю и начал грызть цепь. Сначала яростными, быстрыми укусами, потом – медленными, но рассчитанными. Зубы скрежетали, но перегрызть цепь было невозможно. Боб долго отряхивался в надежде стряхнуть с себя этот обременяющий предмет. Но все было напрасно.
Наступила ночь. Кур загнали в курятник, и двор опустел. В одиночестве отчаяние Боба усилилось еще больше. Он скулил и коротко, отрывисто завывал. Всю ночь не замолкал он, всю ночь бряцала цепь, поскрипывала от резких рывков конура. Около полуночи на двор вышел хозяин. Думая, что его сейчас освободят, Боб начал радостно прыгать, но его ошарашил внезапный свист кнута. Острая боль ожгла спину, еще и еще… Градом сыпались на него удары. Боб нырнул в конуру.
– Перестанешь ли, сатана этакий! Развозился так, что весь дом ходуном ходит. Попробуй мне еще повыть, я те задам…
И чтобы пес запомнил надолго его слова, хозяин впридачу ударил еще кнутовищем по крыше конуры. Но только закрылись за хозяином двери дома, Боб снова вылез из конуры и снова принялся жаловаться; сначала он скулил боязливо, тихо и, наконец, завыл громко, отчаянно. Так он вел себя всю ночь. Не переставал и после того, как хозяин второй раз вышел из дому и оглушил его арапником… А утром, когда ожил двор, его охватило неудержимое чувство жалости к себе. По двору свободно расхаживал Джек, а по улице и полям бегали на свободе другие собаки. Боб всем своим существом рвался к ним, вел себя, как безумный, и грыз углы конуры. В полуденный зной он вспомнил о прохладных водах реки. Ему надо было выкупаться, поплавать, любой ценой добиться этого. Приходили люди, бранили, бросали в него палки и не хотели понять, почему он так воет. Он не вымаливал ни костей, ни остатков супа, ни молочной сыворотки – он хотел только, чтобы его кто-нибудь освободил. Но и в этой малости люди ему отказывали. Только к вечеру второго дня Боб впервые обнюхал свою миску с едой. Голод подавил отчаяние.
Никто не освобождал Боба от цепи. Он был присужден к пожизненному заключению. Отчаяние первых дней прошло, и пес примирился со своей судьбой. Он больше не скулил от грусти – он научился подолгу выть. По ночам, когда ветер доносил до него лай чужих, свободных собак, Боб садился перед своей конурой и подолгу, без остановки выл. Эти жуткие, протяжные звуки раздражали домашних. Вой Боба не переносил даже Джек, который в такие минуты вскакивал со своей подстилки и в смущении вертелся около конуры Боба.
Джек стал стройным востроухим псом. Он научился всяким премудростям. Ему купили шикарный ошейник с приклепанными никелированными бляшками, на одной из которых было выгравировано европейское имя «Jack». Когда ему не хотелось спать или не надо было сопровождать Гаральда, Джек от скуки приходил играть со своим сводным братом. Это были самые светлые минуты в жизни Боба. Позабыв о бряцающей привязи, Боб оживал, припадал всем телом к земле, следя за каждым шагом Джека, и стоило только тому приблизиться, как Боб делал стремительный прыжок вперед. Редко удавалось ему схватить Джека. Тот был достаточно умен, чтобы не подходить совсем близко, поэтому в большинстве случаев Боб оставался в дураках. Джек тогда издали дразнил Боба, прыгал перед его носом, подходил ближе, давал Бобу время приготовиться. Но едва тот приседал для прыжка, Джек отскакивал назад. Бобу оставалось только повизгивать. Ему так хотелось потрепать серую шубу Джека, дать пощипать свою шею! Иногда Джек действительно подходил совсем близко, ложился перед конурой и, валяясь на спине, озорничал с Бобом. Но стоило только зубам Боба слишком глубоко впиться в шерсть Джека, как умный, культурный пес снова уходил. Напрасно пленник скулил и заискивающе вилял хвостом. Востроухий не подходил… Неумолимее всего он был тогда, когда хозяин или Гаральд собирались куда-нибудь уходить. В ожидании предстоящей прогулки он с важным и гордым видом садился у ворот, как будто выполняя какое-то особое поручение. Горделивее своего господина выбегал он за ворота, туда, где по дороге ездили и бегали чужие собаки. А Боб мог только рвать цепь и пугать диким лаем людей.
– Ведь это же настоящий лев. Сорвется – растерзает на месте! – говорили они.
Боб ненавидел все недосягаемое для него, все, что двигалось за пределами того полукруга перед его конурой, который ежедневно вычерчивался его цепью. Маленькое пространство, до трех метров в ширину и до шести в длину, было запретным для всех углом двора. Страшное чудовище грозилось там с утра до вечера. Боб ненавидел всех без исключения: животных, птиц и людей. Все его боялись. Один только хозяин осмеливался приближаться к конуре, так как в его руке был плетеный арапник. Боб уважал арапник, похожий на живое существо, умевший кусаться сильнее любой собаки. Если во двор входил кто-либо из чужих, Боб бесновался, как одержимый. Беспрестанно носился он по полукругу, быстро поворачиваясь, и лаял, захлебываясь, так яростно, что у каждого, кто это слышал, пробегали по спине мурашки при одной только мысли о том, что пес сорвется с цепи… Но цепь была прочная, старый Карав безуспешно дергал ее целых шесть лет.
Да, сторож из собаки вышел на славу, иной сосед плевался от зависти: «Эх, будь у меня такой!..»
Дикость, привитая ему людьми, ценилась, как заслуга. Если бы Боб ночью перегрыз какому-нибудь бродяге горло, его бы восхваляли, а утром батрачка принесла бы подойник и дала бы ему вылизать молочную пену…
У хозяина был большой желтый откормленный код. Общий баловень, он мог себе позволить все: мог посещать лавку, тереться около мешков с сахаром, нюхать сельдяную бочку. В комнатах ему разрешалось прыгать на любую кровать и ложиться на подушки. Его любили, так как с каждым днем он все больше жирел, свидетельствуя этим хозяйское процветание и зажиточность. Во дворе он любил прилечь где-нибудь в тени и лениво потягиваться, переваливаться с боку на бок, пока его внимание не привлекал какой-нибудь воробышек или жук. Боб ненавидел этого желтого кота. От злобного напряжения его лай становился хриплым, пес весь дрожал от невыразимого стремления дорваться до отвратительного существа. Хладнокровие и непоколебимое спокойствие кота еще больше бесило пса. Кот был осторожен, никогда не подходил слишком близко к конуре. От лени его хвост волочился по земле. Однажды этот умник все же оплошал. Он влез на крышу конюшни, у дверей которой стояла собачья конура. Возможно, он забрался туда в погоне за воробьями, а может быть, просто так, снедаемый необъяснимой любовью к приключениям. Кто-то, наверное, его спугнул, – впопыхах он спрыгнул с крыши на землю, совершенно не обратив внимания на то, что находится внизу. Спрыгнув, он очутился прямо перед Бобом. Пес от неожиданности даже не зарычал. Но мгновением позже кровожадность и ненависть вспыхнули в нем с такой силой, что коту не помог и последний его виртуозный прыжок обратно на стену – когти не удержались, он соскользнул, а внизу его ждала раскрытая пасть Боба.
Боб мотал кота из стороны в сторону, как старую тряпку, стиснув зубы в мертвой хватке. Только один дикий вопль успел издать кот и мгновенно превратился в кровавый бесчувственный комок… Но Боб еще долго не выпускал его из своих зубов. Он бил его оземь, пока, наконец, не бросил на песок, прижал лапой и радостно заскулил, торжествуя победу.
Хотя собака только демонстрировала привитый ей людьми характер, хозяин не мог простить Бобу смерть любимого кота. Если бы это был соседский кот или даже какое-нибудь создание людской породы, тогда – другое дело. Можно было бы даже порадоваться: вот это собака! Но желтый Мурка был так дорог, что Боб снова получил порку – на сей раз его били новой прогулочной плеткой, которой пороли только Джека. Для Боба это было большой честью, но он, сорванец, не сознавал этого и, жалобно скуля, зализывал свои новые раны.
Еще три года Боб провел на цепи. От постоянного лая голос его охрип. Лай стал истеричным. Начав внезапно, пес лаял без остановки, но так же внезапно замолкал и, скрывшись в конуру, злобно наблюдал оттуда за своими владениями…
Однажды весной, когда солнце уже высушило лужи, Боб, обегая свой полукруг, вдруг почувствовал что-то необычное, что-то забытое. Тяжесть на шее исчезла, а бренчащая цепь больше не путалась в ногах. Удивительно легкими стали шаги, тело стало как бы невесомым. В первое мгновение пес не сообразил, что же в действительности случилось. Боб пробежал еще несколько раз по полуокружности, поворачиваясь в обычных местах, затем остановился и, обнюхивая землю, двинулся к воротам. И странно: у обычной границы ошейник не врезался больше в шею, можно было двигаться вперед. Тогда он несмело, вприпрыжку побежал по двору, все еще ожидая удара в шею. Но удара не последовало, он мог бегать повсюду. Конура осталась где-то далеко позади, перед ним на песке валялась его цепь. Наконец, Боб понял, что он свободен. Старая цепь проржавела, и одно звено лопнуло. На шее у Боба было всего только несколько звеньев. Обезумев от радости, пес, вертясь волчком, начал ловить свой хвост. Но тогда и люди заметили случившееся. Толстая служанка от ужаса в первую минуту потеряла дар речи. Грозный пес сорвался с цепи – что же теперь произойдет! С криком ворвалась она в дом и подняла всех на ноги. Хозяин выскочил во двор и стал подзывать к себе Боба, но тот, казалось, совсем оглох, – без оглядки он выбежал на дорогу и, не раздумывая, пустился со всех ног наутек – только вперед, только вперед!.. Затекшие лапы ныли. С рысцы он перешел на галоп. По дороге навстречу шли люди. Боб не обращал внимания на их испуганные лица, не замечал он и того, как люди перескакивают через канаву, точно ожидая нападения вырвавшегося из неволи зверя. Он не чувствовал злобы ни к кому из них, ему совсем не было времени думать о чем-либо подобном. Свобода, прекрасная, долгожданная свобода, наконец-то она снова обретена! В один день ему хотелось вернуть все утерянное им за эти годы. Вот впереди виднеется река, дальше – лес. Всюду ему нужно поспеть!.. Он бросился в прохладную воду, проплыл изрядный круг и вылез на берег продрогшим, но довольным; потом, крепко отряхнувшись, вывалялся в песке и снова бросился бежать. Не оглядываясь по сторонам, он несся вперед с такой поспешностью, словно там его ждало что-то совершенно неотложное… На перекрестке Боб свернул вправо. Скоро он очутился на узкой проселочной дороге. От долгого бега Боб устал, шаги его замедлились, и он стал оглядываться по сторонам. Удивительно, каким чужим казалось ему здесь все. Не видно было ни хозяйских окон, ни кур, ни конюшни. Вокруг – зеленые поля, вдали – незнакомые хутора, там и сям слышен лай чужих собак. Из какой-то усадьбы выскочили два пса. Задорно лая, они добежали до самой дороги, но, увидев Боба, остановились и, смущенно виляя хвостами, подошли, чтобы познакомиться. Боб уже давно не обнюхивался с чужими собаками, поэтому он тоже остановился. Опьянение свободой и неистовство прошли. Бобу захотелось поиграть, и так как обе чужие собаки ничего против этого не имели, он резвился, озорничал и бегал с ними. Но вскоре со стороны чужой усадьбы раздался повелительный голос: «Дукси, Мунтер! Домой!»
Оба героя проселочной дороги незамедлительно вернулись домой. Боб продолжал свой путь. Он бегал повсюду. Уже смеркалось. Все больше давал себя чувствовать голод. Под вечер Боб снова увидел свой хутор. Все строения и прилегающая местность ему были знакомы. Каждую мелочь он знал издавна. Голоса, которые доносил ветер, были ему так же привычны, как приближающиеся запахи. Бессознательно, руководимый инстинктом, Боб снова очутился у дома своего хозяина. Усталый, прилег он отдохнуть на пригорок и, тяжело дыша, глядел на усадьбу. За ворота вышел хозяин. Он шел прямо к нему. Боб приподнялся, готовый убежать. Тогда хозяин остановился. Ах, как участливо смотрел он на Боба, каким ласковым и воркующим был его голос! Он что-то держал в руке и показывал Бобу. А когда Боб не сообразил, в чем дело, он отломил кусок и бросил ему. Это был не камень. Камни не намазывают желтой лакомой едой. Боб жадно проглотил этот подброшенный ему и намазанный маслом хлеб. Вкусный кусок вызвал еще больший аппетит. Хозяин был совсем добрым. Он не бранился, и в руке у него не было арапника. Вот он снова бросил кусок и подошел еще ближе. В руке у него оставалась еще изрядная краюха хлеба.
– Подойди же, Бобик, си, си, си… Пойдем домой! Кушай, Бобик, кушай, кушай, песик!
Все ближе подходил хозяин, все явственнее виднелась намазанная маслом краюха хлеба в его руке.
Только несколько мгновений сомневался Боб. Тяжело было противостоять тайному искушению. Он капитулировал: смущенно повилял хвостом и покорно прижался к земле, когда хозяин взял его за ошейник. Хлеб с маслом он получил, но ласковый двуногий перестал его гладить. Волоком притащил он опешившего Боба к себе во двор…
В тот вечер Бобу досталась новая цепь. Ее только что привезли из Риги, и она была намного тяжелее старой. Ее должно было хватить на всю жизнь.
Два года прошло с тех пор, как Боб порвал свою старую цепь. Снова наступило лето. На конуре обновили крышу, – состоятельный хозяин внимательно относился к грозному сторожу своего владения.
У Боба стали обнаруживаться первые признаки старости. Все меньше его тянуло порезвиться с товарищами. Когда молодые собаки заигрывали с ним, он их кусал. Волосы на кончике его морды поседели. Больше всего ему нравилось лежать, и часто он засыпал длительным, подобным человеческому сном. У него повыпадали зубы. Он стал мрачен и почти никого к себе не подпускал. Лаять он лаял меньше прежнего, но свою неослабную ярость выражал ужасным рычанием. Иногда, как бы что-то надумав, начинал лаять, но сразу же обрывал свой лай и сконфуженно заползал в конуру.
Когда на дворе никого не было, Боб погружался в полудремотное состояние. Он мечтал, и ему снились разные сны. Обыкновенно ему снились лакомые куски, перепадавшие изредка за его долгую собачью жизнь, но чаще всего в мечтах он видел себя на свободе – без цепи, где-нибудь на зеленом лугу, на берегу реки, в беззаботной толпе других свободных собак. Как хорошо было бы порезвиться, убежать куда глаза глядят, поиграть, а то и подраться с другими псами… Да, хорошо… Но он не может никуда уйти – тяжелая цепь держит крепко.