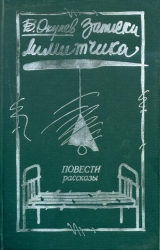
Текст книги "Записки лимитчика "
Автор книги: Виктор Окунев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 24 страниц)
Художник Жаринов
Этого дома теперь нет – как и многих других в Замоскворечье. Должно быть, его со спокойной душой смахнули – одноэтажный, деревянный, со множеством маленьких окон, – он был выкрашен в скучный коричневый тон. Напоминал барак. Хотели сносить полквартала, весь этот гнилой угол, еще при мне. Но и после меня дом держался, герани все так же выглядывали, провинциально алели из-за разбитых и наставленных стекол, – за ними мутно отстаивалось время, слышались задавленные его толщей голоса. Что-то желтело. Однажды в марте приехал в Москву, как всегда приезжаю, – с беспокойной, гоняющей меня по свету мыслью увидеть, проверить свое прошлое: знакомые улицы, переулки, дома, где начиналось или завершалось многое. Командировка была на незнакомый Лихоборский завод, выпускающий линолеум. Плутал в том районе, ориентиром должна была служить речка, но она куда-то запропала, все же верил, что отыщется. А сам, между тем, представлял, как вечером поеду туда, где меня никто не ждет, выйду из метро и медленно, оглядываясь по сторонам, пойду, например, по Новокузнецкой, а затем сверну в переулок, который звался когда-то, как говорила Лопухова, Большой Болвановкой; сердце вздрогнет и – мимо, мимо башни с квартирами артистов и этого, барачного, дома злого, где жил или претерпевал жизнь художник Жаринов со своей беспутной Ладой...
Речка Лихоборка нашлась, мелькнула живой обнаженной чернотой в снеговых берегах; тут же вознеслась высоко насыпь железной дороги; нашелся и завод с заслякоченным, в разъезженных машинных колеях, двором. А вот дома жариновского вечером не обнаружил – вместо него, между двухэтажками-двойняшками, царила оцепенелая пустота, чернело там и белело. И, стоя перед этой пустотой, я спросил вслух:
– Где же ты, Жаринов?
Оглянулся – в переулке было пусто. Только в телефонной стекляшке на углу на просвет виднелся кто-то, как большой паук в посуде...
И куда делись отсюда все? Живут, наверное, где-нибудь на окраинах, в знаменитых ныне микрорайонах; а Москва все разрастается, поглощает все новые и новые территории – неостановимо, непостижимо.
Художник был тот самый человек, у кого глаза – как на вожжах. Обнаружил его в утлом жилище – он был из самых злостных неплательщиков, из непотопляемых, которым нечего терять. И такими же неплательщиками оказались его соседи. Замешательство было минутным, а потом мне наперебой кричали в общей кухне со свисавшей с потолка траурной бахромой, отворотясь от кастрюль на раскоряченных огнях конфорок:
– Ходят тут – сколько уже вас ходило!
– И правильно, что не платим! Вот всем скажу: правильно. А за что платить? За что?..
Сзади добавляли чугунное в своей правоте:
– Пусть лучше нам заплатят... Людишки – дрянь, обещалкины!
Когда пошел с кухни, ошеломленный этим натиском, – кажется, с глупой улыбкой, – то в открытую дверь увидел Жаринова. С ним были мы уже накоротке.
– Ну, как? Попало? – весело спросил он, не глядя на меня и продолжая как-то очень развязно тыкать кисточкой в акварельке.
Впрочем, я тогда еще не понимал, что́ он за акварелист. Желтые глаза его щурились, прыгали; вода в захватанном стакане мутнела, ходила багрово-фиолетовыми клубами; в чугунном подсвечнике с совой торчали два свечных огарка – желтый и красный...
Так как я продолжал стоять в дверях, он бросил свое занятие, зачем-то надел знакомый табачный пиджак, и стал говорить виновато, хотя и не без хитрецы:
– Ей-богу, нет!.. Но скоро будут. Отвлекся вот... – Он мотнул головой в сторону акварельки. – А так – готовлю одну работу... Как только получу в издательстве – сразу уплачу... За полгода!
А не платил он уже с год...
– Да, – мялся я. – Ваш дом ставит меня в трудное положение. И как вы ухитряетесь так жить!..
– Я и сам не понимаю, – с недоумением, на этот раз серьезно ответил Жаринов.
В комнату заглянула рыжеволосая женщина, постояла на пороге, держась за косяк и замедленно улыбаясь мне, и я узнал ее: та, что совала мне ребенка в Добрынинском переходе! Отсутствовали очки. Жаринов уже приобнимал ее за плечи.
– Это Лада...
К нему, кажется, возвращалась его веселость.
– Где наши деньги, Лада? Видишь, пришел человек. Мы с тобой, Ладенция, задолжали за квартиру – о нас беспокоятся...
Он говорил с ней как с ребенком.
– Деньги? – Женщина вопросительно глядела на него, отстранялась, пожимала плечами. Начинала краснеть – и заливалась краской до корней волос, – понимала: розыгрыш...
– О, Ладенция! Ты – моя Огненная Земля!..
Вела в соседнюю комнату, очень узкую, показывала детей. На постели играла рыженькая девочка лет пяти, в одном сбившемся чулочке. Таинственный младенец лежал тут же и был по-прежнему безмолвен в своем байковом одеяле. Точно его никогда не развертывали. Я всматривался в лицо его с особенным чувством – лицо было важным, с толстыми персиковыми щеками. «Так вот как выглядит тайна!» – думал я...
Лада с тягучим смехом опрокидывалась рядом с ребенком, он не просыпался, а девочка выговаривала плаксиво:
– Ма-а... Опять! Ты мне меша-аешь...
– Нет, вы посмотрите на него – он милый, – бормотала та, теребила одеяло. Протягивала мне руку – словно для поцелуя – полную, белую. – И вы милый. Нет, нет, я вижу: вы добрый!
– Она видит! – дурашливо крикнул Жаринов. Он подпрыгнул, стреканув ногами в воздухе. – Добрый, добрый... только притворяется злым!..
Работал Жаринов, как выяснилось, на издательства – оформлял книги. Кроме того, он бегал по каким-то непонятным организациям в поисках заказов; брался исполнять эскизы марок, конвертов, – как обыкновенно бывает у тех, кто на вольных хлебах. Словом, жил очень беспокойно. Но это меня и привлекло. И он все оглядывал меня, оглядывал желтыми странными глазами, морщины на висках его приметно натягивались, – изучал, что ли? Недолго оставалось ему меня изучать. Денег за квартиру он по-прежнему не платил, погасил задолженность лишь за три месяца. Но и то был страшно доволен собой, восклицал:
– Кто говорит, что Жаринов долги не платит?
Соседи художника, поначалу провожавшие меня ожидающе-враждебными взглядами, – а стал я заходить в этот дом все чаще, – потом как-то успокоились. Но теперь в их отношении ко мне появилось что-то новое, не совсем понятное. Пренебрежение? Насмешка? Например, из кухни могли крикнуть, заметив, что я стою перед жариновскою дверью:
– К поддатому опять за квартплатой...
Жаринов на стук откликался не сразу, увы, оказывался нетрезв, бос, бутылки уже не прятал; так как я с первого раза интересовался его рисунками, начинал кое-что показывать. Прерывал себя: «Глотнуть хочешь? Нет? Как знаешь...» Однажды показал рисунок обнаженной – раскрашенный.
– Позировала одна... – бормотал мутно – ...молодая... От Ладухи ведь не добьешься. Платил, само собой. Как тебе? – И продолжал: – Натура край нужна! Без нее – какой художник? Рука ослабнет и вообще...
Все у него, как я посмотрел, было едва начато или брошено на полдороге; в комнате стоял сложный запах красок и чего-то подгоревшего.
– Натурщица откуда? Что, понравилась? – Он глянул на меня оценивающе, потрогал себя за кончик носа. Сказал нехотя: – Случайно как-то... Ближе к Монетчикам общежитие у них есть.
Я вспомнил девчат, которые лезли когда-то в окно... В первые мои дни у Соснина. Год еще не кончился, а как давно это было!
Теперь представьте себе, как во дворе невзрачного дома этого моего Жаринова останавливает неторопливый старик в длинной дубленке с медными пуговицами, с красиво загорелым лицом, и что-то говорит ему, показывая в улыбке ровные белые зубы. Трогает обтрепанную папку, которую художник держит под мышкой.
– Девки? Будут вам девки! – ненавистно кричит Жаринов в старческое лицо.
Я помню это, помню до сих пор, – значит, я недобрый... Ошиблась Лада!
Она тоже все чаще появлялась передо мной распустехой, с хмельно блестевшими глазами, усмехаясь, объявляла:
– ...Но все боятся, что я им его оставлю! Все без исключения...
Видели несколько раз ее пьяную с ребенком, она цеплялась за что попало, падала, – ребенка доброхоты отбирали, поднимался всеобщий крик, звали милицию; каждый шаг ее сопровождала туча возмущения. Жаринов где-то пропадал. Может быть, в Измайловском подвале.
Было как-то: позвал с собой – обещал показать коммуну профессионально работающих, новый Барбизон, – я не отказался. Поехал с охотой. В Измайлове в подвале барбизонцы сидели по закутам, обособясь; до рези в глазах пылали лампы дневного света. Обстановка говорила о богеме, о вольнице, – вакханалия вещей, казавшихся случайными здесь, но появившихся, разумеется, отнюдь не случайно. Жаринов поставил на электроплитку чайник, имевший особенно залихватский, помятый вид, сказал:
– Будет чай. А сейчас посмотришь, как мужики пашут. Только без этих самых... Понял?
Потом он, притихший и серьезный, приоткрывал очередную дверь, обитую железом; за нею, обычно спиной к нам, сидел человек. Он рисовал. Следующая дверь – следующая спина. О эти спины! Я запомнил их – они были выразительны! Странным образом начинало казаться, что искусство только так и делается: вывозится на хребте, на горбу... И отдельные слова, которыми обменивался Жаринов с затворниками, казались мне скучными, малозначащими, приземленными. Невольно пришел на ум разговор с одним провинциальным скульптором, Кокоревым, который начинал и смело и талантливо, быстро нажил солидных врагов и почитателей из молодежи, с этими почитателями однажды самовольно вытащил свои камни – головы, торсы, вызывавшие недоумение конструкции – в городской сквер, выставился; всего лишился – камни у него разбили, сволокли в казенный подвал; он куда-то исчезал, – и вот поздний, в последний его приезд, разговор: «Понял, дурак я этакий, одну вещь... С моими-то руками можно хорошо заработать – на тех же памятниках! В Подмосковье, не скажу где, у нас крепкая артель. Знаете мой памятник погибшим? Там – будет не хуже!.. Деньги я беру, беру много (он хмелел от своих слов), чтобы иметь в конце концов возможность работать скульптуру независимо... Не спеши презирать! Главное то, что – в конце концов!..» Мы с ним едва не подрались в тот вечер. Свидетелем разговора был Франц.
– Чайник-то наш, а? Забыли! – Жаринов опрометью кинулся в угол, откуда давно уж доносилось подозрительное пощелкивание, потрескивание. – Хохма! – крикнул он из угла. – Я же не налил в него воды! Так что извини, чаю не будет!
Сиденье у табурета было густо измазано красками, проступало подобие пейзажа; он настойчиво предлагал мне сесть именно на этот табурет...
Превращения
– Наши шальные прокуроры поехали на автобусе за город... – сказала тетя Наташа как-то утром. Сама – вымокшая, замерзшая, – всю ночь снег сгребала. Я называю ее тетей Наташей, но так зовет ее вся округа; старики – тоже.
А третьего дня, ближе к ночи, она засыпала на стуле у Лопуховой, снова виделась мне старой измученной черепахой, – я смотрел на эту кучку тряпья, на никогда не развязываемый черный платок, – от нее дурно припахивало. Засыпала – перед тем как идти ей в прокуратуру, где должен был работать ночной полотер, а ей присматривать, что ли. И этот мир ночных полотеров, таких вот старух, одиночек в московской ночи, – отчего-то интересовал меня, волновал.
Но как я появился у Лопуховой опять – после всего? Разговор наш по телефону в памяти не остался – кажется, он весь состоял из неловкостей, из преодоления их. Хозяйка злосчастной квартиры еще и еще звонила, жалобно просила зайти; смущение лопуховское я чувствовал, кажется, на расстоянии: смущен был тот переулок, смущенным выглядел и большой старый дом... Коротко говоря, историю с пропавшими туфлями и мой позор я ей простил.
Помнится, перед тем как нажать кнопку звонка, я говорил себе мысленно: «Здравствуй, случайность!..» Ведь все происходящее отмечено было знаком случайности. Как наше детство – «знаком Зорро» на стенах домов, заборов, – мы все видели этот фильм... И вот случайность, или, как она называла себя, история, встречала меня – немощная по виду, с пытливым жиденьким, радостным взглядом.
И опять заваривался чай. Опять разговоры, Тютчев.
От Тютчева перешли к лебедю Мите, жившему лет 12 тому назад в Центральном парке...
– Вам, Владимир Иванович, надо непременно знать подробности. А первая подробность в том, что лебедя Митю знали все!
Когда погибла у него подруга, – лепетала, – он не мог взлететь и, по их обычаю, кончить счеты с жизнью – упасть с высоты... Крылья-то были подрезаны!
А я думал: «Лебедь Митя – это я; крылья у меня подрезаны, любовь моя погибла».
– Что же с ним стало – с лебедем Митей?
– Его жалели...
– Жалели, что не убился? – спросила вдруг очнувшаяся тетя Наташа и поглядела на нас зорко.
Появились на столе картонки-паспарту со снимками – сцены из «Дяди Вани». У Лопуховой нашлось много таких старых картонок – мхатовских. Доставала их из почерневших ящиков бюро. Что вам пригрезилось, Анна Николаевна? Откидывала голову горделиво, с улыбкой сообщницы:
– Хороша была бабочка, царство ей небесное!
Это она – о Книппер-Чеховой, Ольге Леонардовне. Словно подтверждая ее слова, настенные часы в футляре зазвенели, заговорили. И слышалось мне: «царство... ей... царство ей...»
– Если б меня кто так облапил, мой Хахалев замуж бы меня не взял! – Тетя Наташа подобралась неслышно и рассмотрела во всех подробностях сцену объяснения доктора Астрова – Станиславского и Елены Андреевны – Книппер-Чеховой...
Лопухова отмахивалась от нее, как от зимней мухи. Было весело. И был культ МХАТа, Антона Павловича.
Потому-то и появился на свет листок с начавшими рыжеть черными строчками. За ними чудились девичьи тайны начала века, дача Зелинского в Серебряном бору, где в то лето жила подруга Лиза Соловьева, ее «блестящая идея»: написать статью, которая будет гимном Антону Павловичу, каждому его рассказу, даже слову, преисполнена безграничной любви и преклонения. Да, любви и преклонения! Ведь не приходилось читать о нем ни одной порядочной статьи!
В строчках тонул – и тонул навсегда! – какой-то дядя Леля; папе надо было позвонить в банк – и это длилось целый век; чеховский «гимн» замышлялось поднести Ольге Леонардовне. «А уж она пусть поступит как ей покажется нужным!..» Остальное растворялось в неизвестности – то есть осуществление «блестящей идеи». Лизы Соловьевой, надо думать, давно не было на свете; Анна Николаевна запамятовала, или устала, не желала вспоминать.
Но Сивцев Вражек напоминал: надо. Вспоминать, жить, верить. Оттуда доносилось: жизнь проходит, театр вечен!.. Вася сивцев-вражский приносил вести.
Я вот что помню: алюминиевая кастрюлька набивалась телятиной и ставилась на огонь – Вася любил неторопливое московское угощение. В комнатах шептались – кажется, обо мне; меня рекомендовали. Я понимал: рекомендуют Москве, миру, театру Были произнесены слова:
– Владимир Иванович – тот самый! Василий Ефимыч, дружочек, вы с ним потолкуйте. Хорошо бы ему достать билет в наш театр – ведь туда попросту не попасть!.. Помогите, дружочек!
Вася был моложав, темноволос, с серебряными височками. Его толстый нос словно бы говорил мне: не смотри, что я толст, зато я мхатовский...
Сразу стал называть меня Володей, обнимал за плечи...
– Мы с тобой, Володя, найдем о чем поговорить – по-русски... Приходи ко мне в гости. Придешь?
И однажды я пришел к нему на Сивцев Вражек. Запутанная квартира, ступени еще куда-то вверх... Кто-то выглянул, пропал. Я увидел узкую, тесно заставленную вещами комнату окном во двор. И узкую, с кружевным покрывалом, кровать, в которой чудилось что-то девическое, – Вася был одинок.
– А вот, братуша, она самая – сугубая!.. На лимонной корочке!
Поначалу хозяин похохатывал, был очень расположен ко мне; но я-то замечал лишь то, что называл пеплом МХАТа, – всякие старые афиши, программки; чьи-то лица в рамочках на столе, на стенках испытующе глядели на меня, строго и печально, словно спрашивая: «На каком основании ты здесь очутился?»
Вася перехватил мой взгляд, показал на один портрет, увеличенный и находившийся в центре на стене
– Перед самой войной снялся... Приехал из деревни – простой еще был! Такой простяга!..
На портрете был запечатлен человек, вовсе не похожий на нынешнего Васю, точно вылезавший из рамок, – полнолицый, с дикими глазами, довоенный...
Холодно отсвечивала застекленная икона; Вася рассказывал:
– И вот, Володюша, я, можно считать, прыгнул из грязи да в князи. Всю жизнь в гримерах! При таком театре!
И так как я, помнится, молчал, он продолжал:
– Ты только представь: изо дня в день, из года в год видеть... А какие лица!
Он протянул руки к этим лицам на стенах, на столе, как будто желая к ним тут же прикоснуться. Мне казалось – я начинал его понимать. А руки его – широкопалые, но не рабочие, холеные, с темными волосками, – почему-то стали казаться мне неприятными.
Расспрашивал. «Анна Николаевна мне тут обсказала...» Узнав о существовании Ванчика, Вася встрепенулся, – и с этого момента он, что-то уяснив себе, изменился: интерес его ко мне быстро исчезал, уходил, как вода уходит в песок... Уже не обещал сопровождать «в наш театр», провести за кулисы и т. п. Не предлагал больше съездить с ним в Загорск, – о Загорске и приятеле тамошнем, «умном-заумном», говорилось в Замоскворечье. Замечал только: «Анна Николаевна долго не протянет. Нынче плоха стала... Пошла в землю старушка!» И так это холодно, деловито сказал, как будто не он бывал у нее, шептался, ел телятину, кого называли Васей, а кто-то другой, чужой, равнодушный. И как будто театр Васи, Василия Ефимовича, не имел ничего общего с театром, которому поклонялась всю свою жизнь, воздухом которого дышала Лопухова.
Я стал прощаться, он тоже уходил из дому, – пошли вместе к Гоголевскому бульвару. Там он спросил, куда мне, и, узнав, что на метро, уже совсем отчужденно, резко сказал:
– Ну, а мне – сюда!..
И двинулся в противоположном направлении. Я шел и думал: «Понял он, мхатовский, чего я ищу... И что жизнь моя – лимитчина, не театр».
Все-таки я чувствовал себя лимитчиком – и это было главным. Как в воду глядел Костя, оценивая всех нас, – потом, через годы. «Лимитчик!» – говорил мне неприютный Гоголевский бульвар, оснеженная слякоть на его тротуаре. «Лимитчик!» – визгливо выпевал, налетая порывами, ветер. Из-за борта полурасстегнутой куртки он выхватил конец шарфа и мотнул мне в лицо.
...И все мои отношения с Лопуховой, вот с этим, спасающем теперь душу, Васей – изобличали меня. Я не хотел, да заискивал; моя неуверенность далеко меня заводила. Так думал я, поворачивая налево к метро. У «Кропоткинской», как всегда, лето и зиму, бойко торговали мороженым. Молодежь пломбирничала, курила, целовалась, норовила влепить снежной бомбой. Я получил свое: неподалеку от входа, под аркой, кто-то мельтешил, оттуда прилетел подарок – тычок в плечо, в лицо брызнуло. «Ой!» – сказал полудетский голос.
– Салют, ребята! – сказал я им всем – с непонятным самому себе вызовом. Они в мою сторону и не глядели.
– Ой! Салю-ю-ют!.. Ты что здесь делаешь? – Передо мной стояла вынырнувшая, должно быть, из метро полненькая, со сливочно-желтым лицом, и со своими «тайскими», как она говорила, продолговатыми глазами – Оля Черная. Действительно, походила на какого-то умасленного восточного божка. Хоть впечатление о житейском благополучии было ложным – я-то знал.
– Ну Оля... Ну Оля... – бормотал. – Как там твой пивзавод?
Она оглянулась поспешно – привычно, – точно боялась. Я понял: про пивзавод сторонним слышать нежелательно...
Мы хорошо понимали друг друга. Оля Черная была такая же лимитчица, я знал ее прежде в Губерлинске, сходились у Кляйнов. Нас соединяла память о мойве по-волгоградски, которую увлеченно готовила хозяйка, о черном кофе с разговорами. Я знал о ней довольно много. Мечтала учиться в Москве, а вместо этого попала на пивзавод, жила в общежитии. И я бывал у нее на этом пивзаводе – вернее, приезжал, вызывал по телефону в проходной, она выбегала... Выполнял очередное поручение Кляйнов.
– Как там мойва поживает?.. Не пишут тебе? Как Оля Белая? – Я рад был увидеть ее нынче.
– Оля прилетала, жила у меня, ругала... Ты же знаешь ее!
Оля Черная и Оля Белая были подруги, прозвища их были действительны лишь среди тех, кто приходил на верхотуру кляйновскую.
– Тебя надо ругать: замкнулась в своем пивном обществе... Где, например, ты бываешь? Среди каких художников, искусствоведов?
– Володя, нигде. – Она смотрела на меня, стараясь, как видно, разгадать: не шучу ли я...
– Но ведь тебе необходимо вращаться... – Я делал вид, что не понимаю, почему у нее стали такими умоляющими глаза. – Тебе нужна среда, иначе закиснешь!
– Я и вращаюсь... вращаюсь... – Она чуть не плакала. – Варюсь...
В университет Оля Черная все же поступила – по настоянию Оли Белой; но далеко – в Свердловске. И училась теперь заочно на искусствоведа, то есть ездила сдавать экзамены из Москвы на Урал. Это сочетание – пивзавод и университет – ее, конечно, угнетало. Но что делать? Надо жить. Выручала, как мне представлялось, мать-провинция – это вечно волнующееся море, где невозможное кажется возможным, по слову поэта, а чудовищные противоречия, горечь несбывшегося как-то сглаживаются, растворяются в великом, слушая голос пространств.
И еще я знал, что мать у нее – надзирательница в женской тюрьме, или что-то в этом роде, – дочь любила без памяти; не одобряя верхотуру кляйновскую, противиться влиянию верхотуры на дочь не могла. А мысль: поступить в университет, воспитать себя, связать свою жизнь с искусством, – зародилась как раз там, у Кляйнов, в виду темноватых и потому таинственных картин на стенах, написанных знакомыми молодыми художниками, и той двери, с комнатной изнанки которой на гостей смотрел сам Кляйн – черный, узкоглазый, как будто типичный среднеазиатец. Хотя его фамилия, разумеется, того не подтверждала.
Автопортрет впоследствии уничтожили.
...И дружба с Олей Белой, учившейся заочно в том же Свердловске на философском, начиналась с верхотуры.
«Тайские» глаза мне многое напомнили; я увидел в них себя – полного надежд, каким был прежде, на наших сходках, – и я, ничего больше не говоря, благодарно пожал Олину руку.
А потом, годы спустя, думал... Жизнь Оли Черной... Та же Оля Белая, превратившаяся в старшего преподавателя кафедры философии, кандидата наук, недавно, год-два тому, рассказала: Оля Черная преподает теперь в Строгановском, получила комнату в районе Сокола, вышла замуж – у нее все хорошо. Но вот что не дает мне покоя: ее прежняя жизнь – с пивзаводом, учебой, неразрешавшимися страстями, даже с грешным увлечением пивной продукцией (от нее, замечали, часто припахивало), дружбой с забубенной шоферской компанией, – всегда казалась мне особенно интересной, содержательной. Ведь там столько было всего! В многообразии, возможности в любой миг изменить все в жизни я видел большой смысл: называл это свободой, счастьем, как хотите!
Однако судьба надо мной смеялась – и у меня в те же дни «столько было всего!» Обстоятельства брали меня за горло. Год кончался, злостные неплательщики, попривыкнув к моим докучным посещениям, по-прежнему оставались в должниках. Иван Воинович во всеуслышание грозил карами, если план по квартплате будет завален:
– Смотрите, Владимир Иванович! Мы вас накажем!.. И накажем по всей строгости...
Объяснений не принимал. Я забыл, мне напомнили: спустил собак.
Испытал чувство бессилия, хотя во мне все кипело. «Службист чертов», – думал я. Собаки были реальны.
Как быть? Я пошел на соседние участки, к тамошним техникам-смотрителям. Спускался в полуподвалы, попадал в выморочные помещения, наведывался в какие-то пристройки с зарешеченными окнами, – заставал полузнакомых людей врасплох, улыбался... Советовался, выспрашивал. Открывалось что-то непонятное. И у соседей были свои неплательщики, правда, не в таком количестве (я вспомнил свой разговор с Иваном Воиновичем о «трудном участке» – в начале лета). Как техники-смотрители выходят из положения? Самым неожиданным образом: платят из своих... Из 77 рублей смотрительской зарплаты? Мне не отвечали. Женщина в телогрейке чистой, черной, в меховой дорогой шапочке, из-под которой вылезали темно-русые кудряшки, рассказывала всем сразу:
– Она пришла и завелась: ти-ти-ти... Успокойся, говорю, что ты как за свое!.. Переживаешь? Если бы я так переживала – умерла бы уже...
До сих пор слышу это: ти-ти-ти...
В другом месте шофер Алик Скоморохов, мышастый, с маленькими, прижатыми к черепу ушами, говорил мечтательно, обеими руками держа алюминиевую кружку с чаем:
– Мосты разбежались... на яму стану...
И у меня мосты разбежались, догадывался я, и мне надо бы на яму. Но где яма? И где я?
– Соснин даст тебе яму! – дразнил бывший тут же Николай-плотник («А, Зацепа! – встретил меня оживленно. – Как мы с тобой на Зацепе-то!..»). – И яму даст, и зону...
Алик не отвечал, потом решительной скороговоркой:
– Разъелся Трофим, не добавить ли дробин?..
На столе – нож со следами шоколада. Главное-то уже пито, чаек – так только, для запива. В этом смотрительском пристрое меня всегда встречали усмешливо, с игрой глаз. Может быть, не принимали всерьез. Но была и душевность. Откуда она – понятно стало не сразу.
Хозяйничала здесь Нина Трофимовна – худощавая, с лицом, источенным какой-то тайной думой; у нее был резкий, грубый голос. Курила злые дешевые папиросы – одну за другой – пока разговаривала.
– У меня неплательщиков нет, – сказала хрипло. – У меня заплатишь!.. – Помолчала. – Знаю, приплачивают некоторые смотрители из своего кармана... Валька... Самусиха тоже. Но не я. Володя, ты садись, садись, – кивала мне, щуря глаза от табачного дыма. – Пока нас Соснин всех не застукал... Не то с порога как заорет!.. – Она смеялась и от смеха кашляла, точно каркала.
– Накаркаешь!.. – говорили ей.
Вечерело, в окне единственном – синенько. Иван Воинович, знали, мог нагрянуть внезапно; специально даже выслеживал, где жэковские собирались вместе. Северный зуд не давал ему покоя, не иначе. И засиневшее окно притягивало взгляды, казалось оком начальника. Прислушивались, не стукнет ли в тамбуре.
Нина Трофимовна уже изгонялась с должности – а затем, – кажется, унижалась перед Сосниным, – была возвращена; но прощения полного не получила, и это всё казалось странным. Такая, внешним образом, независимость и такая беззащитность, приниженность! Открыл глаза мне Николай, когда выходили вместе – спотыкались обо что-то в дурной темноте дощатого тамбура, нашаривая руками стены:
– Ты, думаешь, почему она такая? – Далее следовало: – А ч-черт! Мётлы тут... Во метла!..
– Ты про метлу или про Нину Трофимовну?
– Володя, – буркотел в самое ухо, – у Трофимовны же сын сидит... А ты и не знал? Сидит, и сроку много. Посмотри на нее, как извелась. Наш Иван Воин не может, чтобы ее не уесть... Вот он ее где держит! – На крыльце показывал мне немалый плотницкий кулак; Новокузнецкая мглисто стыла.
Будто снова слышу этот кашель: карр-карр... И смех. Веки красные. И снова думаю о Нине Трофимовне, о себе тогдашнем, обо всех. Мои беды чуть задевали ее, но и этого было достаточно, чтобы напомнить ей сына, – вот и разгадка тех дней. Где же он, домишко с мётлами и еще с одной метлой? Где эта шарага – контора, любезная душе моей? Знакомая, вроде, мешанина строений... Но – ничего и никого. Как и не было! И тебя нет, говоришь себе, с твоими призрачными неплательщиками. Не было никогда.








