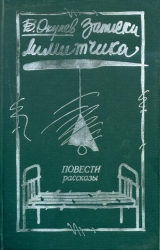
Текст книги "Записки лимитчика "
Автор книги: Виктор Окунев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 24 страниц)
– И поймали?
– Пойма-ал. Хотя и не давалась, могла запросто с крыши улететь.
И я представил себе художницу. Прикладницу под этим небом... И милицейского.
– ...А еще артистку обнаружил – в этом же подъезде. Не открывали. Я, говорит, артистка, из театра оперы и балета... Известная! Не имеете права требовать, ответите за свои действия. А сама дверей не открывает. Ах, думаю, известная?.. Ну и... – он сделал привычный сильный жест рукой, коротко просияв стеклянными волосками. – Оказалась в розыске – вот какая артистка!.. С тяжелой венерической болезнью, которой она заражала... Там такой клубок был, такая квартира запущенная!..
Они ушли, предварительно взяв у Севы обещание не противиться вселению штатского. Хотя решение не было окончательным, возникли, как я понял, сомнения. Может быть, мое присутствие их не устраивало. Ведь дело-то было, по оценке Севы, не совсем законным: в отселенную квартиру въезд, разумеется, без ордера. А тут – человек без страха перед ними, поскольку – консультант!.. Писака.
По мрачноватой в этой части и словно бы сделавшейся вдруг узкой улице Марата – фонарей еще не зажигали – промчалась милицейская машина с ультрамариновой, бешеной мигалкой. Ее суматошное, но и механически бессмысленное отражение мелькнуло в темных окнах. И не стало в ту же минуту привычного желания разбираться во всех этих застывших приключениях модерна, в хаосе окоченевших деталей, – интересовала лишь тайная жизнь – сразу всей улицы.
Но что есть тайна улицы?
Вопрос пустейший, если знать прошлое. Или хотя бы догадываться, – все равно. Сева догадывался, потому что временами волной накатывало з н а н и е. Специально даже интересовался.
То, что открывалось в 56-м году и позже. Тацитов, отчим, усыновивший его, перед тем как сомкнулось кольцо блокады, – сгинул непонятно когда. Отец – Александр Михайлович Гриневич, незаконнорожденный, – кстати, это долго еще имело значение. Сын дореволюционного генерала и полячки. Чудилось, тацитовская кухня сказанное о генерале, да еще царском, слушала хотя и с удивлением, а все же привычно. Но полячка! Она-то как раз смущала. Слишком отдает все это заоконным, думал, знакомым, разлитым, кажется, в воздухе. Что-то от записок княжны Мещерской, от истории Андрия и прекрасной панны... Постепенно полячка умалялась, таяла и исчезала, чтобы не возвратиться. Гриневич-младенец отдан был на воспитание в интеллигентную петербургскую семью. Что же это за семья? «Я не знаю», – говорил Сева, смотрел непонимающе, вытягивая шею, вслушивался – оттуда никаких разъяснений не долетало. Царский генерал на этом не успокоился: туда же, в интеллигентную питерскую семью была помещена, спустя необходимое время, девочка-младенец Роза. Мать вроде бы еврейка. И вот эта мать не исчезала довольно долго, тянулась какая-то морока Впоследствии Роза даст жизнь мальчику Корчемному, будущему шахматному гроссмейстеру, чье самолюбие не раз поразит знающих, причастных, некоторых оскорбит У него появятся завистники, но и сам он, и сам!.. Гроссмейстер Корчемный в жалчайшие минуты своей жизни, да, в гадкие минуты станет завидовать первейшему, на чьей стороне, как он посчитал, – все! Сила государства, игра случая прихотливейшего. Но я опять отвлекся: еще не пора...
Тут вот о чем следует сказать: они, Корчемный и Сева, были похожи – по крайней мере, тогда, в послевоенном Дворце пионеров имени Жданова похожесть проступала явная, пугающая их самих. Потом-то жизнь напечатлела иное. Что говорила им кровь его превосходительства? Этого никто не узнает. Но, право, именно она тревожила обоих, заставляла их жадно вслушиваться в то, что казалось необъяснимым, если не чудесным. Это были не слова, достаточно неожиданные, произнесенные однажды на какой-то дачной веранде в бывших Териоках, а, скорее, безличное признание всего окружающего – чуть слышно шумящего финского леса этих мест, песчаной дороги, ведущей в никуда, необманчиво огромных валунов на берегу залива. Сева скупо уточнял: рассказала сводная сестра его от первого брака Александра Михайловича Гриневича – Вика. Прибавлены были глухие подробности, о которых не подозревал, – судьба Гриневича не щадила, как и он сам не щадил тогда детского в себе, выражавшегося больше всего в зависимости от чужой семьи, куда был отдан, и противопоставлении этой благополучной семье. Она, судьба, и не могла его пощадить, потому что, как показывают известные события, он ей был обещан... Родные, то есть и бывший генерал несомненно, в годы гражданской войны от него отказались: юноша, подававший отличные надежды, пошел служить красным.
Тут Сева прервался, заваривался снова чай, потом он курил. Выходил из кухни, громкий стук его шагов всякий раз поражал мой слух своей поспешностью, напоминающей бегство. И, пока его нет...
Венский стул, вернее, бывший венский стул, давно потерявший свой первообраз и не выносимый теперь из кухонных пределов, живо напомнил Севу. Кухонный Сева обычно сидит на нем, повалившись набок, – и стул, хоть и противоестественно, но привычно, весь покривился в ту же сторону. И тогда я мысленно обращаюсь к нему, точно это Сева передо мной: «Скажи больше – все, что за душой у тебя, что имеешь сказать! О том же Дворце пионеров. О шахматных сборищах... Ведь и шахматы Охотского побережья – оттуда».
Оттуда, оттуда. Один случай запомнится, когда Корчемный безотчетно смотрит на Тацитова, долго смотрит, они уже не прежние гении с неудачниками из шахматной секции (были еще лопухи, или, как их называли, «лопушидзе»), сомнамбулически торчавшие за клетчатыми досками, что-то убеждает их в этом, перспектива изменилась; но еще длится время Дворца пионеров. Сева ловит этот застывший, темный, как бы слепой взгляд своего двойника, никогда не садились играть друг против друга, какая-то сила предусмотрительно разводила их, отдаляла, все же Корчемный был гораздо сильней, оставалось одно: поверх голов взгляд, поверх досок с обезумевшими фигурами, чувство, что ты раздвоен и умален в пространстве, брошен на дно, где барахтаешься в наготе полусознания, нищеты духа, вдруг – скачок коня, просиявшего медовым лаком, в сторону, ладья твоя под боем, и – «шах тебе!» и «положение твое безнадежно, сдавайся!» Но всегда, казалось, можно было найти выход.
И в Охотске были произнесены те же слова: «Положение твое безнадежно... Ты должен исчезнуть». Он был согласен и не согласен. Да что говорить! Ведь и спасение временами чудилось, радость, как нежданная синева морская.
Однажды его, Севу, с несомненностью принимают за Корчемного, – происходит это в шахматном клубе, где идет турнир, имя двойника давно у всех на слуху, не только у ленинградцев; он помнит странное и яркое чувство уверенности, что так и быть должно, что ситуация «принца и нищего» действительна и осуществляется не ложно. Диссонансом вторгается в эту музыку самоупоения реплика об оценке партии, поданная одним шахматным приживалом, одетым почему-то во все зеленое, – опомнившись, он быстро убегает.
С тех пор прошло полжизни, после Охотска Всеволод Александрович к шахматам охладел, работал в Ленинграде по разным котельным, уже привычно переходя с места на место, когда что-то не ладилось во взаимоотношениях с другими, такими же, как он, или было физически тяжело, выносить невозможно, одиночество захлестывало, топило, разумеется, сам виноват, чай спитой на подоконниках пирамидками, смертельный для слабого сердца закат, и вот весть: Корчемный – холодная злоба газет и голосов из «Гиалы» – эмигрировал, поселился в Швейцарии. Для меня, как и для Севы, было понятно: это – с л о м. Гроссмейстера ломали, по существу, он был обречен на с л о м. Никто не мог знать, что заговорит кровь генерала Гриневича.
...И еще одна картина – прежде чем тяге этой, тяге к овладению пространством, говорившей о безрассудстве и чьей-то власти, раствориться в вечерних полуаллеях позади памятника Екатерине Великой, – в виду бывшего Александрийского театра, ныне драмы имени Пушкина. И если отвлечься от драмы имени... – драмы Чехова, драмы его «Чайки», комедии. Таким образом, на театр следовало оглядываться, – и я невольно делал это, и всякий раз меня доставало, как достает любовь или внимание близкого человека, ясно выраженное спокойствие всех его черт. Но и день, последний июльский день не отпускал.
Радио утром спокойно сказало:
– Требуются... постоянно прописанные не менее пяти лет и имеющие жилплощадь не менее семи квадратных метров на человека... проходчики.
Ну что ж! Не быть мне проходчиком метро в Ленинграде – ничего такого у меня нет. Меня ждала улица. «Выгрузка товаров с улицы Достоевского» – объявление в Кузнечном переулке. Бывшая Владимирская церковь, где теперь станция «Скорой помощи». Столько лазури! Куда мне все это? Мимо. Еще один театр, общественный туалет к нему впритык, с неизменным в его недрах гнилым, запашистым стариком, кочевавшим отсюда в «Вавилон», знаменитая пивная. Мимо – еще одного дома, где когда-то жил Достоевский, потрясенного теперь и разъятого, где только сраму быть.
– Я поглядел в пасть... в пасть поглядел! – сказал в этот момент кто-то на улице Рубинштейна. С неожиданной силой сказал, – а я уже очутился там. Черно-радужное стекло очков, засунутых в нагрудный кармашек пиджака, кажется мне – чем же? – я вижу этот мрачно-гипнотический взгляд – третьим глазом, недобрым. Кремовый костюм, помятый блондин с загорелым, в длинных морщинах лицом.
Лишь к вечеру оказался я за спиной императрицы.
Там, как уже было сказано, в полуаллеях шла отчаянная игра. Толпились шахматные болельщики, среди них, судорожно дергаясь, играющие ударяли по кнопкам часов. Один, все дрожа коленкой, твердил:
– Я что-то не пойму... Я что-то не пойму. А вот теперь понял!..
Должно быть, ход его партнера был силен, недвусмыслен.
И снова бледное мелькание городской лимонницы, вечерний и предвечный свет, гибельный тенорок:
– Нет, я что-то не пойму.
– Кто будет? – донеслось от другой садовой скамьи. – Может быть, Живородящий?
Человек, названный Живородящим, предположения на свой счет не принял, точно не слышал; меня он поразил тем, что распространял вокруг зелень болотную, ядовитую, всякую: зеленели его вельветовые брюки и трикотажная безрукавка, даже носки – правда, в белых разбитых сандалиях. Он рос в моих глазах, поправлял кепочку, и зеленела кепочка спортивная с белым козырьком и белой макушкой, – как видно, белому цвету он иногда давал волю. А может, иная между белым и зеленым была связь. И видны были седые с зеленым отливом кудрявые лохмы – из-под кепочки той. Что еще? Мясистое лицо с большим носом, обещавшее выпивку «внаглую», тут же на скамье, разглашение всех и всяческих тайн, скандал... Корчемный, сказал во мне Севин голос, двойники в клубе, тот самый шахматный приживал!..
Оставим Живородящего, совершившего-таки обряд – посверкавшего зеленой бутылкой, – вместе с каким-то черноликим, баскетбольного роста и, соответственно, в растянутом черном трико. Вместе они выглядели мрачно, порознь – ничего не значили. Так говорили.
Вот – Штурман, из другой компании, у него усы щеточкой, делимой надвое, седые запавшие виски. Морская фуражка – по виду тридцатых годов – кажется жалкой, тем более что чехол сморщен и не совсем чист. В фуражечном «крабе» якорек смотрит набок, а вместо звездочки – лишь серп и молот вдавлены в лоб. Глаза у него печальны. Я оглянусь, оглянусь на театр драмы...
На чью-то реплику он отвечал:
– Это называется фарцовка!
И улыбнулся тонко, но и печально под маленьким морским козырьком.
В ответ ему немедленно прозвучало:
– Это называется... экспроприация экспроприаторов...
И деревянный хохот.
Известно: милиция вылавливала в Гостином дворе фарцовщиков. Деревянно хохочущий тут же и вылетел – проиграл. Кто следующий? Победитель безличен, черты его стерты, пусты, он отдыхает в эту минуту, власть белых или черных его отпустила, Серого он сегодня хорошо сломал, новый соперник – Штурман или кто другой – его пока совершенно не интересует. Все как-то мнутся, переговариваются ни о чем, никто почему-то не решается, потом один словно бы по обязанности, нехотя спрашивает сразу всех:
– Штурман будет?
И вот Штурман садится боком, боком, между ногами пристраивается свилеватая, фантазийная трость. Видны его синие носки со стрелками, ботиночки восьмирублевые. Я зачем-то жадно оглядываю его – вечный этот темно-синий китель со стоячим воротником, два значка на груди – слева и справа... На том, что слева, – ломаная линия в эмали, смелая молодость, Северный морской путь. Должно быть, почетный полярник.
Тем временем болельщиков становится больше, болеют, кажется, за Штурмана, бывший победитель нервничает, ерзает по скамье. Похоже, теперь его черед ломаться, но он еще не верит, хочет жить. Корчемный, снова сказал во мне Севин голос, эмигрировал потому, что хотел жить. И в Магаданской области хотелось жить – выигрывать у Коллеги, у моря и неба... Чьи-то туфли «саламандра» вишневые, пузырчатая кожа, подступили к дрогнувшим ботиночкам Штурмана, я поднял глаза – широкая тающая улыбка, черные прямые волосы мягко разваливаются, – юнец, юго-восток, Азия. Он не успокоился, движения его пластичны. Вот он низко склоняет голову, зайдя сзади, со спинки скамьи. Императрица и великие люди России у ее ног, театр драмы с этим своим обликом, обманчиво-ясным, театр одиноких в толпе, волнение мое, жалость к ним, подступающая неудержимо, как подступает вечерняя мгла.
После нелепого знакомства с Хосровым 14-м и его исчезновения много бродил по городу. Что я искал? Чьи-то молодые следы на этих площадях, набережных; давно ушедшую из этого мира любовь отца? Все может быть.
На Васильевском острове, на асфальте у левого крыла горного института однажды прочитал меловое, летнее: «Я люблю тебя, мой ЛГИ!» Надпись остановила. Аббревиатура выворачивала смысл чулком, я представлял большого человека по имени ЛГИ, в любви которому объясняются не иначе как мелом на асфальте. Я думал: но чем ответит ЛГИ на это признание?..
Неудержимо тянули к себе причалы Гавани. Напротив морского вокзала, где меня когда-то будили чайки, стоял красавец «Ройял Одиссей» – грек белоснежный, но разрезанный вдоль по корпусу тонкой синей полосой; синий с белым у него был и кожух трубы. А как сияло там, наверху, золото огромной короны, золото надписи – беспечное, декоративно-горделивое!.. На корме ветер лениво отдувал синий флаг с белым крестом, легко зыбились бело-синие полосы. По короткому пологому трапу спиной вперед закатывали в теплоходное нутро каталочника, и каталка подпрыгивала на подножных поперечинах трапа. И еще кто-то без ноги, на костылях прыгал туда же... Нарядный и несчастливый мир, говорил я себе. Но кто-то смуглый белозубо улыбался мне с палубы, кто-то делал вид, что занят работой...
– Калек у них тоже хватает, – сказали тут запоздало и, как показалось, с недоумением. В стороне стояли люди.
– Там тоже ломают будь здоров! – отвечали ему.
Два буксира подтягивали к причалу – перед носом грека – низенького панамца с желтой трубой. И какая же беготня происходила на его корме и носу, как покрикивало судовое радио!
От калек «Одиссея» мысли мои не могли не перекинуться к Севе. Он сказал памятное: «Родственники есть – здесь же, в Питере, – но видеть их никого не хочу. Почему же? Исчезло такое желание. Теперь равнодушен...» А желание потому и исчезло, что с головой погрязли в самодовольстве. Сева пояснял скупо, точно отрывал от себя живое: родственники, клан имущих – с дорогими дачами, автомобилями; а он, как все видят и все знают, – не имеет ни шиша... Никого, разумеется, кроме себя, не винит. Винит – не то слово; ни вины, ни состава преступления не видит. Нет ни шиша – и прекрасно! Никогда они и не испытывали родственной тяги к нему – после исчезновения отца... Одна лишь дальняя родственница Виктория, Вика – он не помнит, какая там вода на киселе, – интеллигентная, работавшая не то в Русском музее, не то в библиотеке имени Салтыкова-Щедрина, интересовалась его жизнью. Все же он был ей благодарен. Но то было давно, быльем поросло. А сейчас в нем пусто. Сборища «Дриады», на которые ездит раз в полгода, и то ближе. Хотя что такое «Дриада»? Если отбросить бесприютность, таинственность поневоле, изгнание основателя и идеолога Меликяна, – клуб ищущих общения... Союз одиноких!
«Дриада»! Мне казалось: он скрывает – там было непроизносимое... Будет день, и я увижу афишу с «Дриадой». Скажу о том Севе.
– Значит, она уже на Петроградской стороне? – удивится он. – Вот скачет!.. И принимает с двадцати пяти лет? – Он задумается на минуту – с неуверенной улыбкой; потрогает свое лицо, словно проверяя, не изменилось ли и на лице что-нибудь, примется размышлять: – Там у них что-то происходит... События! Надо же! Решили обновиться, что ли? Омолодиться... Как-нибудь надо бы к ним заехать – проверить.
В прошлом августе почти целый день искал на Васильевском острове завод, которого там не было. Татьяна в отделе что-то напутала, ни адреса, ни телефона не дала – «Он на Васильевском, найдешь!..» Завод должен был отгрузить нам электроды – Татьяна горела... Я чертыхался, выбираясь из каких-то закоулков, обдаваемый пылью и выхлопной гарью грузовых машин. Здоровенная бабища в красном пальто поразила тем, что как-то на складе, огромном и стылом, без людей, среди железного громозда сказала: «Витя, каждый оперативник в снабжении, если он проработал года три, отсидку уже заслужил!.. Можно смело садить!» Однако я сомневался. «Не хочешь, да прихватишь, – говорила Татьяна и на ее крупном лице с бордовыми губами я читал: верь мне. – Если есть хоть малейшая возможность... И я заслужила тоже. Заработала! Дура, конечно, что тебе это говорю!» Вдали что-то железное крякнуло, и на нас поехал мостовой кран с низко повисшей кабиной.
Я чувствовал усталость, уныние овладело мной. Татьяна, увлеченная профсоюзными делами – как раз назревал суд над Филаретом, пойманным с двумя литрами спирта, – ошиблась. Тем более, что сама на заводе не бывала. Завод был то ли судоремонтный, то ли судостроительный. На маленьком судоремонтном меня заворотили: номер почтового ящика, который у меня был, не совпадал. В других местах сразу же отсылали на судостроительный имени Жданова. В конце концов вахтерша одной фабрички, посочувствовав, мигнула: вон идет толстячок, пожилой, заместитель начальника отдела. И толстячок помог: взглянул на заводской номер, он ему был знаком, ради проверки сходил в недра здания – и все разъяснилось. Завод оказался велик, известен и – находился совсем в другом районе...
На следующий день поехал туда, вышел на «Автово», с пропуском не было ни малейших недоразумений, ходил в отдел и в цех. С электродами тоже разъяснилось, – Татьяна, путаница, могла жить... «Теперь, девки, живем!» – ее крик удовлетворения.
Потом опять было много грузовых машин, гари, гремели трамвайные вагоны. А я посматривал вокруг и думал: все хорошо.
Вечерело, светило сильное солнце запада. Низкое, в упор бьющее – ослепляло. Тени от него исчертили торцевую стену какого-то здания, вдвинувшись на его необмерную плоскость углами, перилами наружных пожарных лестниц домов-недоростков, висящими отдельно, как будто без точки опоры, площадками, крестовинами. Многодымоходные трубы высились мавзолеями. Силуэты одних зданий сломались, упали на освещенные верхи других, а те – на третьи, на четвертые... Великий город в этот час городом теней умножился.
В «Вечерке» писали: из Ленинграда улетели стрижи. Раньше обычного. Было досадно: я прилетел, а они улетели... Без стрижей жить было невозможно.
Меня поневоле заматывало в «Вавилон» – куда бы ни шел. Там к полудню, как кофе «робуста», заваривалась атмосфера всеобщности: все друг друга знали – или догадывались один о другом... И снова летело над беспамятными фразерами, над спутавшимися хвостами очередей: «Алка... К ней!..» Но и фиолетовая по седине дама с улыбкой Джульетты Мазины сделалась теперь популярной. Стала заметна и та – маленькая, обгоревшая, в очечках. Я еще думал: вернулась с юга? или что-то испепеляет ее – не само ли это место за кофеваркой «Вавилона»? Всплывало над толпой задушенное: «Но я ему обязан многими – лучшими! – минутами...» Прижавшись спиной к стенке, кто-то говорил совершенную чепуху: «И вот хотя бы раз в год я приезжаю сюда – пить кофе...» Но чужаки здесь бы не прошли, их распознавали сразу же; чужаков проницательно делили на понятных и непонятных. Кто-то покрикивал: «Сюр? Сюр!..» – имелся в виду сюрреализм, его картинки. Зеркало дальней от входа стены углубляло пространство. Шутили: кто-то вошел в него и не вышел... Все только начиналось или уже заканчивалось. Неизменным оставался дурно пахнувший старик, которого не сторонились, терпели. Вытерпеть старика – это была доблесть. В один из дней на пороге появилась девушка с распущенными волосами и точеным носиком, в джинсах. Должно быть, неофитка. Нерешительно двинулась вперед, заглядывала с возвышения первого зальца – туда, вниз, где варево народное кипело... «Историческая аналогия современному моменту...» – доносилось к ней. Кого-то искала. И нашла – у себя за спиной: двое прятались в закутке при дверях, в мертвом для обзора углу.
– Вы – это вы? – спросила она. И, когда подтвердили ей, облегченно вздохнула: – Думала, вас не узнаю...
Наступал час, когда – чудилось – стены кафе раздвигаются: уже вприглядку знакомые люди клубятся за окнами на Владимирском проспекте. Эти люди – двойники, пьющие двойной кофе, как назвала их при мне Джульетта Мазина; их выдавило теперь туда, где – мимоидущая толпа, машины, трамваи, троллейбусы; но и там они, точно отмеченные неким знаком «Вавилона», лепятся к его стенам и подоконникам, сидят на корточках, кадят сигаретным дымом неведомому божеству. Фиолетовая Джульетта Мазина имеет вид растерзанный, сняв очки, она вытирает их полотенцем.
– Мальчишки, все! – кричит она тем, кто подходил к ней уже не раз. Это значит: не было б вам, ребята, худо, она заботится... В ответ ей – гул «Вавилона».
Уже появлялась позади прилавка и кофеварок «Омниа Фантазиа», ни на кого не глядя, знаменитая восточная красавица.
Подошла моя очередь.
– Мне бы чего-нибудь посущественней... – услышал я свой голос. Словно со стороны.
– Я и есть тут самое существенное! – захохотала Алка. Кофеварка захрипела и в голосе ее явственно послышалась мелодия, оборвавшаяся вмиг.
Закрывали в девять; на Невском в этот час можно было видеть настоящую екатерининскую карету – красную с позолотой, – запряженную парой лошадей – белой и гнедой. У кареты, если смотреть сзади, одно большое колесо вихлялось, другое шло ровно. При впадении улицы Марата в Невский экипаж делал разворот. С высокой кучерской скамейки слезал тогда средних лет армянин – невысокий, носатый, в криво надетом завитом парике с длинными локонами, ослепительно белом, обряженный в красный камзол с галунами, и в красных до колен штанах. Он шел к автомату с газированной водой, сухие ноги в белых чулках и голубых туфлях на высоких кривых каблуках ставил тупо, носками вовнутрь. Девчонки-крашенки смеялись: «Молодец!..» – от восхищения сплевывали. Обращал на себя внимание и парень на запятках, изображавший лакея екатерининских времен. Он казался особенно деревянным – также в красном камзоле и белых чулках, – непроворным, помогая пассажирам покидать карету времени, а потом подсаживая – новых.
«Тоже двойники», – думал я о кучере и лакее. О первом писали, что у него весь вечер дома пел заезжий итальянский певец Тото Кутуньо... Это всех поразило. Подозревалась необыкновенная хитрость хозяина, заманившего к себе мировую эстрадную знаменитость. Все время, пока стояли, вокруг них теснилась толпа. Наконец носатый с хитрой улыбкой на смуглом лице пустил на козлы к себе какого-то парня, на запятки к лакею вскочила бойкая девчонка, занавеска в окне кареты задернулась, – экипаж тронулся в обратный путь, навстречу заходящему солнцу. На Невском возница лениво взмахнул кнутом и негромко крикнул:
– Н-но, бабушки!..
Белая и гнедая затрусили рысью.
В записной книжке этого лета остались записи, требовавшие расшифровки. Например, такие:
«В природе существует молоко?» – «Откуда мы знаем существует или нет...»
Этот тихий разговор услышал как-то вечером в молочной. Записывал случайные разговоры. Зачем они мне были нужны? Сам не понимаю. Или вот: «Детдомовцы в Русском музее». И видел: маленькие, первые классы, все почему-то худенькие – плохо кормят, что ли? – по-казенному стриженные... Я переходил за ними, за их низенькой толпой, от картины к картине. Они были непривычно молчаливы – как маленькие старички. Темно-синие костюмчики на них были не пригнаны по росту: на одном – коротко, на другом – длинно... Так вот как выглядят дети нелюбимые, думал я. Это была нелюбовь во плоти. Чтобы не видеть ее, хотелось закрыть глаза. С ними ходила женщина в детдомовском темно-синем платье – грузная, очкастая, с прямыми подрубленными волосами, обнимавшая кого-то из ребят за плечи. В небольшой комнате, отданной Серову, они остановились. Его «Дети»! Картина помещалась в углу. Репродукция ее висела в комнате прислуги у Тацитова. Мальчики смотрели на море. А что видят, что чувствуют детдомовские? Один из них – со сквознячком коротких белых волос и торчащими ушами, – точно услышав мои мысли, оглянулся.
Разговор с Севой, который затевался и раньше, в прошлом январе, был такой: в том городе, где я живу, есть один полузнакомый, четвертьзнакомый человек, напоминающий давнишнего – тридцатилетней давности – курсанта, ушедшего в писательство... Возраст подходящий. Необходимо все же удостовериться – поговорить с ним самим, чего никак не удается сделать. Что и сделаю, вернувшись... Иначе история не простит!..
– А! Андрей Старков! – сказал Сева неопределенно. – Узнай, конечно. Было бы любопытно.
Я как будто чего-то еще ждал от него и он это почувствовал.
– Я тебе говорил, Старков поразил нас тогда... – сказал он другим голосом, словно возвращаясь откуда-то. – В самом деле! Какую же сверхъестественную уверенность надо было иметь!.. Ни опыта по-настоящему, ни знания глубин... А он: все, ребята!.. Нет, тут самолюбие... честолюбие... Все вместе!
Я думал: ах, Сева, Сева! И вся его жизнь проходила передо мной. Вот он возвращается в Ленинград из эвакуации – почему-то один, мальчишка. И этот его союз одиноких.
А потом не переставая падали листья в последний день сентября. И первое движение было: остановить! Я протягивал руки... Пусть продлится!.. Еще звучало прошедшее лето, еще не отпускали лики Невского, улицы Марата.
Со Старковым встречусь через некоторое время. Специально, правда, его не разыскивал. Он был достаточно известен – и не только у нас в городе; притом, у нас оказались общие знакомые, тот же Василий Сергеич. Кого только не знал, с кем не дружил Наборщик портретов!..
– Тацитов? В училище? Помню такого! – сказал Старков. Я видел: выдаются надбровные дуги, покатый лоб над ними собирается в закругленные морщины, лицо истертое.
Он смотрел на меня непонятно: смурной какой-то, мутный, отдающий голубизной взгляд. То ли неприятно ему видеть меня прикосновенным к его прошлому, воплощенному в Севе, то ли само прошлое не заслуживает ничьего внимания, когда все давно отсеялось, развеялось, последние листья слетели, и нет никакой охоты...
Неизвестно, как это произошло, но мы были на «ты», и я спрашивал, сам удивляясь своей настойчивости: пусть вспомнит, что заставляло тогда в училище писать, главное чувство было – какое? Не чувство ли всемогущества – владения языком, мыслью?..
– Хочется понять... – бормотал, чтобы как-то объясниться. – Ведь тогда решалась судьба! И курсанты...
Всемогущество отмел сразу. Голубеющие глаза смотрели недобро. Сказал так: «Кто знает классику, отцов культуры, – тот не смеет заноситься. По сравнению с ними!.. Главное чувство – неуверенность. Я не уверен ни в чем!» Говорил что-то правильное и, если припоминать, давно известное; с презрением отзывался о графоманстве. Я думал: чем незначительней писатель, тем презрительней он говорит о графомании. Хотя сам-то весь вышел оттуда! Я понимал: он хотел как-то задеть меня, сказать что-нибудь уничтожающее, – Занин, конечно же, проболтался о моем многописании... Не утерпел! И он, похоже, не мог справиться с удивлением, все нараставшим, – до него лишь теперь доходило...
Что же было дальше? Старков очень скоро изменится: станет повторно – в первый раз, очевидно, слушал невнимательно, сосредоточась на моей, неприятной ему, особе, – расспрашивать о давнем товарище. И, когда узнает, что тот живет один в большой отселенной квартире, без семьи, сломлен обстоятельствами, не удивится больше ничему, а спросит быстро:
– Значит, можно у него остановиться, – как ты думаешь? Надо бы его повидать.
Я обещал дать адрес Тацитова, когда он захочет Но слова Старкова не понравились. Он явно посягал на что-то, принадлежавшее мне по праву... Даже на какую-то часть моей жизни – если вспомнить жизнь у Севы. С какой стати я должен буду делиться с ним – именно с ним! – памятью о комнате прислуги, о старом «Шидмайере»!.. Но не это было главным, как выяснялось. Главное было в Севе, Всеволоде Александровиче, бывшем дипломированном специалисте по морским льдам, а ныне машинисте котельной хлебозавода. И в том, что Старков – н е т о т!.. Он это мое предположение и подтвердил в течение одного дня.
Галдели какие-то люди и умолкали, как будто выпустив пар; Андрей Старков сказал внушительно в наступившей тишине:
– У нас слишком тепличные условия...
Меня так и подбросило: что он имеет в виду? Он пояснил. Помолчали, спорить не хотелось, все было ясно и без спора. А впрочем, фразу о «слишком тепличных условиях» самые рьяные из спорщиков постарались не заметить. Точно не слышали. И, когда заговорили вновь о перевыборах какого-то правления, о новостях в театре и у киношников, то делали вид, что ничего особенного и не произошло.
Я думал так: если бывший курсант Андрей Старков приедет к бывшему курсанту Севе, встретятся товарищи по кубрику, то – что будет? Встретятся люди, чуждые друг другу невообразимо. Потому что все эти годы они расходились – дальше и дальше друг от друга; их уносили разные морские течения, играло и гасло северное сияние, леденил душу мороз, много раз они умирали, а потом воскресали, любили своих женщин, и женщины их любили, страдали от одиночества, от непонимания, расставались... Из их встречи ничего хорошего не выйдет, думал я. По крайней мере, для Севы. Он получит удар. Еще один. Не довольно ли ему этих ударов!.. И я решил вмешаться в игру судьбы.








