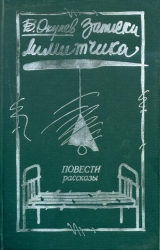
Текст книги "Записки лимитчика "
Автор книги: Виктор Окунев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 24 страниц)
Комната почти пуста, в одном из углов – постель на чем-то твердом, деревянном. Она накрыта старым прожженным одеялом. Плоская подушка с наволочкой – я рассмотрю ее недоверчиво – приняла мою разгоряченную голову. Хозяин исчез в огромной запутанной квартире, и его больше не было слышно.
Двери! Еще раз проверить двери. Их – три, две – одна против другой – открываются в смежные, тоже пустые комнаты; третья – в коридор. Надо запереть, насколько возможно. И запираю: защелки, задвижки с натугой, но верно входят в пазы; коридорную – на два оборота ключа.
Теперь свет. Без света почему-то не получалось сна – сон мой не шел... «Куда ты попал, что за пустыня в квартире?» – спрашивал себя. Подразумевалось: чем это может грозить?.. Хозяин квартиры все-таки доверия не внушал. Включил виденную на подоконнике настольную лампу с негнущейся шеей-ногой. Под подушку сунул свой складной, с довольно большим лезвием, нож...
Кто-то ходил в коридоре, останавливался за дверью, надавливал на нее – она подавалась. И я готов был встретить того, кто ломился: в руках у меня оказывался почему-то не нож, а топор... Откуда? Очнувшись, видел потрясенно лампу под колпаком на подоконнике, сегмент света, суровую полутьму, недвижность всего. И было тихо, в этой тишине сердце билось неровно, громко. Снова усталость опрокидывала на ложе, которое оказалось довольно жестким, снова кто-то стоял за дверью в коридоре, и я понимал, что я теперь – кандидат...
Как я скоро убедился, он тоже не выключал света всю ночь, а заодно и днем, – иначе изо всех щелей полезла бы, потекла, как рыжая вода, эта сила. Он не объяснял мне ничего, но я и так догадывался.
Получил от Василискова то самое, обещанное, короткое и злое, письмо, повергшее в недоумение, – всего несколько строчек. Снова переживал, рассказывая. Впрочем, в разные мои приезды, рассказывал по-разному: раньше – даже с глумливым смехом на кухне, с поношениями: «Вот змей!..» Позже, в другие мои наезды – пригорюнясь, еще больше потемнев, согнувшись в три погибели на стуле с сигаретой, приговаривая: «Что он хотел этим сказать – не знаю...» И опять понуро: «Зачем ему это было надо? Такие слова...»
А сказано было в том письме из Москвы следующее:
«Тацитов! Ты – не человек!.. Поэтому я порываю с тобой...»
– Написал ему что-то совершенно безобидное, под влиянием минуты, что – не помню... – объяснял Сева, трепал старый номер журнала «Наука и жизнь». – Развивал свои мысли о взаимоотношениях... Ну, обычные. Ничего там такого не было! Чего он взвился?
Как-то вечером, когда были еще дружны, до его, Василискова, женитьбы и последующей в Москве защиты диссертации, когда часами могли гулять на Петроградской стороне и он любил, рассуждая или созерцая, глотнуть на ходу из фляжки, карманной бутылочки, да так, рассуждая и прикладываясь, и высосать всю, когда набережная Карповки была не просто желанна – объединяла, делала их единосущими, – бросил непонятную фразу:
– Если я разгадаю твой феномен – дам знать.
Какой там феномен! Тем не менее, было обещано.
Если спорили – разбирало его, мог наорать при случае.
– Знаешь, как орал? У-у... Горячился страшно.
Фигура Василискова скрывалась, пропадала в тумане невнятиц, противоречий. Оказывается, доброта его не имела границ, рамок, даже приличий. Он опутывал жертву своей доброты – кого-нибудь, кто спросит дорогу к забегаловке, у кого не хватает монет, или кому плохо, – такой фантастической заботой, что того человечишку, пусть последнего трепанного, хватанного, пробирало не шутя. Благодарили и пятились, благодарили и пятились.
– Объективно его оцениваю: был очень добрый, – глухо говорил Тацитов. – Я нашел средний путь...
Один из знаменитых средних путей Тацитова.
– Но вот тебе же он чего-то не простил! Как же – добрый?
Кривая улыбка в ответ, пожимание плечами.
Признался однажды: «Мы с ним по-разному оценивали роль... Ты знаешь – чью! Он не разделял мои взгляды». Разумелось: речь о Сталине.
Считается, если не разделял – это уже серьезно. Только какой, к шуту, серьез! Когда неизвестно – что же дальше? И когда слишком много смысла несет какая-нибудь безобидная фразочка, вроде этой: «Жизнь, знаешь ли, – это дежурство. И ее надо еще додежурить...» Неважно где. Можно – на хлебозаводе.
Василисков, хоть и сорвался в Москву, не исчезал. Собственно говоря, его прошлыми спорами и нынешними разговорами о нем была пропитана вся эта квартира на улице Марата. Такой ей оставаться еще лет пять или шесть. Ему помогали в его замыслах, свели с людьми, открывшими ему к а р т о т е к у. Вокруг «Дриады» в то время люди табунились густо. Хотя, надо признать, картотекой не воспользовался – женился все-таки в Москве. Жена, рассказывал, когда приезжал напоследок, Руфь Дамиановна, женщина отличная... Повторялось: готов был сочувствовать последнему.
И вот теперь: «Тацитов! Ты – не человек!..»
Между тем время шло, и я, как мне представлялось, в какой-то мере заменил Василискова.
Тут следует учесть вот какое обстоятельство: и у меня в том городе, откуда я приезжаю, есть давний приятель, несколько схожий – образом жизни ли, образом судьбы – с Тацитовым. На кандидатство он, так же, как и Сева, никогда не притязал – напротив! Зовут его Занин Василий Сергеевич. Находясь отчасти под его влиянием, я взялся однажды кропать свои «исторические записки». Впрочем, вру: дело вовсе не во влиянии – Сергеич, или Наборщик портретов (это его последнее занятие, наименование должности, превратившееся в подобие прозвища), лишь подтолкнул своими горячечными речами на ту дорогу, что меня выбрала и ожидала... И я понял, что приговорен – к этому вот многописанию втуне, как бы про себя. Ведь своих «записок» я не рвусь никому показывать! Поскольку наслышан (а кто у нас не наслышан!) об отношении к инакомыслию. Перед пресловутым внутренним взором у нас что? Психушки, лагеря.
...Он идет рядом со мной – Занин – и, увлекаясь разговором, размахивая тяжелым «дипломатом», норовит столкнуть меня с тротуара, потеснить к самой обочине – это у него вошло в привычку. И странно, и смешно! Он не замечает, что неловок, что идти рядом с ним трудно. Приходится время от времени обегать его, пристраиваться с другой стороны... Наверно, это унизительно, но я, досадуя, ему прощаю. Занин – человек хорошего среднего роста, несколько полноватый, темноволосый, с большими залысинами. Я вижу: и у него седой волос блеснул! Сколько ему? Тридцать девять. Мне кажется: вечные тридцать девять, поскольку его возраст я невольно совмещаю со своим (а я старше!), сравниваю, и это все длится, длится. Было так: мы целовали одних и тех же женщин, оказывались соперниками, какая-то Галя, подробности я забыл, кажется, мне больше везло, может быть, ошибаюсь. Женат он был дважды, и почему-то выходило оба раза неудачно. Соответственно, в две семьи платил он алименты. Сейчас, может быть, уже в одну. Он поправляет очки – самые простецкие, в черной оправе. Смотрит на меня внимательно – нечто неуловимое, неловкое, сопровождающее каждое его движение, исчезает... Я вижу: карие глаза, дворянская родовая, на белом, никогда не загорающем лице, черно-бархатная бородавка. Занин-отец был профессором математики – речи о нем, разгоняющиеся, по обыкновению, «все выше и выше» и остывающие там, на какой-то своей высоте, – я слышал от Сергеича не один раз. Впрочем, эта манера – говорить, как я называю, «с разгону» – вообще для него характерна. Она же добавляет ему привлекательности; но и то правда, что некоторые из моих друзей нынешнего Наборщика портретов (а вчерашнего стропальщика или цехового диспетчера) на дух не переносят... Что это значит? Должно быть, я воспринимаю его слишком субъективно, – больше ничего.
Вот – мы с ним под небом низким, серым и облачным. Довольно бессмысленный вечер с бутылкой коньяку и пирожными в картонке где-то на задах местного театра оперы и балета. Бессмысленный... – говорю, но и прекрасный (стоит лишь немного отдалиться во времени). Театр уехал на гастроли. Все же дышат сумеречно живым служебные двери, окна, старые выгородки и катастрофически обрушенные декорации в полуоткрытой пасти нечеловечески высокого сарая. А потом будет скульптурная композиция модерново полых существ в глубине мертвого дворика на отлете крыла Дворца пионеров, и мы с ними, макаронными людьми, остатки коньячные выпьем и обнимемся...
Снова пошел густой снег, и в этом снегу летали неловко вороны. Я выбрался на Арсенальную набережную. Завод, который мне был нужен, значился на Свердловской... Я снова ищу его в том, прошлом январе, – где он? Времена года смешались, вообще времена. Снегом ночным и утренним, его сырыми завалами полно было все вокруг; из-под колес машин летела снеговая вода. Вдоль краснокирпичной стены, забуревшей с прошлого века, тропа кончилась. Пробирался по целине. Но отворились в буром, глухо-кирпичном двери – там, впереди, – и навстречу мне двинулась команда с военным во главе. Мы сближались; они буровились с лопатами цепочкой тесной, сторожкой, не выбиваясь в сторону ни на шаг, – я обомлел: глаза! Острожные!.. А потом, поравнявшись, увидел: на всех – однообразные шапки, бушлаты, но не солдатские, а другие; они и подтвердили – острожные. Замыкал цепочку тоже военный. Запомнилось это щупанье взаимное – глазами!.. «Два мира?» – спросил себя, идя дальше по их же следу. И укорил, словно чужого: «Откуда, друг, такая уверенность?..» Мир оказывался неделимым, насыщающим все вокруг пресной снеговой прелью.
На завод проходил без пропуска, а прежде звонил из проходной в отдел, отвечали ругливо: «Никто вас не вызывал! Зачем вы приехали? Нечего вам тут делать!..» – мужской голос был хамоват, заказывать пропуск для меня никто не собирался. «Как же мне быть?» – спрашивал совсем уж глупо. Прошлогодние поставки были сорваны – я решил не отступать.
Охранник там, за турникетом, маялся с улыбкой слабой, отлетающей.
– Проходи быстро!.. – сказал он. – Если что, я тебя не видел...
Побежал радостный, спрашивал дорогу в управленческий корпус, втиснулся в какую-то щель между двумя зданиями – с опасением не выбраться вовсе. Щель вывела-таки на другую половину заводского двора, тропинка огибала заводские корпуса, дышавшие разверстой теменью, погромыхивающие. Удивляло малолюдство – вернее совсем никого не было видно в проемах ворот, в распахнутых кое-где дверях, возле выкопанных строителями или ремонтниками глинистых, наполнявшихся снеговой водою ям.
В коридорах мотались те, кого называли заказчиками. В одном из коридоров, в самом конце его, они набивались тесней, там сгущалась атмосфера неуверенности; кто-то отчаявшийся стучал кулаком по фанерному столу:
– Мне шестьдесят лет! А он мне что́ говорит? Да я на него вот так застучал...
Все заинтересованно ждали продолжения: помог ли стук? И стучание кулаком по столу, кажется, не очень помогало.
Всех уверенней чувствовал себя вальяжный старик из Риги. Он как-то все посмеивался, блестел блекло-голубыми хитрыми глазами, толкал всех своим животом. Но и до него дошла очередь.
Как только вошел, так в комнате сразу забубнили. Но бубнили недолго – послышался болезненно-громкий голос, совершенно непохожий на голос рижанина, ему возражали. И возражали обидно, чем-то корили, отчего болезненно-громкий голос вскидывался на полтона выше, стонал... Забушевала свара.
– Бэ-эз подписи... – доносилось к нам отчаянное – ...бэ-эз подписи... что хотите делайте! – отсюда не выйду. Вы меня знаете!..
Давно небритый заморыш из Курска, приехавший на завод с машиной и уже три недели мучающийся, что ни день, в этих коридорах, оглянулся на меня и прошептал с испуганным восхищением:
– Во – вырвиглаз! Вырвет, собака.
Как напророчил. Рижанин, вэфовец, как выяснилось, действительно вырвал свое. Выходил из ругательной комнаты с красными пятнами на толстом, потном лице. Но и с улыбкой победителя, снова становясь тем самым уверенным, вальяжным стариком, какого мы знали.
Он, кажется, своим истошным «бэ-эз подписи...» переломил судьбу: что-то сломалось в отлаженном механизме отказов. По крайней мере, отказывая мне, Чулков, заместитель начальника отдела, кивал, морщился, а потом неожиданно предложил:
– Дать сейчас – ничего не дам, но, если хотите. Хотите? Можно попробовать... Даю советы!
О чем речь? Можно опередить рижанина. Если пойти вот сию минуту в третий лентопрокатный... С начальником цеха можно попробовать договориться... От рижанина, выбившего разом большое количество дефицитнейшей ленты, часть – оторвать!
Чулков смотрел на меня сложным взглядом: поощряюще и, в то же время, оценивающе, словно пытаясь понять, на что я способен.
– Оторвать у Риги...
Видно было, что ему понравилась эта мысль, он крепко ухватил правой рукой большой палец левой и что-то такое делал с ним – пытался вывернуть...
Заморыша из Курска увижу счастливым в этот же день, когда он прибежит на склад сбыта. Ему Чулков все подписал.
– Сколько морил, а? – говорил он оживленно, не глядя на нас. Уже он думал о погрузке, возвратном пути в Курск, своем заводе. Уже мы с вэфовцем для него как бы не существовали.
Я все открыл рижскому старику – потому мы с ним и оказались на складе, он благодушествовал, знакомил, оказывал благодеяние. Совет, поданный мне Чулковым, его не слишком удивил; поразило, что я открылся. Видно было, как он задумался на минуту-другую, запоглядывал на меня искоса. «Простота, но – с какой целью?» – читал я в его голубеньких, блеклых глазах. Ведь он никому не верил! Он все сопоставил, опасности для себя не нашел, и потому: «А не прогуляться ли нам по заводу? Вам, я думаю, полезно... Меня же здесь все знают, я ведь тут месяцами, как на службе!.. Съезжу на неделю в Ригу, и снова сюда». Я потом его спрашивал: где же он живет? Ведь в гостиницу не устроишься, а если устроишься – сверхъестественным образом, – кто же т а к о е оплатит? То есть снова доказал, что – простота... Повезло с приятелем, отвечал весело, живу у него, он с семьей врозь, нет проблем.
...Будет в конце июля, после трех купаний в Малой Невке, на пляже Крестовского острова, у самой кромки воды запрыгает девчонка в синем, великоватом для нее, купальнике и начнет дразнить почти взрослого, должно быть, брата:
– Костя, Костя, простота! Эх, эх!..
И опять:
– Костя, Костя, простота!..
А он, с длинными руками и ногами, неловко поворачиваясь к ней, станет щуриться от солнца, резко сияющего и в то же время дробно мельтешащего на частых волнах. Будет задувать свежий ветер, и вдали и совсем, близко станет мотать и носить парусники.
Я тогда еще подумал: точно обо мне...
Старик шел, выставив живот, с шумной одышкой; в лентопрокатном были с ним на участке, где накапливалась бронзовая лента нужной нам толщины и твердости; везде он был свой, подкараулил в каком-то тупике мастера – тот отвечал небрежно, уходил прочь, – старик не обижался, свистел кому-то, покрикивал:
– Будешь иметь представление!..
Давал характеристики заводским – сильным людям, от которых зависит то-то и то-то. Называл генерального, заместителя по производству, отдельских. И получалось: кое-кто – пустое место, бесхарактерен, напрасно перед ним и лоб разбивать... Да я и сам понемногу убеждался в справедливости его слов. Потому что побывал, побегал.
Простившись с вэфовцем, я вышел через распахнутые для проезда машин главные ворота, и никто меня не останавливал.
Когда в следующий раз я приехал сюда, на Свердловскую набережную, то уже и не пытался звонить в отдел, заказывать пропуск и т. п. Моего охранника не было, но зато за турникетом сидела на табурете большая тетка с озабоченным лицом, которая время от времени исчезала – просто вдергивалась в проем позади себя, охранницкую комнату, где у нее варилось что-то запашистое. И еще раз она вдернулась. Я и прошел.
Снабженец из Воронежа, мужик робкий, потом спрашивал меня – нерешительно, видимо колеблясь: «Вы как проходите на завод? Я пропуска у них никак не добьюсь... И вы тоже... нелегально?» – Он даже покраснел от этого слова, которое вырвалось у него, надо полагать, нечаянно. И так, забавно краснея, махнул рукой: «С ними научишься всему...»
А из ругательной комнаты вновь глухо доносилось чулковское:
– ...Цех нам отвечает: нет металла!..
Эта январская командировка на завод оказалась неотделимой от всего, что пережили мы с Севой тогда же в его квартире на улице Марата.
«Новый мужчина и новая женщина – вот идеал Т.», – записываю я однажды. В самом деле, он говорил об этом не раз. Но что имелось в виду, не пояснялось, непосвященный обычно отсылался к заведомо известному, лишь ленивым умам не открытому, назывался все тот же журнал «Наука и жизнь», вообще наука чтилась, брошюры, где этой темой занимались угоревшие на ней, как говорили недруги-насмешники, Остужев-Дуда и Северин Меламуд, особенно последний.
Как сейчас вижу: Сева, стоя посреди кухни, кричит:
– ...Но Северин Меламуд на лекции в библиотеке Блока разъяснял...
Что он там разъяснял, боже мой!..
Потому-то понятно, как Сева мог встретить предложение Людмилы хабаровской. Еще при въезде в квартиру она, улучив минуту, задала ему задачу: что если они с ним, с Севой, распишутся? Причем, он прописывает на свою площадь ее с дочерью?..
Представляю, какая была минута тацитовского оцепенения, выпадения... Она по-своему истолковала его затянувшееся молчание:
– Я знаю, в таких случаях надо платить... давать деньги... Но скажу откровенно: денег-то у меня как раз нет!..
Про Николу, мужа хабаровского, почему-то не вспоминала. Денег нет, и мужика как бы не существует. Но ведь он был, он есть – со своими татуированными руками и ногами!
«Куда же ты Николу денешь?» – вертелось на языке у Севы, когда он несколько пришел в себя от неожиданного предложения. И додумывался вот до чего – мне об этом сказал: «Вы же потом, голубчики, меня, чего доброго, и прибьете!.. Всего можно будет ожидать. Не-ет уж!»
Это все он рассказал мне нынче, а зимой лишь что-то брезжило, когда с ним вспоминали о Людмиле, но не договаривал, как всегда. Нравилась ли она ему? Не знаю. Должно быть. Она же что-то видела, чуяла; перетекала эта темная волна любопытства к чужой неустроенности, жадность играла, женское не исчезающее всемогущество...
Когда Николу посадили, к Людмиле – дело было днем – приходил кто-то из института. Откуда такая уверенность? Прозвучала громко некая фраза, в ней что-то об институте... Сева как раз был дома, но затаился, молчал. Последний шанс она использовала тогда – мнение Севы. А потом, спустя часа полтора, этот институтский почему-то никак не мог отыскать выхода из квартиры. Это днем-то!.. И где-то в недрах – в умывальную, без света, комнату попал, что ли? – слышалось: «Кто-нибудь – выведите меня!..» Что-то сгрохало. И опять, теперь уже паническое: «...Выведите меня!» Людмила не подавала голоса. Выбрался в конце концов сам, по пути злобно пнув «Шидмайер», который виновато блямкнул клавишей.
«Пишу в ночь на 19 августа. Тацитов только что приехал с танцев, бывших где-то за городом, где собираются они всем клубом...» —
эта запись позапрошлого года помечена у меня зеленой птичкой. Ведь нелепость очевидная: мужику почти пятьдесят, а он возвращается с танцев!.. Но тогда, помню, глядя на возбужденно-улыбчивого Севу, я меньше всего думал о его возрасте. Танцы так танцы! Я только вглядывался в него, пытаясь понять... Чего я хотел от этого человека? Сам не знаю. Понятно было, что «Дриада» притягивала его великим «может быть». Газеты начинали писать о неформальных объединениях сочувственно.
С его слов я немного знал «Дриаду». Она была гонимой – на протяжении многих лет. Помещения отнимались, робкие попытки отстоять их пресекались. Длился п е р и о д с а д а. Это значило: собирались в саду при Дворце культуры имени Кирова на Васильевском острове. Летом – ладно, а зимой? Все держалось на двух энтузиастах, они же хранители картотеки. Если б не они!.. Сева головой мотал, прогоняя такое предположение, ужасался: «Все бы погибло, «Дриада» исчезла...» Девять лет несменяемы по доброй воле. Фамилии их не назывались – никогда, ни при каких обстоятельствах. Как будто назвать их – значило выдать тайное тайных, – и «Дриада» изойдет, растворится в кустах, деревьях, оградах, шорохах...
Одно время ездили в Выборг, где жил тогда Меликян. О Меликяне. Надо бы поподробней о нем! Но где их взять, подробности? Вот скудное Севино... Он – журналист, правда, малоизвестный, зато закоперщик всего, основатель; «Дриада» – его создание. Меликян придумал следующее: они – все вместе! – пишут пьесу. Каждый предельно самовыражается – мужчины, женщины; опыт любви, всех бед, собственных нескладиц – туда... «Это будет великая Пьеса Жизни! – увлекал их Меликян. – Несочиненная, а прожитая...» Всяческую театральщину предлагал презирать. Ложь драматическую поносил страшно. Раз и навсегда отмел навязываемое; эстрада, синтез искусств его не устраивали – «Ложь, – кричал, – в сердцевине – ложь!..»
– Вартан Меликович, – спрашивали у него дамы, мялись, – мы все же хотели бы выяснить, как нам быть? Некоторые моменты в жизни женщины...
– Пишите! – кричал. – Некоторые моменты? Прекрасно! Что выйдет... Никаких выяснений!.. Жизнь сама скажет.
Она и сказала.
Вышло так, что Меликян разругался с женщинами в пух и прах, они почему-то на него обрушились, обвинили в несуществующих грехах, претензиях на оригинальничанье, – поэтому ушел непонятым. Но была предыстория... Прежде он женился на какой-то приезжей, к «Дриаде» не имевшей отношения. И женщины восстали.
Некоторых, и Севу тоже, все происшедшее изумило.
– Даже если кто-то из них надеялся... – начинал бормотать, выяснять Сева. – Не мог же он... Один! Но все бабы на него поднялись, все! Вот где чудо.
Хотя Меликян исчез, «Дриада» устояла. Но писание Пьесы Жизни понемногу заглохло, и уже через год о ней никто не вспоминал.
...Тогда, после возвращения с танцев, как свидетельствуют мои записи, Тацитов впервые заговорил о Морозове, известном «отрицателе истории», разделял его взгляды, меня не слушал и, как я подозреваю, презирал... Коньком его был систематический метод, уличающий историю в сочиненности, в графоманском произволе неких монахов.
– Да знаю – читал! Сколько можно! – я перебивал его, Морозов был опровергнут, честно заблуждался, Сева о том, разумеется, слышал.
– Слышал. Но – не убежден! Меня это не убеждает...
– Как можно?.. – Я подымал руки к потолку в фантастических потеках, протягивал их к темному окну с медным запорным устройством конструкции начала века, словно уж они-то должны разделить мое негодование. – Изобличая монахов, ты впадаешь в новую ложь!
Как мне казалось, противоречил себе, однажды заявил безапелляционно: «Нужна не всякая правда, а такая, которая внедряла бы в умы новое знание...»
– Ты ли это? – спрашивал я его все в той же кухне в часы наших вечерних споров. – Разве мало ты в жизни терпел – от полуправд, усеченных правд?.. А ведь такая выборочная правда – правда-ублюдик – кому-то выгодна! Кто-то за умолчанием хотел бы скрыть.. И скрыли, вспомни хотя бы о своем отце!.
Об отце Сева расскажет мне затем подробно, я буду сочувствовать, переживать, проклинать кого-то, стану говорить о своем отце. Исчезновение отца незадолго перед войной значило в его истории многое, если не все.
Он был настойчив в том, что я считал его заблуждениями, иногда даже злобноват. В такие минуты меня раздражали его закинутые назад длинные волосы, темный мыс, низко вдающийся в наморщенный лоб... Высказывался так: «Пусть я выступлю от имени меньшинства – против господствующего ныне мнения, – что с того!.. Мнение большинства превратится с течением времени, я верю, в мнение меньшинства...»
Я мог соглашаться с ним, мог – не соглашаться. Меня эти счеты, больше-меньше, как-то не увлекали, притом, я помнил чьи-то слова о «молчаливом большинстве» и очень сомневался, что с течением времени все образуется.
Бывало ему худо, он как-то сжимался, усыхал, сидел согнувшись в три погибели в углу потемней, в закутке; мог ночь напролет кипятить в кружке крепчайший чай. Выпарившийся, спитой чай пирамидками выстраивал на подоконниках, на столах. В некоторые мои приезды таких осыпавшихся от сухости бурых пирамидок оказывалось что-то слишком уж много... Ничего не объясняя, молча убирал их. В картонках из-под пиленого сахара накапливал сигаретные окурки. Не выкидывал. Хранил на черный день? И черный день, разумеется, приходил.
Рано утром нашел его сидящим на корточках – спиной к буфету. На голову накинуто пальто. Сотрясает его крупная дрожь. Я не знаю, что ему сказать, о чем спросить... Поздно вечером, даже ночью он рассказывает о том, как было вот так же худо на Кольском полуострове.
Два месяца жили с одним мужиком в палатке на каком-то острове... Рассказ без начала и конца. Неизвестно, откуда взялся мужик и что они делали на острове. Я думаю, это была какая-то экспедиция – ведь Тацитов по образованию океанолог, специалист по морским льдам. Закончил в пятидесятых училище имени адмирала Макарова. Потом того мужика забрали: появились два милиционера, один был в штатском... Его давно искали, и нашли. Непонятно все же само их появление: они на чем-то приплыли? История с мужиком поразила тем, что там – непонятное. У него был компас, у мужика. В момент ареста он зачем-то сказал: хотел бежать дальше, еще сто километров надо было пройти, но не успел...
Было так, что уплыл тот мужик на лодке и двое суток не возвращался. Тут какой-то пробел в рассказе, зияние. Чего ожидал от него Сева, подозревал – в чем? Он тогда думал: все, погибать там. Хотел в отлив попробовать уплыть с острова. «Может быть, переплыл бы...» – говорит Сева. Мужик вернулся в сумерках, неслышно подошел к палатке – Сева лежал в смутном полусне – да как жахнет из ружья. И еще раз, и еще. «Напугать хотел, что ли?..» – говорит теперь он.
Рассказывал, как в тундре ходил. По двадцать, по сорок километров – зимой. Ориентиров никаких. По ветру, против ветра – вот ориентиры! Как в темноте шел по реке на лыжах – с фонариком, уже слабо светившим, батарейка садилась. А перед тем, спускаясь с обрыва на реку, лыжу потерял. Еле нашел. Тогда тоже худо было, только по-другому. Замерзал, сил уже не было. Когда увидал поселок – упал, думал, не подняться...
Занин, помнится, о нем прежде не упоминал – следовательно, он появился вдруг. Потом он так же точно исчезнет.
Однажды нашел Сергеича безобразно пьяным, философствующим с каким-то толсторожим бледным Спасителем, как он его рекомендовал...
– Товарищ, значит, тебя спасает? – Я оглядывал стол с холостяцкими плавлеными сырками (тогда еще они были в продаже), трехлитровой банкой яблочного сока, гнусными в наготе своей бутылками, с остаточными языками содранных этикеток, пряными кильками в двух железных плоских тарелочках, покрытых к тому времени табачным пеплом.
Разумеется, мне предложено было – под безбрежный смех – наполнить хитрый стаканчик... не рассчитывая, впрочем, на многое... Откровенно сказано, а? Снова дикий хохот. Мои слова об отказе от стаканчика и о том, что сейчас ухожу, оставлялись без внимания. К чему-то вязались сюда люди длинной воли, Николай Гумилев и его сын Лев Николаевич, профилакторий психдиспансера и то, что оттепельные свой шанс используют до конца, у них просто времени другого больше не будет. Они же – разрушат систему!.. Наборщик портретов (а Спаситель – тоже портрет, счастливо, будем думать, Василь Сергеичем найденный, или сотворенный им в этот вечер, набранный из всероссийской чепухи), как понятно мне стало, чувствовал себя особенно скверно, хуже некуда; психушка к себе манила мохнатыми руками, казалась неотвратимой, а спас этот человек.
Спаситель, протягивая ко мне ручищу чудовищную (он – мастер с электро-металлургического комбината), орал в одно ухо; дворянский потомок – в другое. Хотя, надо признать, через час они несколько потрезвели. Или мне так показалось.
Хозяин произносил с минутным удовлетворением:
– Черная квартира неизвестности в мире...
Я вспоминал квартиру Тацитова, напоминал – гоголевские слова; занинская квартира не отзывалась: сосед постоянно жил у женщины на стороне, комнату держал неделями при закрытых шторах (первый этаж, район вокзала), иногда приезжали в воскресенье – искали невозможного уединения, – шторы так и оставались задернутыми.
Спаситель Фалилеев имел дочь, ленинградскую циркачку. Близко дышал мне в лицо неизживаемым жаром комбината, светлея глазами, говорил со значением: «Будешь там, зайди к ней в цирк! А что? Я разрешаю... У меня доча знаешь какая!.. Цирк для нее все!» Вася бормотал: «Имей в виду, он – человек Достоевского... Не думай, что он прост!» И снова: «Он – человек Достоевского!»
На столе появлялась библия, Наборщик портретов и спасший его, как я понял, от приступа безумия поочередно вырывали ее друг у друга, атмосфера менялась, и вот уже Спаситель повторял настойчиво, враждебно-улыбчиво:
– Почему же ты не ушел? Ты же хотел сразу уйти! И не ушел...
Перед этим, кажется, меня заставляли читать на память собственные стихи; я отказывался – мира не было. А потом:
– А теперь ты отсюда не уйдешь, даже если захочешь!.. – довольно зловеще.
О них, о Занине и человеке Достоевского, наименованном Спасителем, я думал, идя от злосчастного дома Дельвига площадью и далее – Кузнечным переулком. Проходил мимо рынка. При входе мертво высились подобия скульптуры, в окна и через стеклянные двери виден был пустой зал, освещенный в этот поздний час неровно, весы, составленные тесно на мраморах торговых И эти весы, показалось, замерли там со значением в своей безмолвной беседе. А днем-то, днем!.. Маленькая смуглая женщина, стоя за прилавком с помидорами, призывала какую-то из покупательниц льстивым криком: «Джанечка!» Тут же сыпала скороговоркой заговорщицкое: «К тем ингушам не ходи, у меня – мечта!..» И лихой блеск чернокофейных глаз, вымах всей фигурки торчком, чертиком: «Ай, да бери мою мечту за два рубля!» Не умолкала ни на минуту. И мне, стоявшему близко от нее, толкаемому всеми, казалось: вот-вот... сейчас она прыгнет на прилавок, маленькая, ловкая, и станцует там... Станцует свое счастье торговое, сумасшедшее. Или прыгнет на весы – сама вместо «мечты» – и крикнет на весь зал: «Берите!..»
Проходил мимо дома Достоевского.
Вот он, угловой дом! Провожает тебя окнами темными – там, где квартира, где он умирал... И со стены смотрит на тебя барельеф – Достоевский следит за каждым твоим шагом. «Братья Карамазовы», Анна Григорьевна, народоволец Баранников, кровь идет горлом... Это все здесь, никуда не уходило. Мысли мучили: где же связь? И что соединяет во времени Кузнечный рынок, «Джанечку» и этот угловой дом? В верхнем этаже рыночного здания, вход тоже с угла, теплятся жидкие огни – там, должно быть, номера для приезжих. Они всматриваются друг в друга – те и эти окна. Достоевские и рыночные... Я прохожу, тень моя пуглива. Из арочного проема – дом напротив – глянет в душу гулкая тьма. Хотя – тьма относительная, позднеиюльская, в небе и на улицах – рассеянный свет. То ли будет поздней осенью, зимой! Всякий раз буду думать, ощущая на себе каменный взгляд с барельефа: «Дух Федора Михайловича...»








