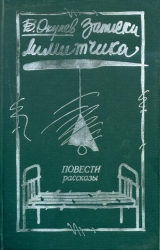
Текст книги "Записки лимитчика "
Автор книги: Виктор Окунев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 24 страниц)
Возвращение из Беломорска. Толики
Только что вернулся из Беломорска. Был там полных двое суток. Снова с непонятным волнением вглядывался я до боли в глазах в даль Белого моря, теперь уже растревоженную, в серо-синих вытаинах и оттого запестревшую...
Войдя в комнату, смахнул куртку с плеч и кинулся на постель, – все не мог опомниться от встречи с одной, которую я не знаю и никогда уже не узнаю: я с ней не знакомился, а только глядел...
Видел ее на вокзале – в негромком, маленьком зале, – на соседней скамье с книгой, сидящей нога на ногу У нее были живые темные глаза, слегка выпуклые, смуглость в лице, широковатом, чуть ли не татарского полета скулы, полные губы. Она была в полусапожках на остром каблучке – ладная и очень хороша!
Самым же главным было в ней то, что она смеялась на все смешное, – а в зале оказался смешной старик-говорун с его «пензией», «тады» и «доси», а также мореманы-зубоскалы, – что она, чувствовалось, добра, быть может, простодушна. Я знал одну женщину, в другой жизни, которая смеялась вот так же необычайно: соблазнительно, обещающе, не задумываясь. Ее ненавидели за этот смех ненавистники, ревновали ревнивцы. Готовность смеяться в ней была поразительна.
Так и этот смех был праздником для всех. Думалось: сегодня ты живешь, а завтра тебя не будет; но и в небытии будет ее смех, будет эта живая радость.
Проходом пошла девочка с портфелем на бечевке через плечо, за ней собака с опущенным хвостом, нюхающая след.
Теплый тугой ветер дул над мостами, над Выгом, над станцией.
Сели в один вагон. Кажется, ехать ей было далеко: тотчас она разделась, стала слушать солдатика с Гомельщины, едущего в отпуск. Мне же скоро надо было сходить, я поместился у выхода. Она пошла к проводнику, оставив гомельского, негромко что-то ему сказав с улыбкой. Проводник уже держал, стоя в дверях своего купе, стопку постельного белья. А меня как ударило: так она была прелестна, таким живым, радостным было выражение ее лица, всего ее стройного тела, самой походки.
Она почувствовала мой взгляд; она и раньше на вокзале все время оборачивалась ко мне, взглядывала на меня, точно спрашивая: «Правда ведь, как смешно?» – и, отгоняя улыбку, глядела некоторое время серьезно, доверчиво.
...Шла она в проходе мимо высунутых с верхних полок мужских и женских ног в натоптанных по следу носках и чулках, свесившихся клейменых простыней и одеял. Я опустил глаза, сразу опять поднял их на нее – она шла, глядя на меня ожидающе, горячо, темно, любопытно. И пока она шла эти три-четыре метра до меня, мы не отрывали глаз друг от друга. Надо было что-то делать – схватить ее, усадить рядом, сказать ей что-то – что? Что она хороша? Что я искал ее всю жизнь? Что она не пожалеет, узнав меня?..
Все, все надо было сказать, может быть, всю свою историю!.. Но она прошла, а я усидел, ни на что не решившись.
За окном высыпали огни – моя станция! Точно во сне я пошел к выходу, больше не видел ее, только слышал музыку того, что она здесь, рядом – единственная!.. И – все. Соскочил с подножки, едва веря себе, что это произошло со мной. И только когда мазнули мне по лицу огни вагонные и, убыстряясь, полетели один за другим вагоны, я понял: кончено! Дальше поезд прошел.
А ездил я подавать на развод с Ангелиной...
«Отчего все это произошло с тобой? – задавал потом себе я бессмысленный вопрос. – На что надеешься ты, человек из оргнабора?»
Отоспался после ночной смены, и скоро снова мне идти в ночь. А проснулся от голосов азартных, прижимистых, тусклых: в комнате, сгрудившись у стола, играют в карты.
И Шишкин, мастер, здесь! Шишкин – молодой еще, толстолицый, с походочкой вразвалку, – сидит подобравшись, как кот перед прыжком. Желтые глаза его горят, щеки трясутся. Выкатываются из его толстых губ слова:
– Думай, Шишкин, думай! Это тебе не сетевое планирование, не американская система... Сокруши рвань вербованную – вологодскую, московскую, питерскую.
Он хищно, со стоном хлопает картами по столу. Играют, впрочем, не на деньги.
Брошюра о сетевом планировании у меня в тумбочке – выпросил ее у Шишкина, когда он потел над ней, сидя у остывшей железной бочки в нашей бригадной времянке. На мою просьбу он откликнулся без большого удивления:
– Зачем тебе? Бери, потом отдашь. Еще морочиться с этим планированием! Хотя с нас спрашивают...
– Ванька не был, Ванька был, был, был! – пропел кто-то голосом Толика с Шоссе Энтузиастов и выбил дробь в коридоре.
Но Толика нет уж в Летнем, это мне известно. Пророчество Ивана Ивановича Костина, когда он судил нас, сидя на постели с подвернутыми под себя ногами, похоже, начинает сбываться. Толик исчез, прихватив из-под батареи новые, выданные мне после долгих хождений к Инживоткину, резиновые сапоги. Взамен он толкнул под ту же батарею какие-то обноски. Уже донеслось от него: не застал никого – ребят, которые с пустыми руками на ножи идти не боялись, всех пересадили, девчонки из их компании на Шоссе Энтузиастов кто замужем, кто пропал куда-то... А как сам-то он был в бегах: искали его если не за х у л и г а н к у, так за сорванную с прохожего шапку (потому и вербовался на Зацепе, в другом районе, оргнабор его кстати взял под свое крыло), – то и не задержался в Москве, поехал с партией вербованных в Забайкалье, в экспедицию, набиравшую рабочих в Улан-Удэ. С дороги написал общежитским.
Эти мои мысли о Толике и пропавших сапогах вновь усадили меня в прицепной вагон трамвая, идущего с Сокола к Беговой, в половине двенадцатого какой-то московской ночи. Трамвай был старым, громыхающим мастодонтом, совсем непохожим на тех цельнометаллических щеголей, что теперь отщелкивают так ловко стык за стыком. Одно преимущество у него было: окна открывались полностью во весь проем, так что сидя на деревянной скамье, можно было высунуться наружу, вволю дышать прогретым, неожиданно жарким маем, впрочем, с надоевшей уже жарой, не отпускавшей и к ночи. Тот прицепной вагон был полон. Ворвавшаяся на остановке компания парней с гитарами и девицами, чьи отчетливые синяки на руках и ногах показывали, что жизнь к ним неравнодушна, принесла с собой холодок опасности и презрения к миру благополучия. Вмиг и очень умело были вывинчены все лампочки. Тотчас грянула разухабистая песня. Вагон был во власти темноты и случая. Летел припев песни: «...всю дорогу пили чифирок!»
На остановке прибежал водитель, голос его поразил неуверенностью:
– Кто выкрутил лампочки?
Взбунтовавшийся вагон, набитый темнотой и слепыми лицами, ответил ему по-черному.
Водитель снаружи залился милицейской трелью. Чудесным было действие этой трели! Парни с гитарами и их подруги, бросая сигаретки и тревожно переговариваясь, посыпались с подножек. Но едва лишь трамвай тронулся (водитель так никого и не досвистелся), едва лишь неосвещенный вагон загромыхал в своем противодействии силе движения, как через оконные проемы, цепляясь на ходу, вновь полезла эта неудержимая, непонятная, как ночь, молодая сила: темнели пятна вместо лиц, взбрыкивали в окнах ноги, масса тьмы толклась и уплотнялась. Это были толики и их подруги, толики московских окраин...
Русский модерн
Откуда-то донеслось – из Олимпии, что ли:
– Как Анохина корова: когда ни приди, никогда ее нет!..
Одна старуха о другой. А та, которую сравнили с Анохиной коровой, ушла к лихой подружке, шестидесятилетней Майке, – поманила она бутылочкой. Пьющие наши старухи...
– Нет-нет! – как бы отвечая всем старухам сразу, поспешно прокричал на днях человек посреди Москвы. У него – пятно на виске, мета старости, лысина, полуседые пушистые бачки. У него развеваются полы модного приталенного пиджака в рубчик и обнаруживаются чрезвычайно высокие каблуки, когда он бежит во дворе здания-комода, что на улице Чернышевского. Бледно-зеленое, в иные годы лазурное, здание с белыми колоннами, пышной лепниной, нишами елизаветинского барокко.
– Нет-нет! – кричит что есть силы этот московский старик тому, кто остался в окне легендарного барочного здания, моим старухам, всей своей жизни.
Его не услышит тот, кто пролетел, как всегда, навстречу утреннему солнцу на одной из соседних улиц, – лихорадочно белокурый, с грязноватыми мелкими кудрями, тощий, в светлом пиджачке, – разбрасывая речи безумные, спортивно-напористые, взахлеб. Московская достопримечательность этих лет. Пролетевшего видели незрячими глазами и запомнили женские головки, что красуются с распущенными волосами в декоре дома стиля русский модерн. Ах, и русский модерн хорош, что вы имеете против русского модерна?.. Что вы имеете против него, оставшегося с нами, соединяющего с теми, кто ушел? Будем же откровенны!
Теперь самое время сказать, как у одного нашего проникновеннейшего писателя в вершинном его романе сказано, что все это было «тогда», уже много лет тому, и что судит он себя и свою тогдашнюю жизнь в эти самые дни – в новой, иной жизни, к какой и стремился. И если его теперешняя жизнь не совпадает с тем идеалом, к которому он стремился и который выдавал себе, да и другим, за образец, что ж... Жизнь больше нас! Мы изживаем себя, изживаем, может быть, лучшее в нас, а мир – не нами сказано! – мир все так же молод.
Но так ли это? И что означает вечная молодость мира в особенном сознании тех опустошений в природе и в умах наших, которые нас мучат и не дают нам покоя? Неужели больше нет ее – этой вечной молодости мира? Неужели подходим мы к роковым канунам?! Мир, стареющий на глазах наших, мир, избывающий себя ежечасно, – вот что мы видим и сознаем. Будем же откровенны перед собою и миром: наша жизнь принадлежит не только нам.
Вера Васильевна. Надо бороться
Виделся с Верой Васильевной, встретив ее часу в шестом, – людно было вокруг; она шла мне навстречу. Я поздоровался, хотя понял уже, что она глядит сквозь меня, точно я бесплотный. При звуке моего голоса она вздрогнула и тоже сказала: «Здравствуйте». И прошла. Я сожмурил глаза от неловкости, как вдруг услышал ее вопросительный оклик:
– Саня? Ты?..
Я остановился, повернулся к ней, – слабая, неуверенная улыбка ожидала меня.
– Саня! – повторила Вера Васильевна, когда мы сошлись, и оживление промелькнуло на ее лице. – Ну, как ты? Как твоя жизнь?
Я что-то отвечал, близко вглядываясь в ее старческое, обтянутое истончившейся кожей лицо, на подбородке у нее заметно росли седые волосы; и я вот что еще запомнил: глаза у нее были изумленно-ясные, точно они стали видеть невидимое...
– А как вы, Вера Васильевна?
Но она только рукой махнула, слабо улыбнулась опять и даже легко засмеялась.
– Как там Москва, как твое Белое море? – Она глядела на меня во все глаза, и я не сразу нашелся что ответить. «Откуда она знает про Белое море? Мать говорила, что они давно не видались... Быть может, она и вправду ясновидящая?» – подумалось мне.
– Хорошо, что ты с ней развелся, – протянула она многозначительно и, усмехнувшись, быстро закончила:
– Хорошо!
Я принужденно развел руками, но она опять поспешила, опережая меня и, видимо, наслаждаясь возможностью высказаться:
– Я когда в первый раз услышала, сразу сказала: «Правильно сделал! Правильно!..» Вы с ней не пара.
– Да, слишком разные, наверно, – соглашаясь, промямлил я.
Пожалуй, я подлил масла в огонь: Вера Васильевна воинственно взмахнула кулачком.
– И думать нечего. Кто она и кто ты? Кто ее воспитал и кто тебя?..
Запальчивость ее была мне знакома, она многого не договаривала. Она не договаривала главное. А среди главного было то, как наши учительские семьи, словно сцепленные неведомым родством (четыре семьи), в войну без мужчин держались вместе и, пережив войну, не забывали об этом. И то, что у родителей Ангелины, уральских казаков, была своя и с т о р и я, в которой глухо упоминались причины многолетней жизни на Оби, в приполярной части Тюменской области (там и Ангелина родилась); а уж деревня и как меня встречали в ней – все это было после, после, на возвратном пути с Севера, когда чей-то дом перекупили, своего-то ничего уже не нашли... Главным было и то, что Вера Васильевна в войну, да и после нее, работая директором вечерней школы, в нашей учительской общине как бы судьей и ходячей совестью считалась, – и она приходила к нам, и отец к ней ходил советоваться, не обинуясь. Помню отца, какой-то разговор с ним, его странную – не могу объяснить – улыбку. Что-то о книжках говорилось, о моих беспутных чтениях по ночам... Улыбка его запомнилась – завидущая, что ли, печальная ли, провидящая. Умирая, он будто бы сказал Вере Васильевне: пусть ребята получат техническое образование, не гуманитарное... Ребята – это мы с братом. Думал он о нас, хотел как лучше. Помню, как меня – уже тогда! – поразили переданные Верой Васильевной его слова. Почему же он не пожелал нам с в о е г о пути?
Неужели его жизнь – его, выпущенного из Ленинградского герценовского института, – жизнь философа, была неудачной? Потом, в год окончания средней школы, Вера Васильевна повторила мне слова отца. Но все у меня было тогда уже решено, уже я пропускал мимо ушей советы матери, выдерживал ее обиды, выражавшиеся больше всего в многозначительном молчании, в многодневных неразговорах, и рвался куда-то, рвался...
Потом была последняя встреча, и ее, Веру Васильевну, везли в грузовой машине, памятник подпрыгивал на колдобинах, и я старался его удержать...
Костина довелось увидеть еще раз. Где он был, что делал – кто знает?! Верно, как он любил выражаться, бичевал. Усталое лицо ожесточилось, все та же телогрейка на нем – распахнута.
– Иван Иванович! – окликнул я его возле поселковой чайной. – Ты куда наладился?
– Да что тебе? – нехотя пробормотал он, отводя глаза. Покривил ртом... Устал, устал!
Сказал ему об этом. Снова знакомый, лихой какой-то, насмешливый проблеск в глазах.
– Я не устал, не с чего мне уставать! – Тут он чуть ли не поклонился мне, потом дернулся. – У меня и жизни еще не было, хоть и дожил я до пятидесяти, считай...
Смуглый неровной смуглостью, он словно прижжен изнутри. Его лица не забудешь: в его чертах, как бы уже навсегда потрясенных, длительность душевного усилия. Я вспоминаю все наши разговоры...
Опять передо мной общежитская комната на четверых. Где на тумбочке горкой насыпаны гвозди, молотки помещены на полке, ножовки висят на стене, напильники брошены на подоконник, топоры лежат под кроватью.
...– У меня жена в сорока километрах от Лодейного Поля живет, – говорит Костин. – Сколько раз она мне говорила: «Ты у меня, Ваня, шатун! Ты от меня бегаешь, а не видишь, что я устала от такой жизни... Ваня ты, Ваня! Что ж ты?» Станет она говорить так-то, а я знай наколачиваю молотком – новые подметки на сапоги напоследок решил подкинуть. Да и гвоздей-то у меня в этот момент во рту нахватано!.. Побьется она со мной, может быть, и заплачет, но – потаенно: поморская порода не позволяет ей в открытую реветь...
Что же его уводит от дома, от семьи, какая звезда ему светит?
– В Маленге я был – не взял меня начальник, – продолжает он (гвозди, гвозди во рту!). – Обесхарчился я, одежошку как есть всю спустил – обеднел совсем. Кинулся в Лоухи: слышал, в путевых рабочих там нехватка. Положили мне оклад, подбросили колесные деньги, чтобы не ущемлялся, да и поселили на полустанке в вагончике. Конечно, полную справу путейскую под роспись выдали, – мороз стоит окаянный... Без ума голова – калгашка! – пропился я тут же, забичевал. День бичую, два бичую, неделю... Заходит мастер ко мне в вагончик, а завечерело, коптилка у меня в головах на приставочке дрыгается. «Что ж ты, – говорит, – рабочий человек, ровно мертвяк лежишь? Тебя ждут, я твой молоток никому не даю... Давай с утра на пути выходи! А мы, дескать, в тебе не изверились». И оставляет трешницу на столе, чтоб, значит, я от смерти отбодался. Я с ним год вместе трубил...
Как-то, один на один, я его спросил:
– У каждого своя история, свои причины... Это понятно. Но отчего мы все куда-то стронулись, едем, едем – и нет нам остановки?! Ведь и на это должны быть свои причины?
Иван Иванович насмешливо взглянул на меня и показалось в этот момент, что на меня взглянула, как бывало не раз, Россия черная – со всем своим прошлым... Боже мой, с лагерями да зонами, «операми» да тихушниками! Надо же – экую наивность явил, спрашивая.
Он поспешно набросил на плечи телогрейку, словно ему стало вдруг холодно.
В самом деле повеяло холодом.
– Причины, кручины... – зло передразнил он. – Ишь ты – вопрошатель! Мне больно... – тут он потрогал свой шрам на лбу – ...что все без меня живут, никому дела до меня нет! Можешь ты это понять?
А потом я услышал от него невеселое:
– Вот и пошел я – пёхом и как придется! – хоть людям надоем, как ни-то вспомнят! Не могу же я сделать ничего такого...
Усмехнувшись и шевельнув бровями, Костин прибавил:
– Только много нас таких – надоедал!.. Вот и посмотри: где же моя жизнь? была ли она?
После этих своих слов он как бы очнулся. Улыбнулся, словно выхлопотал себе эту улыбку. Взглянул на меня внимательней.
– И все в задор говорит, и все в задор, – противным голосом передразнил он кого-то, совсем уж развеселясь.
Что-то я ему говорил... «Надо бороться!» – «Да за что же бороться?» – ликовал Иван Иванович все в том же тоне противного веселья. «Да вот хотя бы за то, чтобы можно было все сказать!.. О бичизме нашем проклятом, родном...» – «Все сказать? – перебивал он лихорадочно. – Легко ли? Ехал я тут в автобусе, слышал об одной, и тебя, Люляев, поминали. Хочешь, скажу?» И стал он ловко передавать то, что слышал о Наде и обо мне, о связи ее с прорабом-латышом... «Где теперь Надя, где она? – орал он чужим голосом. – Промышляет в Беломорске», – отвечал сам себе с притворной, бешеной грустью. «А чем она промышляет, чем?» – «Промышляет...» – клокотал смехом, чуть не стелясь передо мной.
Выдержал паузу и уронил последнее: «Вот тебе и «все сказать»!.. Легко ли?»
И тут я вспомнил почему-то не Надю, не сплетни о ней, которые и до меня доходили, а другое: распахнулся совсем уж гигантский зал пригородных поездов Рижского вокзала, и увидел я опять себя на скамье, греющегося в обнимку с кем-то... Попытки согреться и уснуть. Дело было в октябре, до сердца пронизывал холод. Та, которая называла себя литовкой. В ней все было преувеличено: руки, ноги, бока ее, груди, пухлое лицо... Обнявшись с ней, мы ощущали нашу мизерность в этом зале, потерянность. Никому мы были не нужны! Какая-то женщина поглядывала на нас остро, любопытствуя, все перегибалась, высовывалась со своей скамьи. А зал был непомерно огромен, словно городскую площадь крышей накрыли, и почти пуст. Зачем здесь были мы, бесприютные (на гостиницу и не надейся!); зачем нам не давали покоя все эти вокзальные служащие, всяческий люд в форменной одежде, следивший, чтобы мы не уснули?..
Потом литовку увела милиция: оказывается, ее знали раньше (вот тебе и никому не нужны!). Оторвали ее от меня, и пошла она едва ли не своей охотой, подхватив чемодан и не оглядываясь. Что это было? И кто была она? Холодно в Риге таким, как я, октябрьской ночью, холодно. Оперся я затылком о спинку скамьи и одновременно втянул голову в поднятый воротник пальто, пытаясь хоть немного забыться. Да где там! Любопытствовавшая женщина, потрясенная всем увиденным, стала выговаривать мне: почему-де я не заступился за «эту девушку». Но мне нечего было отвечать. И в самом деле, что тут скажешь?
– А еще обнимался...
Дообнимался. Оправдывайся же, если сможешь! Да тебе во всю жизнь не оправдаться перед всеми, кто сейчас виноватит тебя. Холодно. Оставшуюся часть ночи я провел, блуждая по пустому городу, а к утру падал с ног от усталости.
После всего
...И было еще вот что: звонок Ангелины, но после всего – после заочного разбирательства, которое провел сноровисто и без лишней волокиты беломорский судья Бубенцов, – из Москвы пришло ее согласие на развод. В Беломорске, в переговорном пункте, куда меня срочно вызвали, – долгий разговор с экскурсами в историю нашей с ней жизни, взаимными обвинениями, покаяниями. Потом, через несколько лет, она спросит при встрече: «Почему ты все-таки подал на развод?» И будет с напряженным интересом, словно намертво все позабыла, ждать ответа, объяснения, как будто ответ и объяснение могут что-то еще изменить... И станет искренне удивляться, когда ты пожмешь плечами, пробормочешь невнятицу. Что же там объяснять! Ведь все ясно и так. И было ясным уже тогда, на аспирантской свадьбе: не жить нам вместе!
Дела между тем у нее станут идти все лучше, хотя и не без заминок (будут еще трудности с защитой диссертации из-за домогательств профессора Сигубова, ее руководителя, домогательств почти в открытую, с обещанием устроить завотделением гастроэнтерологии в одну из престижных столичных клиник). Очень скоро она удачно выйдет замуж и у нее родится ребенок – мальчик.
А у тебя жизнь и в самом деле будет, как ты и хотел, необычной: договор тринадцатый – красным карандашом это число на обложке черканули – тебя отпустит; гидростанцию малую из каскада на Выг-реке вы достроите; и снова в большом городе в старом доме, подлежащем скорому сносу, откроется какая-то притемненная комната, а там – висящая на затертых обоях карта-простыня, покрытая натужными жилами рек, с накинутой красной, частой сеткой железных дорог...
Но карта, карта – как она стара! Ее в ослеплении надежды и в час без просвета касались руки, вспотевшие от волнения. Тяжелые ладони неумело упирались в нее, как будто дивились простору жизни, а пальцы ловили скользкие кружки, звучащие именами отдаленных мест. На таких именах от судорожного поиска остались черные следы. Незаметный человек с небрежным лицом переспросит из-за стола:
– Куда вы хотите вербоваться?..
1977








