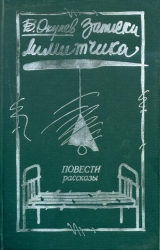
Текст книги "Записки лимитчика "
Автор книги: Виктор Окунев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 24 страниц)
А вот этим двухэтажным домом с высокой крышей, говорю себе, владел дед Блока. Угол Кузнечного и Марата. Напротив – бело-желтым айсбергом плывет в водах ночи музей Арктики и Антарктики. Слышно, как часы на башне Московского вокзала начинают бить полночь.
В некий пятничный вечер – его нарочито удивленное:
– Ты еще не знаешь про Бастилию?!
Василий Сергеич. В отличие от меня, был наряден в своем «представительском» белом пиджаке, белых кроссовках. И мне хотелось сказать ему: «Ну ты франт!» Бастилия, как я догадываюсь, из его н а б о р а... Вообще-то он работает теперь Наборщиком портретов (именно!) в системе «Облфото». Это значит: разъезжает по области – городам, поселкам, забытым деревенькам, звонит в квартиры, стучит в запертые двери, ворота. Уговаривает увеличивать фотографии родных и знакомых, обещает отличное исполнение портретов. Ему обычно верят, он говорлив, улыбчив. В очках. Набирая заказов, Занин стремится тем самым (кроме заработка), к закреплению типов в своей незримой коллекции... Что же это за коллекция?
– Это мой «Русский портрет», только конца двадцатого века!.. О «Русском портрете», надеюсь, представление ты имеешь... Но у меня в коллекции, конечно, не только русские – я шире беру, в духе интернационализма!
Бастилия, или Бастя, – так зовут общежитскую азербайджанку. Ей лет 19—20, недавно приехала, приревновав мужа на расстоянии, он здесь на заработках, у нее нет прописки, и она не работает. Есть ли у него прописка – это, как говорят, темный лес...
Когда ей сказали, что Бастилия – это тюрьма, – она страшно хохотала, не верила, думала, что разыгрывают... Здоровенная!
– Я – турма!.. – хохотала, тряслась всем могучим молодым телом. – Бегите от меня, я – турма!
«Зачем же бежать, – будто бы сказал Сергеич, – когда история велит брать штурмом».
Ну, про штурм, думаю, врет.
Мне было в этот пятничный вечер как-то не до Бастилии. Вымотался. Вспоминал: как мы с Валентином сегодня оказались на седьмом километре... Валентин, или Дядька. Маленького роста, хотя и широкий, виски седые, широкое и очень грубое лицо, как будто его взяли да и повозили этим лицом по большой проезжей дороге – она и отпечаталась там со всем своим сором, щербинами, комками. Тихий голос в телефонной трубке послал нас с машиной за тремя с половиной тоннами полистирола. Краткая, но жестокая работа! Грузили «ЗИЛ», загнав его в дедероновый, с автоматическим поддувом, склад. Складской воздух сбивающей с ног волной выходил через распахнутые нами двойные железные ворота – оболочка этой огромной колбасы (а внутри – мы!) волновалась, с гулким шумом проседала, грозя упасть на голову... И падала! Хотя мы позакрывали уже двери и ворота. Теснила, теснила, наваливалась плотней... Странно чувствовать себя придавленным, но сохранным!.. Поддув, однако, делал свое дело – оболочка скоро снова вздымалась, освобождая нас из этого краткого, смутного плена.
Погрузка – это мешки бумажные, горы мешков, сыплющиеся черные и белые гранулы полистирола, их маленькие водопады из самых неприметных, вроде бы, дыр, потный, страшный Дядька, и – пыль, пыль.
Черное и белое. И я, должно быть, как этот Дядька!..
Его, моего напарника, повторенное: «Нас и так уж унизили хуже некуда...» Удивительным казалось: этот хрипун, ругатель, черная глотка – может чувствовать униженность?.. Размышлять об этом! Он, как оказалось, чувствовал и размышлял.
С ним соглашались. Особенно горячился Гладышев, попавший в грузчики из офицеров милиции. За что разжалован был? За какие-то злоупотребления – говорили об этом в отделе темно, скучными словами. Вроде бы смыкался с ворьем, потворствовал, извлекал выгоду – взятки – из потворства и смычки. Честных, само собой, старался развратить... В самом деле, в нем чувствовалось порочное. Обыкновенный, в общем, среднего роста, в джинсах. С усами и круглой бородкой. Разве что глаза – всех глаза выдают! – что-то слишком внимательное в них, точно в жизни тайной для него не существовало тайн.
О тайнах.
Накануне сжигал их в заводской топке – кирпичная труба, дверцы железные распахнулись, приглашают, черно-седой зев поигрывает отблесками... Так называемые «секретные бумаги», предложено сжечь. И сжигал, бросал обреченно белеющие папки, рассыпающиеся на листы десятилетия, все никчемушное и косное наше – туда, туда!.. Циркуляры, распоряжения – с проклятиями вслед. Выл огонь, из печи тянуло синим чадом Брал огромную кочергу, шуровал, трепал сыплющую пьяными искрами зажелтевшую гору – вся секретность улетала в трубу. И труба с обкуренным верхом царила над заводом, соперничала с управленческим зданием.
Встречал нас у студенческой пельменной, где сохранялся тогда еще буфет с вином, Элем. Или вновь возобновленный? Сложны наши отношения с подобными буфетами, где, в свою очередь, все перемешалось – закрытия, открытия...
Итак, Элем.
– А-а наши... – враги народа, что ли, добавлял гнусное, будто бы не сознаваемое; фиолетовое лицо улыбалось с трудом, налившиеся кровью глаза отталкивали. Тут же спохватившись, заболтал, понес другое – ублажающее: обо мне – «Хороший когда-то был журналист... инструктор оргрекламного отдела...» Я объяснял Занину: с Элемом работали вместе в одной шарашке, он – заместителем начальника; когда уходил оттуда, он еще оставался. Потом, лет через семь, обнаружился в охране завода. Столкнулись на территории лоб в лоб, он окликнул. Оказалось, начальник охраны филиала. Хотя, кажется, по-прежнему предавался возлияниям – не в духе времени... Вообще был не в духе. Вопреки обычному своему состоянию неявного веселья, когда слегка уже на взводе, с растянутой полуулыбкой безгубого рта.
Мы только вошли в пельменную – я и Занин, – следом за нами и Элем (а уж был он оттуда). Требовался рубль. Василий Сергеич показывал красненькую, почему-то ее нельзя было разменять, пришлось давать мне. Потом я говорил ему:
– Мне для тебя не жаль. Но им – этим бывшим! – я не желаю... У меня, сам знаешь, рубли тяжелые – грузчицкие. Дал потому лишь, что ты с ними в каких-то отношениях.
– С кем – с ними? – переспрашивал он. – С одним Элемом. Заходил несколько раз к нему, я тебе рассказывал... Негде было приземлиться. А у него там – кодла. Все бывшие к нему сбегаются. Да я тебе говорил! И как Наборщику портретов мне интересно!..
Образ моего приятеля двоился, но я, как мне казалось, понимал его. Элем и кодла – это была тема! Она, как нетрудно догадаться, имела продолжение.
Элем. О себе он тогда недвусмысленно заявил: я сталинист. Подвел чуть ли не за руку к окну, очень настойчиво, небольшой портрет Сталина показал – с отставленной, как у складного зеркала, подпоркой. Я понял: чтоб не заблуждался ненароком на его счет. Предупреждал. Интонация, правда, внешне безразличная, но какая-то сукровица из тайной раны сочилась... Моему появлению вроде не удивился. Хотя опасения у меня кое-какие были: а ну как заворотит!..
– Сергеич обещал подойти...
Не уточнял, знал, о ком речь. Время проматывалось, прокручивалось для меня отнюдь не вхолостую. Я жадно оглядывал его жилище. В большой комнате во всю ширину – ковер на полу, с драным краем. Немецкое пианино из Шверина – «А! Расстроенное!» Платяной шкаф слева при входе, на нем – шляпа. Никелированные спинки полуторной кровати бросаются в глаза. Подумал: пожалуй, знак бедности... Деревенские сундуки, обитые жестью – из довоенных лет, – составлены в углу буквой Г, дешевые дорожки на них. Нигде ни одной книги! И видно, что женщины нет. Хотя мыто. Я знал уже: жена умерла, но есть пришлая Валька. Живет, а надоест – ссорится и уходит; обещает, что навсегда: «У тебя за всеми грязь возить – не перевозить! Тебе уборщица нужна, а не я!» – повторяет Элем ее слова со своей особенной, режущей, усмешкой. Десять лет, что ли, вместе. Отвечал ей: «Ну, ты свое получаешь. Ведь получаешь?»
Пришел Занин, и мы сидели теперь в малой комнате за круглым столом, накрытым клеенкой. Венские стулья. Телевизор черно-белый, на стенке – динамик-«маячок», зудевший негромко фоновой музыкой, прорывавшейся речью. И еще одна послевоенная кровать с высокими спинками. Со взгляда на нее и возник в разговоре герой и генерал Вука. «Вука, – повторял Элем, – Вука!..» Когда-то переночевал на этой кровати. Не убоявшийся, по слову Элема, клопов, «этих самых друзей, которые прячутся», не побрезговавший. «Я же солдат!» – сказал Вука. Элем жил по-солдатски, по-деревенски. Откуда, меня интересовало, Вука взялся? Сопровождал, кажется, известного командарма, приезжавшего в город с инспекторской проверкой. Может быть, путаю. Но где-то, между Вукой и командармом Василием Ивановичем, человеком горячим, размашистым, в рассказе появлялся подставной «дикий» козел Василек. Следовало что-то смешное о Васильке, охотничьем азарте командарма, впрочем, соединявшееся с давними – служебными! – страхами... Элем как раз не смеялся. Про Вуку: скажи он сейчас: «Прыгай с пятого этажа!» – прыгнул бы не задумываясь.
– Уважаю Вуку! – горячо говорил Элем, лицо его было багрово. И снова: – Скажи он: «Прыгни!» – прыгну!..
Приходил еще кто-то, подсаживался за круглый стол. Элем показывал фотоальбомы, уводил в другую комнату: «Ты не видел. Пойдем покажу...» На фронте был в дивизионной разведке. Фотографировался всегда с кем-нибудь, в группе, никогда один. Светлые глаза, довольно крупный острый нос, несколько портил лицо скошенный подбородок. На молодых снимках скошенность подбородка была почему-то не очень заметна. И еще были снимки – послевоенные, особо заинтересовавшие меня. Вот лишь Элем в офицерской форме, прочие – в штатском. Такие на всех широкие пиджаки и брюки, широкополые шляпы; все закуривают на снимке, – скуластые лица, татароватые, знающие как будто что-то свое, вылущивающие сердцевину времени, причастные... Среди них – кто-то в притемненных полуочечках, широконосый, губастый – вот-вот, слабо очерченные, бесхарактерные губы! Тогдашний ректор педагогического института. Мой ректор! Меня изгонявший!..
От нашей группы ходила к нему делегация во главе со славной бабой Копытовой, преподававшей первый год, переполненной Москвою, ее настроениями. Из МГУ. Просили, нерешительно улыбались, был расчет на доброту, бесхарактерность. И вот теперь говоришь себе, разглядывая снимок... Кто заводил этот механизм? Никакой вины своей не чувствовал, не понимал. Понимание того, что происходило однажды весенним, очень солнечным днем, пришло потом. После армии. А тогда был до глупости наивным, жаждал видеть во всем только лучшее. Ведь истинной причиной изгнания было что? Некий дух свободомыслия, исходивший от тебя, от Коли; а вернее, его, этот дух, принесли те (а вы подхватили!), кто вернулся в институт после выключки конца сороковых годов – и отсидки немалой, а затем реабилитации! – те, ходившие с перекинутыми через плечо галстуками, постаревшие, но не сломленные, – необходим был упреждающий удар. Ну шуточки там, словечки. Высказывания в коридорах и по аудиториям. Стукачи, само собой, стучали. Журнал, пожалуй, тоже причастен – рукописный, – где те же шуточки, от хрущевской оттепели кружилась голова. Журнал мог быть главным. Там оценки. Оценивались люди, время. Из-за этого сломана жизнь. Она тогда же сломалась. «Обратите внимание, как он смотрит на меня! Какой у него взгляд – ненавидящий!.. Он меня ненавидит! Нет, ему надо дать уйти...» Пищал, что-то лепетал девчачий добрый хор, потом он замолчал.
Кого-то я спрашивал недавно – мне ответили: тот ректор уезжал в среднюю Россию, чуть ли не в Мичуринск, пил; он плохо кончил.
Шел разговор о наших днях. Элем горячился, доказывал, что в перестройке, новациях принципиальной новизны не видит, играет кое у кого самолюбие, сводятся счеты между своими: Симеонов, например, начальник Главстроя, снят за что? А как лишали его депутатства... Это же нарушение всех норм! А как снимали директора металлургического Лагуненко! Да, пил, употреблял коньяк на рабочем, то бишь директорском месте, но ведь был и работник!..
О сыне: живет отдельно, после смерти матери многое изменилось, своя семья, давно не был. И что-то покорное в глазах запьянцовских.
И было второе сидение у Элема, и говорил в большом возбуждении Василий Сергеич – говорил, говорил... Точно никакой он не Наборщик портретов, а некая говорильная машина. В результате, от чужих криков я устал, точно побыл на тяжелой работе.
На следующий день ждала меня поездка за город – вместе с заводскими – и полевые работы.
Старухи поют. Вчера на Елагином острове старуха пела «Варяга», смотрела на меня мертво, слышалось «последний парад наступает» и «пощады никто не желает», тыкала палкой в мусорные урны – как бы что-то проверяла. На груди у нее – нашивки «ранений», какая-то неубедительная медалька. Хотя дело, конечно, не в медальке. Пошла туда, где дворец перед луговиной; позади дворца весь этот день раздавались хлопки в ладоши женщины, которую я назвал про себя ханшей. Она управляла таким образом своей ордой. Это была какая-то спортивная секция, полные и полноватые дамы в тренировочных брюках тянулись за руководительницей рысцой, а затем, под хлопки, валялись на изумительно свежей траве, поднимали по команде руки, ноги, выгибали хребет... По Невке наперегонки летели байдарки и каноэ.
А сегодня у «Маяковской» народу было густо – и на Невском, и с улицы Марата; я двигался в толпе, привычно сливался с нею, с ее аурой, и так же привычно думал о Тацитове, некоторых странностях его существования, о приливах и отливах в его настроении, обо всем, что с ним связано. Я как-то очень чувствовал в ту минуту ритм, пластику всего этого движения – и моих мыслей, представлений. И казалось, что кто-то руководит всем этим – как та ханша... Но уже приближалось нечто, разрушающее эту иллюзию, и двигалось оно от угла Стремянной – оттуда, где была, сравнительно недавно, Троицкая пятиглавая церковь в русском стиле, а с 1980 года – самые большие в городе бани, банный храм. Раздражающее неслось, скрипучее. То ли пели пьяные, то ли кричали, били кого... Вытягивал шею, искал – никого не находил. Но вот приблизилась в толпе – с большим толстым лицом, старая, с глазами потерянного человека, отчаянными и счастливыми. Она пела. В Гостином дворе в эти дни продавали индийскую ткань маль-маль, белую и редкую, и старуха несла в экономной завертке именно рублевую маль-маль. Прижимала...
Но не о старухах теперь речь – хотя сочувствовал им, морщился от сочувствия; само их пение, считал, – знак каких-то событий, если не бывших, то имеющих быть. Молодость моего отца прошла в этом городе, он учился в институте имени Герцена, окончил философскую секцию общественно-экономического отделения – давно, до войны. Специальность – диалектический и исторический материализм. Обыкновенно говорилось так: диамат-истмат. Способности, как я понимаю, были необыкновенные: будучи студентом, преподавал в том же институте на улице Плеханова. Надо было на что-то жить. Одновременно преподавал в ЛИНХе – институте народного хозяйства – на рабфаке. Как раз здесь, на улице Марата. В том здании с импозантной башней, где были когда-то Высшие женские естественно-научные курсы Лохвицкой-Скалон. И где пыталась добиться своего аспирантка и дворник Людмила хабаровская... В справке из ЛИНХа, которую я когда-то видел, было сказано об отце того времени: «проводил четкую классовую линию и борьбу на два фронта, имел хорошие взаимоотношения со студентами...» Немыслимое количество справок осталось у отца от тех лет!
Позади были Уржум, педагогический техникум, Вятка. Дружил с сестрами Заболотскими, поселившимися на Васильевском, землячками; в одну из них, Веру, был влюблен. У них еще был брат. Чем кончилась влюбленность? Едва не женился. Но отчего-то все расстроилось. Ленинградские знакомства продолжались, приводил в отчаяние малый рост, деньги тратились на шоколад, покупал по килограмму и через год вдруг вырос, что было удивительно. «Ваня, ты ли это?» – ахали вятские... Этот период жизни заканчивался новой влюбленностью – в Машу Колчину. Оставляли для научной работы при кафедре, отзывы были отличными, – бросился за ней в Свердловск, голова шла кругом, казалось единственно верным: быть как можно ближе к ней... И кто кого любил, поскольку все запуталось, и от чьей любви я не знал теперь, как эти старухи, покоя, – бог весть!
От Марии Колчиной, считавшейся уже его невестой, он сам откажется через несколько лет – вскоре после того, как профессор Колчин, ее отец, будет убит у подъезда своего дома. Обстоятельства убийства покажутся всем – и ему – вполне загадочными. Чего хотели, искали, что – неуничтожаемое! – уничтожалось?.. Время мало-помалу накатывало валом смутным, как сон, грозным. Уже в нем проблескивали молнии; туча росла на глазах, чернела чугунно, задавливала дыхание; по земле мело всяческий сор, ветки, листья. Отсюда, из наших дней, это видно так ясно, тогда – никакой ясности. И даже думалось наоборот. Что туча – тучей, а веселье неотменимо, как воскресная вылазка в парк имени Маяковского.
В горном институте, где работал ассистентом на кафедре общественных наук, в ту пору происходили события важнейшие. Заведовал кафедрой профессор Теребенев, к отцу благоволил. Открывались перспективы, наука манила. Но однажды Теребенев исчез. Исчезла и вся семья. А перед тем на кафедре затевалось дурнопахнущее – вспухало, как гнойник, без видимых причин, дело Теребенева. Кому-то было выгодно, некоторые торопили события, в финале планировалось неотвратимое – осуждение. Сейчас не понять: в чем вина Теребенева? Почему он должен был тогда исчезнуть? Исчезли все, время всех поглотило. Людей нет, но осталась пытка – та, что мучила, сводила с ума: зачем?!. Зачем они готовились, советовались с родными, напивались, их выворачивало, наутро смертельно трезвели, обливались потом – перед тем, как отречься? Предупрежденные, как надо проинструктированные... Был момент стыдобы прилюдной или не был? Одно знаю: был трепет. Трепетали перед неведомым. Отца тоже обязали выступить с разоблачением, от него ждали... Но он промолчал. Он выбрал с р е д н и й путь...
Разумеется, этот путь не спасал – напротив. Он обрекал. Отец это ощутил всей кожей. Когда почувствовал взгляды... Очень скоро нашли ошибку в методработе – хотя бы и прежней, все подняли, перерыли. Рекомендована была слушателям сети комсомольского просвещения биография Чернышевского из серии «Жизнь замечательных людей». О замечательном человеке написал не тот автор. Но в момент рекомендации он был тот! И ни один смертный не подозревал... Как ни странно, этого-то не хотели знать, не замечали. По комсомольской линии вкатили выговор с занесением в личное дело. В приказе об увольнении «по личному желанию» звучало тем не менее зловещее: «в связи с допущенной ошибкой...» Поэтому поехал тем же вечером к Колчиным – в тот дом, где бывал столько раз, где что-то складывалось, не складывалось, иногда слепила надежда; где теперь ждут его Маша и ее мать, брат... Надо было проститься, просить прощения. Потому что ошибка с автором «Чернышевского» решила: быть или не быть. Не быть науке, доцентуре, Маше Колчиной, которой мог принести и уже нес, так думал, одни лишь несчастия, усугубление ситуации. Быть – девушке в пальто из ткани «фуле» – почему-то «фуле» запомнилось! – телефонистке, круглой сироте, жившей на квартире бок о бок с какими-то геологами, моей будущей матери. Начиналась новая жизнь, отдающая сиротством.
...Отец матери открывался, только когда немного выпьет, разволнуется. Мог тогда всю ночь вспоминать!
И вот передо мной лежит ворох пожелтевших бумаг, в которых – прошлое время, прошлые разочарования, надежды. Надеялись. Из Свердловска пришлось уехать. Кочевой быт и такой же скарб. Одно время отец заведовал учебной частью некоего филиала «факультета особого назначения», связанного с Наркомвнуторгом. Сохранились его командировочные удостоверения, какая-то труха учебных планов, выписки из приказов ко Дню ударника... И даже акт тридцать восьмого года о сдаче казенного имущества, где перечислялись: кровать-полуваршавка, два старых венских стула, пять стульев березовых, стол дубовый, диван, кушетка, крытая клеенкой, этажерка... Как будто за этот быт все еще надлежало отчитываться, держать перед кем-то невидимым ответ!
Пожалуй, Сева поверил в мои любительские штудии, в так называемые «записки». Хотя поводов я не давал. Не навязывался. Но ведь говорилось, обсуждалось в кухне со скошенным потолком: где разгадка нашим дням? Какой в событиях смысл? Принес из недр квартиры школьную тетрадку, бросил ее с нарочитым небрежением на столик, рядом с тарелкой, где – худосочные оладьи горкой, растаявшее масло тут же в вощеной бумаге.
– Можешь посмотреть. Если хочешь, конечно. А можешь... – И он глазами на открытую форточку показал. Понимай, как знаешь.
– Сева! – Я колебался, не хотелось его огорчать, надо будет о написанном в тетрадке выкладывать все начистоту. – Это твое? Что это?
– А! – в голосе пренебрежение. – Попытка! В училище адмирала Макарова. Курсант из нашего кубрика – мы комнаты называли там кубриками – увлекался... Ну, и я решил...
– Какой это год?
– Пятьдесят седьмой.
И вышел из кухни. Дело, кажется, было нешуточным. Хотя в рассказе какие-то молодые люди много шутили. Попали в ресторан без денег, заключалось пари на выживаемость. В результате, кто-то кого-то пытался подловить: они – девочек, или девочки – их... Я отмечал про себя: на одной – воротничок «Мария Стюарт», платье с разрезами; на другой – кофточка-кимоно. Драгоценные, но, согласитесь, ничтожные крохи... «Уже устаревшая, – сообщал автор, – прическа «Дина Дурбин». Молодец! Мелькнула подпись автора: Сева Нищий. «Так он это нищенство свое с юности в себе лелеял, примерял!.. – выходила догадка. – Впрочем, какое нищенство? – гордыню!» Было там, в его истории, чем гордиться и чего страшиться. Севин отец, военный инженер, изобретатель военной техники, в июле 37 года не вернулся домой. Все остальное для него закончилось в августе. Полигон на Ржевке сразу ликвидировали. Мать перед самой войной вышла замуж – снова за военного. Отчим их спас: успел вывезти в Пермскую область. Откуда Сева и вернулся, почему-то уже один, без матери, в освобожденный от блокады город... Было так просторно, вспоминает, потому что людей было мало. Идешь по улице, и словно улица – твоя. Ведь мальчишка! Про школьные годы – никогда, ничего. А вот что делать и куда идти после школы? «Никуда бы не приняли, ни в один вуз», – сказал он весьма определенно. Училище имени адмирала Макарова отличалось от всех других – подобных – заведений чем? Тем именно, что туда можно было поступить, скрыв правду об отце. Откуда взялась такая фантастическая возможность? Сева объяснял механику поступления в общих чертах. Хотя в общих чертах объяснить это невозможно. Работала на него в заполняемых обязательно бумагах ничтожная лакуна, высосанная завихрением времени, упавший в разряд бессрочно-отпускных пунктик... Но училище шанс на выживание для бедолаг оставляло. По крайней мере, в ту пору. И вот молодые люди шутили...
Чего они все тогда хотели? Спроси их – какая в ответ поднялась бы туча выкриков, а то и просто воплей восторга! Молодость искала случая выразить себя, независимость суждений почиталась. Где вы все, сотоварищи в форменных шинелях? Но не надо бы спрашивать себя об этом – теперь, когда давным-давно махнул он рукой на те дни, отдалившиеся вместе с туманами Охотского побережья, спрессовавшиеся где-то там в толщу непробиваемую.
В минуту черного веселья, жестко осклабясь, сказал:
– Полностью уверен: все наши – спились! Уверенность сто процентов.
И захохотал злорадно.
Я усомнился было. Он пояснил, все так же веселясь:
– Наших в кубрике я до конца знал... Тайны никакой не было в них.
Сам, в то же время, носитель тайны. Это была тайна времени. Снова давал знать о себе старый слом?
А как же тот из их кубрика – Андрей Старков? Удивительно покатый лоб у него, настойчиво оберегаемое от посторонних глаз многописание. Но не скрывал честолюбивых намерений. «Ты что, в самом деле, хочешь быть писателем?» – «Что значит «хочешь»? Я уже...» Ошеломление не проходило, новость поражала воображение. Значит, ему дано? Кем это может быть дано?.. Все изгибы души человека... А мне – дано или не дано? Вопрос поставлен, на него следует отвечать. И отвечал. Носил тетрадку в литобъединение. Эта гора, как туча в вечернем небе, казалась неодолимой. Он поразил на всю жизнь – Андрей Старков! Особенно его последнее заявление. Получил тогда какой-то пакет из Москвы.
– Из училища, ребята, ухожу!.. – Точно лихорадка его била, глаза шалые. – Вот, получил последнее подтверждение. Теперь я – профессиональный писатель!
Уезжал на Урал. Там – родственники, корни, ветви; биографийка путаная, в которой уже есть и Клайпеда с какой-то морской школой.
Но тогда, в 56-м много спутанного поднялось со дна – казалось бы, уже похороненного, затянутого донным песочком, пованивающей жирной, радужной пленкой поверху... Это была школа в три ступени, где просвещаемые все забыли, ничего не хотели знать, не знали никогда. Еще вчера – ни о чем таком ни в газетах, ни в ночи пьяный, нигде. А теперь об этом при свете дня сообщали газеты, радио словно сошло с ума! Впервые за годы и годы узнаваемое на улицах ошеломляло и даже пугало: оказывается, возврат из небытия возможен, и не только возможен – уже происходит, Видел в театре: изменилось освещение, возбужденно шумевшие люди вынеслись вон, резко потянуло холодной пылью и тленом, а на гигантском заднике сцены задвигались такие же огромные тени. Их выход! – они сейчас выйдут к нам, вам...
В училище волновались. Курсанты ходили косяками. В те дни набросал на нескольких листочках требования, обращенные неизвестно к кому. Это и были знаменитые в его жизни «тезисы 56 года». Вокруг них все закружилось, завихрилось тогда на несколько дней; напряжение нарастало. «Им нужен был кто-то... – бормоталось в кухне. – Надо было дать им направление...» Тезисы обманом заполучил Сологуб, преподаватель, притворявшийся либералом, заговаривавший с курсантами вольно, на темы «без берегов». Вырвал из рук, как мальчишка, убежал. Отнес добычу начальству. Потом, правда, листочки возвратили. Висело, почти зримо, томительное ожидание: что будет? на что решатся? Над Севой теперь некоторые смеялись в открытую – «Готовь сухари!.. За такие тезисы не поздоровится». Но, слава адмиралу Макарову, незримому покровителю, – все обошлось!
Упоминались в его рассказе площадь Искусств, ходившие толпами студенты... И то, как славно пошумели тогда, потолкались! Но его как-то заносило нынче, заносило в сторону – кричал о поступке своем в те дни, когда вокруг курсанты стеснились, притерли его к стенке, ждали от него каких-то слов, и спросили вдруг решительно: «Распространять ли их – тезисы?.. Если надо...» – он, страшно заколебавшись, ответил: «Не надо». И теперь отчаянно подчеркивал этот свой поступок – решение... Смотрел на меня вопросительно. Точно я мог сейчас оценить. Но суть поступка была непонятна, тезисов я не знал. И в общем не тянуло выспрашивать: что же в них было? Насколько понял: требования дня, момента, вопль о справедливости. И, вне всякого сомнения, торчали там железными чушками скулы истории...
Через много лет – совсем недавно – подошел к нему на Литейном незнакомец, говорит: «Я тут присматривался к тебе... ты – такой-то?» – «А в чем дело?» – Обрадовался, сразу, говорит, узнал! Оказалось, курса на два помладше был... Севу младшие знали. Вообще в училище. Он радостно удивлен и как-то очень молодо переживает:
– Понимаешь, они меня знали! Хоть я их, конечно, никого не запомнил. И этот мужик так и сказал: ты был известная личность...
Но все у него кончается черными корочками. И теперь он удовлетворенно зафукал, потянул тонко:
– А где мои черные корочки? Сейчас я их...
И наступило время Охотска, куда был распределен после окончания училища. Специалист по морским льдам, Сева был подчинен начальнику метеослужбы Охотского района. Первая должность называлась так: начальник морских экспедиционных работ... Маленький начальник, старший инженер, сам находящийся в постоянном тягостном подчинении. Что от него требовалось? Должно быть, доскональное знание и прогнозирование ледовой обстановки. «Ледовая обстановка... – говорит он, точно в бреду. – Ледовая обстановка...» Молодая жена, ленинградка, смотрела холодно или язвила. И это тоже была ледовая обстановка. «Ты зачем приехал из Ленинграда? – встретили его глумливо; отношения были гораздо жестче, грубей, чем он ожидал. – Жидок ты для этих мест!..» И вот результат: льды заползали в душу, он видел их в мутных снах, от них не могло быть спасения. Чем-то он мешал одному человеку. Этим человеком был его начальник Шиханец. Демонстрировал беспричинную неприязнь, как поначалу считал Сева, мог прилюдно унизить, а на самом деле, как понятно стало позже, имел гнусный умысел: сломать. Худо еще было то, что круг людей ограничен, знали друг о друге все... Шиханец, негодяй, экспериментировал: мог матерно обругать при нем подчиненных женщин. И смотрел, как ленинградец себя поведет. Смотрел с наслаждением, с извращенным интересом; корчи Севы его вдохновляли. В конце концов, когда местная пресса в лице редактора выступила с замечаниями о развязавшемся языке Шиханца, отправил того же Севу к редактору с опровержением. И злобно требовал: опровержение должно появиться, должен объясниться, доказать... Самое ужасное, говорит теперь он, ходил в редакцию и объяснялся.
Спасения искал в шахматах – много играл. Работник райкома комсомола Коллегаев, с которым сошелся ближе других, тоже был заядлым шахматистом. Запросто называл его Коллегой. Спасением казались шахматы и спирт, не иссякавший у Коллеги. Странная осталась нежность к этому человеку! Наклонности у него, если смотреть под каким-нибудь духовным рентгеном, просвечивались авантюрные. Легковесен и завирать мастер – этакий охотский Хлестаков. Но – с неотклонимыми рукой, взглядом – из-под низко падающих мелких кудрей светлой масти. Среди охотских, занятых ежедневными прозаичными делами, он казался самым праздным, незанятым. Хотя трудился упорно, как выяснилось через какое-то время; исподволь готовясь к осуществлению своего плана, специально напускал легковесный дым... Его отношения с райкомовской кассиршей ни для кого не были тайной, так что Сева мысленно выстраивал в охотской жизни Коллеги следующий ряд: шахматы, спирт и Расщупкина. При желании можно менять местами, Расщупкину ставя на первое...
Однажды Сева выпросил денег у Коллеги – на поездку в Хабаровск, где собирались сильнейшие шахматисты края. Денег, разумеется, казенных, райкомовских. И тот – вот счастье! – легко дал!.. Отпросился – Шиханец почему-то не препятствовал – слетал в Хабаровск, о чем и теперь, четверть века спустя, вспоминал с удовольствием. Это была отдушина, когда дышалось легко, как где-нибудь на площади Искусств, светлое пятно на однообразно сумрачном фоне той жизни.








