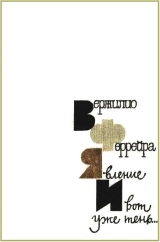
Текст книги "Явление. И вот уже тень…"
Автор книги: Вержилио Феррейра
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 23 страниц)
Однажды, спускаясь к Россио, к этой просторной и пустынной площади, по которой люблю бродить, я встретил шедшую мне навстречу Кристину и сопровождавшую ее служанку Лукресию. Кристина была сама важность, сама серьезность, что у нее, конечно, не было результатом данного ей, воспитания, цель которого преждевременно сделать из ребенка взрослого. В кремовом пальто и голубом, подвязанном лентами у подбородка берете, она уверенно шла рядом со служанкой, приветствуя улыбавшихся ей важных дам города, стоящих у магазинов приказчиков и землевладельцев в сапогах из телячьей кожи и отложных воротничках без галстука, заколотого золотой булавкой. Кристину все знали.
– Ну, Кристина! Идешь с урока музыки?
– Нет, не с урока. Моя учительница приходит к нам, домой давать урок.
– Тогда где же ты была?
– Навещала Ану, она заболела.
– Заболела?
– Да. Вчера у нее была температура, но сегодня ей лучше.
Ана жила рядом с Россио, и я решил заглянуть к ней. И вот когда я спрашивал у открывшей мне дверь служанки о здоровье Аны, меня и увидел выходивший из дома Алфредо и принудил войти. Это был старинный особняк с большим холодным вестибюлем и идущей в глубине лестницей с гранитными перилами. Посередине вестибюля, так же как в доме у Моуры, стоял медный горшок – предмет роскоши давно ушедших времен. И опять, как в доме у Моуры и как во многих других домах, увиденных мною в случайно приоткрытую дверь, я ощутил холод далеких времен, холод могил наших предков, мрачное безмолвие пещер, гулкое эхо кованых сапог сеньоров в морозные зимние утра, первобытную грубость наших пращуров. В небольшой зале с раскрытыми и неплотно зашторенными дверями у камина сидела Ана. Она подняла на меня большие горящие глаза и, улыбнувшись, обнажила выступающий вперед резец, что придавало ее волнующему облику детскую несовершенность.
– Так что же это с вами случилось? – спросил я.
Но розовощекий Алфредо, вытянув вперед руки и раскланиваясь, прервал меня:
– Вот и хорошо, мои друзья. Вот вы и потолкуйте здесь, в тепле, а я пойду по делам. Дорогой доктор, дорогая Анинья, прощайте, я ушел. Скоро придет Шико.
Я сел на софу напротив Аны. В камине потрескивали дрова, за окном, выходившим в сторону вокзала, виднелся лес белых дымоходных труб, вазоны для цветов почти у каждого дома и обширные, обнесенные железными решетками террасы.
– Ну, так… – спросил я еще раз. – Гриппуете? Но уже лучше, да?
– А, пустяки. Немного болела голова, чуть поднялась температура. Вот и все. Я в общем-то очень здоровый человек.
– Да, да. А скажите, дона Ана…
– Ана, просто Ана. Могу показать удостоверение личности…
– Скажите, Ана, а вам не приходило в голову, что неплохо было бы закончить ваше образование? (Я знал, что она, выйдя замуж, бросила филологический факультет.)
– Видите ли, доктор Алберто…
– Только Алберто. Могу показать мое…
– Видите ли, Алберто, это меня занимало не более трех лет. К тому же я вообще не хочу быть чем-то занятой…
– Это так, – согласился я. – Но образование не развлечение, оно укрепляет сознание. Бесспорно, один курс мало что дает. Но все-таки кое-что дает, и, может быть, определенную ответственность.
Ана замолчала, вынула из обтянутой белой кожей сигаретницы длинную сигарету и закурила. Потом, стряхнув пепел, довольно спокойно, но прямо спросила:
– Что у вас с Софией?
Педагогическая этика вызвала во мне угрызения совести за мою трусость. Но я ответил:
– София знает, чего хочет…
– Знает, чего хочет… Мы все думаем, что знаем. Однако какой-нибудь случай ставит нас перед фактом, что это далеко не так.
– А вы, Ана, не знаете?
Она посмотрела на меня своими умными глазами, как бы желая защититься, – и не от моего, а скорее от своего собственного обвинения. И тут же, несколько смущенная неожиданно объявившимся свидетелем этого обвинения, горячо принялась делать мне выговор:
– Кем вы, собственно, себя считаете? Какую такую невероятную новость собираетесь сообщить нам? Моя жизнь давно устроена, и ничто и никто ее изменить не может.
– Но, Ана! Я ведь ничего такого не сказал, ровным счетом ничего. Это как раз вы утверждаете, что случай может все изменить.
Как же ты сама перед собой выкручиваешься! Видно, и ты не знала себя самое! Видно, и тебе я принес сомнения, которые требуют разрешения. Боже! Так я, выходит, был нужен! Так, оказывается, сомневающийся мир ждал нового мессию! Терпи, Ана! Я собираюсь разрушить созданные тобою мифы, разрушить твой образ жизни с этими удобными софами, как та, на которой ты сидишь. Но я не научил тебя ничему! Никто нас тому, что нас интересует, не учит, Ана. Учимся мы, как правило, тому, что нас не интересует. Поэтому главное, то, что определяет нашу судьбу, – а ведь нас этому главному не учат, – остается за пределами наших знаний. А научить – всего лишь подтвердить – это главное.
– Я разрешила свои проблемы с богом, – заявила Ана. – Разрешила окончательно!
Но я еще не говорил о «боге», однако знал, что мои слова приведут тебя к этому. Я с богом тоже покончил…
– Так ли уж окончательно, Ана? Хочу верить. Но кто может быть застрахован от будущего? Ведь та часть нас, что благоразумна и входит в сделку с законами улиц, – изменчива, потому что, как правило, фальшива. А вот наше внутреннее «я» – простое, чистое присутствие нас для себя самих – это наше существо. Оно неизменно даже тогда, когда само желает измениться. Однажды…
И я начал рассказывать. Я учился в лицее в седьмом классе…
Тут Ана остановила меня и перешла в наступление:
– Не рассказывайте. Все это очень горько…
Ее матовые глаза заблестели.
– Все так просто, – сказал я. – Все сильные и решительные чувства подобны голоду.
Я чувствовал себя оглушенным, уши горели. Окно множилось в вереницу параллельных окон или в эскадрон прямоугольников, уходящих на равнину, боль гвоздем входила в голову. Ана подбросила полено в камин. Черный кот с красным бантиком и колокольчиком прыгнул к ней на софу. Он двигался бесшумно и ловко, словно расставляя тенета. Потом, подняв хвост и мурлыкая, потерся о грудь Аны, прижался к ней, напружинив лапы, точно стараясь сдвинуть ее с места, и тут же свернулся калачиком у нее на коленях. Застыл, чуткий к каждому звуку, косо поглядывая вспыхивающими металлическим блеском глазами. Дрожащая тишина вместе с вечером опускалась и тихо растекалась по городу и голой равнине. В воздухе плыл запах лекарств, и, возможно, мое лихорадочное волнение было не что иное, как полученная мною инфекция. Ана смотрела на меня из недвижной вечности, которая сродни сфинксам, пустыням, погибшим цивилизациям, божественной непостижимости и возникающим неразрешимым вопросам. И я как зачарованный легко представил себя на месте этой цельной личности с пышной грудью, широкими бедрами, неподвижно лежащими руками и по-детски торчащим зубом. И, как бы в ответ на зов этого особого, непохожего на других существа из незнакомого мне и непонятного мира, на меня обрушился поток вопросов, недоумений, страхов, абсурдных восклицаний, изливавшихся бурной рекой в надежде объясниться, бурной рекой, в которой лишь уцелевшие обломки моей одержимости говорили о том, о чем я хотел сказать.
Акт моего самоутверждения прост и однозначен, как, например, бревно. Грубое проявление бытия, неоспоримая реальность. Но я знаю, что ей предшествовали бесчисленные ветры и потопы, много навоза и солнечных лучей. И только теперь, когда они стали мною, я их не ощущаю. Я знаю, что изменился, но не чувствую изменений. Пробую восстановить прошлое, не получается. А те факты, что я отмечаю, сами по себе не важны. Потому что то, что они означают, значительно сильнее, очевиднее и древнее, чем они сами.
– Темнеет, – говорит Ана. – Пожалуй, пора зажечь свет.
– Знаете, ведь мой отец был атеистом, а мать, как принято говорить, – набожной женщиной. Отец объяснял нам зарождение жизни на земле и всегда на все наши вопросы находил простые ответы. Мать, выйдя за него замуж, любила его всю жизнь даже за то, что было ей чуждым. Думаю, что она его считала человеком сильным.
А вот отец матери был явным антиклерикалом. С эспаньолкой и всем прочим. Я же пошел в церковь и причастился. Священник, что ходил в наш дом, рыгал, позже я узнал, что и у него есть дети. Так вот: у меня было небо, ад, бог-отец, бог-сын, бог – дух святой, ангелы, дьяволы – словом, весь необходимый арсенал, чтобы жизнь моя шла хорошо. В лицее ученики старших классов, те, у кого уже росла борода, кричали, когда проходил священник: «Ква, ква», или говорили: «Уже тонзуру потерял». Мой брат Эваристо в этих вопросах был ужасен. Богохульствовал, как испанец. Однажды в мае, выпив на праздник непорочной девы, он пробрался в ряды хора «Дочерей Марии» и стал нарочно фальшивить. Его выставили на улицу. А брат Томас к мессе не ходил. Но и не говорил плохо о священниках. Он отказывался идти на исповедь и уезжал в Лиссабон. Мать плакала, он обнимал ее, а отец улыбался. Скоро и я перестал ходить к мессе. Разве что иногда. Вот так грех становился для меня чем-то заурядным. Вообще-то я не знаю, почему не ходил к мессе: это ведь ничего не меняло. Как и прежде, перед сном я молился. Конечно, это была привычка. Такая же привычка, как чтение на ночь. И однажды я подумал: «Вздор это!» Привычки меняются, потому что они существуют: рождаются и умирают. И покончил с привычкой, – лег без молитвы, но всю ночь не сомкнул глаз. Правда, следующую уже спал хорошо. «Вот и выходит, – подумал я, – что бога нет и никогда не было». И это совершенно очевидно, как нет и никогда не было Деда Мороза. Только теперь это стало еще очевиднее. Эваристо богохульствовал, но смирялся: исповедовался, причащался, и если не шел к мессе, то только выказывая раздражение человека, желающего показать свою самостоятельность. Я же был политичен. Ведь быть передовым и правдивым так же прекрасно, как быть молодым и сильным. Потом прошла молодость, я перестал шуметь. Но смутные, сдавленные голоса того же шума не унимались. Потом вдруг жизнь утратила свой смысл, потому что я был без дела. Вот тогда-то, находясь на нуле, я открыл, что аз есмь, существую, что это я. И теперь я не хочу дать погибнуть этому чрезвычайному открытию, хочу заставить его взаимодействовать со вселенной и со смертью. Voila[12]12
Вот (фр.).
[Закрыть].
Черный кот поднялся с колен Аны. Потянулся, выгнул дугой спину и, широко зевнув, обнажил острые клыки. Потом с глухим шлепком спрыгнул на пол. Ана подбросила в огонь еще одно полено. Снаружи голубели белые фасады домов, складываясь словно карты в неровную колоду.
– Что будете пить? – спросила Ана, подходя к застекленному шкафчику. – Виски (Vat 69 никому не вредны), бренди, портвейн, мадеру, коньяк «Наполеон» и «Карл I», джин, можжевеловую…
– Виски с содовой.
Она принесла бутылки, налила в бокалы. Открыла коробки с миндалем, земляными и кедровыми орешками. И неожиданно с присущим ей спокойствием, которое таило взрывную силу, спросила:
– Почему вам так нравится разыгрывать шута?
«Где мы разговаривали, Ана? В каком заоблачном необитаемом пространстве?» – спрашиваю я себя теперь, сидя у другого очага, здесь, в старом доме, куда открыт доступ прошлому. Жена спит. Я один. Один в первозданной тьме, где меня самого еще нет и где истина нага, как скала, залитая лунным светом.
Я поставил бокал на стол и нахмурился. Кот тут же прыгнул ко мне на колени, внимательно посмотрел на меня своими зелеными глазами, мяукнул. Я стряхнул его. Он зашипел, обнажив клыки, и замахал в воздухе всеми четырьмя лапами, выпустив когти.
– Что же во мне шутовского?
– Все, все комедия. Ваш бог – ваши собственные пороки. Надо бросить пить, бросить курить. Ведь ваш мир – мир опия и алкоголя.
– Что вас так испугало?
Она побледнела, сломала три спички одну за другой, но так и не прикурила.
– Моралист – всегда грешник. Исповедующий мораль ее не проповедует. Вы рассчитываете смутить умы. В подобных «демонах» меня пугает не зло, которое они творят, а их самонадеянность. Никого вы не удивите, никого!
– Ана!
Она говорила негромко, глаза ее были выразительны. И я внимал им до головной боли. Внимал обрушившемуся на меня потоку оскорблений. Потом она схватила кота, принялась его целовать, чесать ему за ухом, гладить его пушистое брюхо. И тут же швырнула на ковер с такой силой, что зазвенел привязанный к бантику колокольчик. Подавшись вперед, она глухо, как авгур, сказала:
– Так вы считаете, что София ваша? Но у нее вы не первый! Первым был студент сельскохозяйственного института. Вторым – его товарищ. Потом она подцепила женатого человека… на пляже. А в Лиссабоне, на карнавале…
– Замолчите!
Испытывая радость, она улыбнулась, закрыла глаза и откинулась на спинку софы. Я поднялся, чтобы уйти. Но тут открылась дверь и появился Алфредо.
– Уже уходите, доктор! Не потому ли, что пришел я?
– Нет. Мне уже пора.
– Посидите еще немного. Есть новость, и вам она тоже не безынтересна. Аника, царица моя. Так знаете?..
Я не сел, но и не ушел. Между тем Алфредо, поцеловав жену, устроился в кресле, протянув к огню ноги в сапогах. И, уже собираясь рассказывать, указал мне на диван.
– Присаживайтесь, доктор.
– Садитесь, – неожиданно сказала Ана, – и пожалуйста, сегодня вы ужинаете с нами.
Я сел, закурил.
– Ну и дела! – сказал Алфредо Серкейра. – Вы только подумайте! Был я у Рамиро из электроприборов (кстати, Аника, фен он не починил. Катушка или динамо должны быть перемотаны вручную, на это нужен не один час, и мастера нет). Так вот, знаете, семья Байлоте собирается возбудить судебное дело против отца Аники.
– Кто это Байлоте? – спросила Ана.
– Тот, кто повесился, ну, у которого уже рука была не та, чтобы сеять.
– Но какое ко всему этому отношение имеет отец? – опять спросила Ана.
– Вот как раз именно это и я сказал. Какое ко всему этому отношение имеет мой тесть? Видите ли… он его расстроил. Байлоте… Вы его не знали? Очень, очень хитрый был этот жулик. Однажды, доктор…
Он говорил, но я его не слушал. Мысли мои путались, меня знобило. Язык жгли оскорбительные слова, подсказанные желанием унизить эту особу, что сидела, закинув ногу на ногу, и с наслаждением пускала дым. Ее не беспокоила угроза, нависшая над ее отцом. Она наслаждалась доходом с вложенных в меня оскорблений. Так выходит, сеньора, я мошенник? Тебе нужно, чтобы я признался в своей слабости? Но, собственно, чем я обязан брошенному тобой вызову? Я не нуждаюсь ни в твоем участии, ни в твоей поддержке, ни в твоей снисходительности. Моя жизнь – это моя жизнь, и я как хочу, так и решаю ее, несмотря на твое высокомерие и глупую усмешку Бог умер. И бог для меня не финиш, а старт. И моя слабость при мне, как при мне мои потроха. Ничтожный или великий, я – это я! Но хороша же ты, говоря так о своей родной сестре! Какое мне дело до ее бывших любовников. («Конечно, мой тесть будет иметь дело с…») Куда ты метишь? В какое больное место? («…но адвокат…») София выше твоей подлости. Она знает цену своим мечтам и платит по счету без колебаний. Кроме того, я не люблю ее. В ней я слышу всего лишь голос действий, объединяющих две жизни, голос поступков, в которых, в свою очередь, реализуется жизнь. («Я тут же сказал Рамиро: и что же – адвокат вынужден…») Нет, нет, самоубийством я кончать не хочу. А хочу найти ту очевидность, которую ищу, и жить в ней, и только в ней. Но крик Софии имитирует ее забвение. Забвение, единение, безумие… твои спокойные глаза, Ана, человек, который повесился, был дивный вечер, Ана, чистый, фиолетово-золотистый свет, застывшие дубы и их вытянувшиеся торжественные тени («…потому что ведь вопрос именно в этом: закон ведь…»), в чем величие жизни? Нет, не в праздности мечты, а в руке (конечно, для тех, кто понимает), которая сеет, которая глубоко копает и предельно много берет зерна, отвечая запросам земли, гласу чуда произрастания, и твой отец («никогда мой тесть…»), и мы все одновременно и виновны и невиновны, я виновен, что не сказал ему: «Уже поздно, старик, ты больше не сеятель, смирись с тем, что скоро тебя самого бросят в землю… уже поздно», – который час?
Я смотрю на часы и на Ану. Какое-то время мы молчим. Только сейчас я замечаю, что и Алфредо, глядя на нас, тоже умолк; безмолвие заложено в нас с рождения. В тревоге я поднимаю глаза на Алфредо, он, ничего не говоря, улыбается своей пустой улыбкой, похожей на улыбку беззубого старика. Потом загадочно хихикает, громко и коротко: хе, хе… Я вздрагиваю, Ана, стараясь быть естественной, возвращает нас к действительности. И спрашивает:
– Алфредо, когда же ты дашь мне свой пиджак? Тебе не стыдно ходить без пуговиц?
Алфредо садится рядом, говорит – «моя царица» и гладит ее по голове, явно демонстрируя мне свое право обладателя. Потом он интересуется моим мнением по поводу дела тестя. Я считаю, что оно бессмысленно.
– Вот то же и я сказал Рамиро. Да, доктор! Вы ж не видели наш дом!
– О, Алфредо.
– Разреши, дорогая Аника, показать наш дом доктору. Очень я люблю свой домик…
Тут он встал, приглашая следовать за ним. Дом я помню плохо. Но спальню, спальню, в которой Алфредо задержался, помню хорошо. Он заставил меня потрогать матрац, испытать упругость его пружин. Сам же плюхнулся на него и с удовольствием покачался.
– Чудесная кровать, верно, доктор? Всего восемь дней, как мы ее приобрели.
Я равнодушно поддакнул: София не спала здесь…
– И знаете, доктор, если захотите иметь такую, идите к Роману у Ворот на Моуру. Этот жулик – артист своего дела! Перед ним шляпу снять хочется. Взгляните-ка сюда!
И он снова с силой плюхнулся на матрац, демонстрируя его великолепие. Мне было неприятно или, уж во всяком случае, неловко. Что он? Идиот, что ли? И что он хочет от меня? Я окинул взглядом комнату: кровать под балдахином и прочие аксессуары источали какой-то маслянистый аромат, насыщавший интимностью все вещи, все казалось не свежим, все напоминало о потных нагих телах.
– Видели, доктор?
Как тут не увидеть! Мы вернулись в холл, где, к нашему явному удивлению…
– Посмотрите-ка, кто пришел! Так ты уже здесь, Шикиньо, душа моя? Тогда пошли, пошли – я тебе кое-что покажу.
«Должно быть, кровать», – подумал я. Наверняка кровать. Шико, улыбаясь, встал и пошел за Алфредо. Ана закрыла ставни. И зала с мягкой мебелью и уютным теплом камина стала особенно располагающей к беседе. Я продолжал стоять, дожидаясь Алфредо, чтобы проститься. Ана молча смотрела на огонь, на часы, потом, расстегнув ворот блузы, вытащила термометр.
– Тридцать шесть и восемь… Прекрасно. Садитесь, Алберто.
– Я уже должен идти.
– А я распорядилась об ужине. Не будьте трусом и не портите удовольствие другим.
Горячая волна злости поднялась во мне. Ведь если и могло меня что-то уязвить, то именно слово «трус». Друзья по Коимбре частенько называли меня стариком, декадентом, трусом, только потому, что меня волновала «метафизическая» проблема – проблема жизни и смерти. И я сражался с ними: кричал, пускал в ход кулаки. Они не понимали, что признать собственную никчемность, встретить лицом к лицу то, что унижает твое достоинство, куда большее мужество, чем то, которое они имели в виду.
– Я не знаю, чего вы от меня ждете, – сказал я. – Но знаю, что я не трус.
– Садитесь, – ответила она, открывая сигаретницу.
Стол был слишком велик для четверых. Но, по всей видимости, он был раздвижным и раздвинут до предела. С двух его концов расположились Ана и ее муж. Я же и Шико по сторонам, но не напротив друг друга, а чуть сдвинувшись, чтобы приборы не образовывали четкого ромба. Шико сидел ближе к Алфредо, я – ближе к Ане. Комната с высокими холодными стенами была огромной, и я, несмотря на включенные электрические камины, все время чувствовал озноб. Мы ели молча, изредка позвякивая приборами. Наполняли ложки, задерживали их, будто взвешивая, в воздухе, потом подносили ко рту. Алфредо ни на минуту не умолкал, рассыпая по столу слова, не достигавшие нашего сознания, как не достигает глубин поверхностное волнение. Он говорил о быках, лошадях, породах кроликов и кур и, наконец, о своих розах и левкоях, посаженных вдоль стен поместья и у водокачки.
Слушая возбужденную болтовню Алфредо, мы с Аной переглядывались. Наши взгляды не были ни откровенными, ни открытыми, но заговорщически долгими. Мои – недоверчивые и вопросительные. Ее – зачинщицы этого сговора – пристальные, когда она смотрела на меня, и улыбчатые, когда она смотрела на Шико.
Алфредо нет-нет да приходил в недоумение и пытался включиться в нашу игру, но тут же возвращался к поместью, быкам, розам, возможно, вполне сознательно противопоставляя свою шумную болтовню нашему немому разговору. Вошедшая служанка забрала пустые тарелки. От падающего на стол яркого света поблескивают приборы, и кажется, от них тянутся тонкие металлические нити. Хрустальные бокалы полнятся вином, звенит чистота их граней, и среди стоящих на столе предметов возникает причудливая фасетчатая действительность. Вдоль стен стоят шкафы, на застекленных полках которых в изобилии, как в ювелирном магазине, выставлено серебро. Неожиданно Ана вынимает из вазы цветы и втыкает каждому в лацкан. И тут вдруг мне приходит в голову, что я такой же сверкающий и такой же бесполезный, как поставленные на стол серебряные конфетницы, стеклянные чашечки которых громоздятся друг над другом. Бесполезный и никчемный перед этой белой скатертью, на которой лежат мои руки, перед столовой посудой, перед вереницей выстроившихся по росту бокалов на длинных ножках. Зачем я здесь? Для чего? Шико возвращается к разговору, явно волнующему Ану и его.
– Комитет спасения не может объяснить твое поведение иначе, как отсутствием принципов.
Я вижу себя глазами Шико, глазами Аны, глазами Алфредо, чувствую себя личностью через призму их личностей, узнаю себя, замкнутого в себе, размышляю о себе с их позиций, ощущаю счетверенной проекцией, замкнутой в себе. Я смотрю то на одного, то на другого, думаю о том, какое странное существо каждый из них, со свойственной ему одному манерой держаться, говорить, с тем живым огоньком, что и есть их личность. Думаю за Ану: «Мой муж глуповат, бедняга Алберто уж очень худ… и эти дурацкие маленькие усики… Почему вы носите эти усики?» – «Я отвечу, Ана, отвечу: чтобы подчеркнуть свою индивидуальность. Удовлетворены?» Думаю за Шико: «Вот Ана, вот этот тип, что напротив меня… Худой и липкий, как его слова, его поведение, его работа…» Что я для них? Какой непрочный, мало что значащий предмет? На серванте стоит бюст, я только сейчас обращаю на него внимание, – всегда чего-нибудь не замечаю. У меня врожденная рассеянность даже к самому себе. Я забывчив, забывчив. Иногда меня соблазняет усталость, мечты о полном безразличии ко всему, к добродетели, добру и злу. Прозрение мое бывает внезапным. Бюст похож на Кристину, я почти уверен, что это работа Аны.
– В комитете спасения были удивлены твоим отсутствием.
Комитет не был объединением, у него не было ни устава, ни ореола тайны, которая так обязательна для любой группировки. Комитета просто не существовало. Об этом я тут же узнал. А существовала группа, встречавшаяся то в одном, то в другом доме по очереди, чтобы выпить чашку чая и поболтать. В подобные объединения я никогда не входил, так как был их противником. Ана оправдывалась:
– Но я же не могла идти, я себя плохо чувствовала.
– Плохо чувствовала, но не тогда, а позже.
– А чем занимается комитет? – спросил я.
Ответил мне Алфредо:
– Спасением человека сегодняшнего дня и подготовкой человека завтрашнего дня. Не так ли, Шико?
Молчание. Я слышу, как под столом позвякивает колокольчик, – черный кот. Так, значит – подготовкой человека завтрашнего дня?
– Необходимо готовить сам завтрашний день, – воскликнул я.
– Послушайте, друг мой, – сказал Шико, играя бокалом и пристально глядя на меня своими маленькими глазками, глубоко сидящими на тупом и бледном лице; шея его напоминала балку. – Именно поэтому-то нас и злит, когда кто-то является к нам от богов со святой водой.
– Кто же этот «кто-то», кто явился со святой водой? – спросил я.
– Ана, дорогая, а микстура? Ты выпила микстуру перед едой?
Ана утвердительно кивает головой. Служанка с блюдом снова обходит стол. Я беру еще крыло индейки и ем один, так как никто ничего не взял. Ем и, пытаясь спасти положение, тщательно обгладываю каждую косточку. Наконец я кончил. Передо мной апельсин с кремом шантильи. Шико то и дело пристально взглядывает на меня, явно целясь в мое спокойствие, которое выводит его из себя. И вот он стреляет:
– Одно-единственное слово может быть более преступно, чем удар кинжалом. Да что там, будем откровенны, к чему вы стремитесь?
– Ана, можно кофе? – спросил я.
– Конечно. Сейчас будем пить. Только там.
И мы вернулись в залу с камином. На решетке тлела обуглившаяся сосновая шишка. Ана подбросила хворосту. Я почувствовал, что окружен враждебностью со всех сторон, даже со стороны Алфредо, возможно предполагавшего, что я флиртую с его женой. К чему вы стремитесь? Сказать так вот, походя, этому устоявшемуся, добротному, черствому миру, к чему я стремлюсь, – просто глупо. Ведь для того, чтобы объясниться, – ответить на этот вопрос, по крайней мере, – мне нужно быть готовым к этому, нет, не словесно, а иметь определенное душевное состояние, интимную обнаженность, смирение. Да и разве я уже не сказал это Ане? Согласовать жизнь (бытие, абсолютное присутствие, объективное утверждение) со смертью (полным небытием, отсутствием, объективным отрицанием).
– Я материалист, – сказал я.
– Вы? Материалист? – засмеялся Шико. – Это очень мило.
– Но мой материализм – не материализм каменщика.
– Сколько ложек? – спросила меня Ана, взяв сахарницу.
Мечта, тревога, тайна, наше присутствие для нас самих, сомнения, тайный мир интимности – все это из реальной жизни, из материи, как камни и чертополох. Да, божественное начало во всем этом было. Но боги умерли. Отошли в абсолютное небытие. Их нет. Какой же смысл отрицать материальность нашего мира? Он принадлежит человеку, он от его плоти. И перед человечеством встала задача осмыслить весь выдуманный мир, если он был действительно выдуман. Но, может, он считался выдуманным только из-за того, что был искажен, а на самом деле он был мифом, мифом тех времен, когда боги еще не родились?
– И именно потому, что я материалист, меня этот мир и интересует. Имей он богов, возвращающих вам блага жизни, вы бы не задавали мне дважды один и тот же вопрос. И задаете только потому, что смерть – это стена, в которой нет дверей.
В зеленоватой полутьме абажура сидит Алфредо и утвердительно кивает головой. Потом говорит:
– Да, сеньор. Хорошо схвачено.
Я питаю к нему отвращение. Для этого-то слабоумного я «хорошо схватил»? Шико пьет яблочную настойку. У Аны опять на руках черный кот. Вдруг она адресует мне похвальное слово:
– Это, собственно, подлинный гуманизм: поместить человека в божественное жилище.
Что и говорить, изящная фраза, но не я ли ее сказал? А, во всяком случае, Ана берет мою сторону и выступает против Шико. Звонит телефон. Ана снимает трубку:
– Да, Кристина. Скажи отцу, что лучше. Нет, температуры нет. Да… Этого я не знаю… Здесь, ужинал с нами.
Она положила трубку.
– София спрашивала о вас.
Я покраснел. Покраснел или нет? Но почувствовал себя плохо. Затянулся сигаретой – нет, сигарой (Алфредо предложил нам сигары).
Теперь больше не надо ничего говорить. Ана ставит пластинку на проигрыватель, который стоит около нее и который она крутит весь день напролет, чтобы убить время. Пластинки заиграны. А может, плохой проигрыватель? Из-под иглы льются гнусавые звуки. Мы листаем журналы, царит установившееся согласие или временное перемирие. Я люблю смотреть на огонь, голубоватое пламя то льнет к поленьям, то, ярко вспыхнув, соскальзывает с них. Это пламя – точно краткое присутствие. Оно совсем не такое, как здесь, в этом старом доме, где я пишу, здесь им полнится пространство, здесь оно несет какое-то предзнаменование, в котором я теряюсь и которое меня пугает. Мы не должны засиживаться, так как Ане нужно рано лечь спать. Мне кажется, что и Алфредо клюет носом. У него маленькие и мутные от вина глаза (он много пьет), детское, хорошего цвета лицо и вечный испуг во всей его наивной фигуре. Он почти все время улыбается. Слушает наши разговоры, уйдя в себя и поглядывая то на одного, то на другого из нас, иногда серьезно кивает головой, как бы разделяя то, о чем идет речь. Но стоит разговору прерваться, как он тут же начинает говорить совсем о другом. Похоже, и ему есть что сказать. И по тому, как он все выкладывает, остается предположить, что он считает это важным. Я чувствую, как постепенно перестаю интересовать этих людей, в частности Ану. Разве что время от времени. А вообще-то я для них неинтересен, хотя и, как многие другие, приятен. Так к чему можно прийти, исходя из всего этого? Даже не знаю. Тут вдруг ко мне обращается Шико:
– А вы были верующим?
Конечно, был. А вот когда перестал быть? Да лет семь назад. Шико со свойственной ему жестокостью хихикнул. Он был мускулист, бледен, коротко, под бокс, подстрижен. Так откуда все мои беды? Конечно же, от воспитания. Он-то нет, он рос атеистом, истинным атеистом, а не каким-то там «анти». Потому что быть «анти» – значило рисковать стать «про». Он всегда был только атеистом. В будущем человечество должно быть подлинно атеистическим.
– Алфредо, – сказала Ана, – и не стыдно тебе спать?
– Аника, я ведь поднялся в шесть. Да я и не сплю вовсе. Я слушаю, стараюсь понять. И Шико, и вы, сеньор доктор, да, да, вы тоже, так умно говорите. Я многому учусь.
Мы встали. Ана крепко сжала мою руку в своей, пристально посмотрела мне в глаза и непонятно почему заговорщически улыбнулась.
– Заходите к нам, – сказала она. – Заходите как можно чаще. У нас с вами есть о чем поговорить.
Шико тут же, как только мы переступили порог, распрощался со мной. Очень может быть, что он шел не домой, а может, решил избежать моего общества. Прощаясь, он крепко (так, что хрустнули суставы), но совсем не дружески (как мне показалось при первом знакомстве), а скорее надеясь вдохнуть в меня жизнь своей энергией, сжал мне руку. И, уже простившись, бросил:
– Не думайте, что на этом все и кончилось. Вы ответственны за все, что в будущем случится.
Что – «все»? Я пожал плечами и зашагал прочь. Было не поздно, но город показался мне обезлюдевшим. Даже необитаемым. Высокие голые фасады домов стремительно, точно на огромной скорости, бежали вниз, образуя улицу, похожую на узкий канал, зажатый тисками запруд. Какая-то рука шпателем лепила эскадрон скачущих вниз фасадов; по улицам до угадываемой вдали необитаемой равнины – замкнутого кольца вокруг призрачного города – неслось глухое эхо. Из чистого удовольствия побыть наедине с самим собой, ни о чем не думать, раствориться в тишине, я долго бродил по выложенным белым камнем уличкам. В сухой геометрии гладких поверхностей, с косыми полосами света и тени, возникающими от угловых уличных фонарей, рядами высоких закрытых окон, пустынными туннелями аркад, шпилями колоколен, дымоходными трубами на высоте звезд и черными углами улиц вставал в моем воображении фантастический город – застывший призрак утраченной цивилизации. По проезжей дороге я вышел за его пределы, поднялся к Сан-Бенто и какое-то время стоял там, пронизываемый холодом, рассматривая залитый огнями город на фоне темно-синего неба, напоминающий искрящийся водопад или россыпь бриллиантов. Гирлянды огней шли от его центра и исчезали на окраинах, затерянных в полной темноте, где нет-нет да вспыхивали одинокие огоньки, словно пустившиеся в неведомое им путешествие. Здесь я чувствовал себя великолепно. Почти рядом с тем местом, где я стоял, находился дом. Огня в окнах не было. Я подумал, что в нем неплохо бы пожить. Возможно, я еще напишу поэму, но главное – не утратить себя, не оторваться от явления моего «я» мне самому. Когда я вернулся в город, было поздно. Я было хотел пойти по грунтовой дороге, которая через усадьбы выводит на окружную, но не решился из-за темноты и вернулся по шоссе, ведущему к улице Лагоа. Необитаемый город теперь действительно был необитаем. Но в моем воображении таким он был всегда. Мне захотелось огласить криком пустынные улицы. Вереница аркад открывала безмолвный туннель, дома спешили вниз. А откуда-то неслось эхо далеких голосов. Голоса летят ввысь, вместе с фасадами, наталкиваются на безмолвие галерей, множатся, как в лабиринте. Неужели это я что-то сказал? На углах гаснут фонари, пространство звучит, как на заре мироздания. Я не спеша иду под аркадами. В глубине туннеля вырисовывается какая-то танцующая фигурка. Я узнаю ее наконец.








