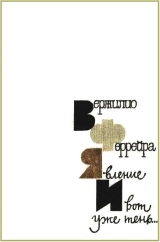
Текст книги "Явление. И вот уже тень…"
Автор книги: Вержилио Феррейра
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 23 страниц)
– Все мертвые заставляют себя упрашивать, – объясняет он. – И если это сделать, они уступают.
Боже правый! Где моя брезгливость к мертвому телу? Ушла куда-то, исчезла. Мертвое тело, мертвая плоть – как камни. Я прилежно исполняю все, что положено, даже с любовью. Брюки, сорочка, лаковые башмаки; башмаки надевает Антонио. Вот ты и готов, старик, готов в последний свой путь. Ты серьезен, на лице мягкая, всепрощающая улыбка, адресованная жизни и смерти. От волнения мои глаза увлажняются. Я иду к себе в комнату и распахиваю окно в ночь.
И тут все мое существо восстает против страшной нелепости, упрямого абсурда, глупости, невероятности смерти. Как это возможно? Старик, где же ты сам, твоя личность? Где – нет, не глаза, а твой взгляд? Нет, не рот, а душа, ум, рассудок? Где – нет, не ноги, не руки, а то, что было тобой, жило, двигалось? О, боже, я вижу, вижу то, что жило в этой, теперь уже недвижной оболочке, было тобой, – да, знаю, знаю, что это – ничто, всего лишь нервы, мышцы, кости, плоть, которая уже начала разлагаться. Но меня приводит в ужас, мутит мой разум то, что ты же был жив. И для меня ты до сих пор одно-единое, неделимое целое – твой облик, твоя улыбка, твой спокойный медлительный голос, мысли, что живут теперь в нас, твоя непостижимая личность. Я помню тебя всего целиком. Вижу тебя. Так что в тебе жило? Что это такое? Что же такое ты? Что? Что? Нет, это не плоть, нет, не тело, а то, что в нем живет, то, что еще осталось от тебя в этом доме, в его атмосфере, – это-то и был ты, твоя, только тебе одному свойственная манера бытия, та, о которой мы говорили, соприкасаясь с твоей видимой частью. Но и твоя видимая часть – я знаю, знаю – не просто жилище, в котором ты обитал, ведь дом, семейный очаг, home[6]6
Дом, домашний очаг (англ.).
[Закрыть] создают стены, а рушатся стены – и все, что в них жило, умирает…
Когда это стало мне известно, когда? Истина появляется и исчезает. Бог, бессмертие, идеология, соблазн произведений искусства и соблазн женский – где начинаются? Где кончаются? Я вполне уравновешенное существо. Я жил, действовал, касался руками стольких осязаемых иллюзий. Потом иллюзии развеялись. Но на всем, чего я касался, оставался след – свидетель, последняя связь с тем, что я любил, во что верил. И я сделал открытие – мои руки не чисты. Отмыть их, возродиться. Бога нет, это так. Бессмертия нет, это так. Но совсем не потому, что ты, старик, рассказал мне историю возникновения земли, человека и животных, которые давно вымерли, рассказал, что человек появился на днях: всего лишь какой-нибудь миллион лет тому назад, если не позже. Не потому, нет. А потому, что бог утратил надо мной свою власть. И я не уверен, что он существует. Но уверен, что он абсурден, и это именно так. Уверен, что мертв, потому что он мне не созвучен. Он вне меня. Как вне меня наскучившая мне симпатия женщин. Как вне меня утратившие остроумие анекдоты детства. Как вне меня все, что не есть я. Не спорю я, черт возьми, не спорю. Откуда мне знать, почему тот анекдот, над которым я смеялся раньше, сегодня утратил для меня свое остроумие!.. Знаю, что утратил, и все.
И еще, как тяжелая пята, давит на меня человеческая личность. Многое в ней должно быть упорядочено, сгармонировано, многое должно умереть. Но пока еще живо. Пока я ощущаю очевидность того, что это я обитаю в своей оболочке, живу; что я живое существо – явное присутствие, необходимость, которая существует, потому что есть я, чтобы существовать, потому что я здесь, черт возьми! Здесь «я» – этот все время действующий вулкан, сама действительность, само бытие. «Я» – это мрачное, пламенное, чарующее и страшное присутствие, от которого все исходит, все, что я говорю, делаю, вижу, и в котором все исчезает, все предается забвению. Я! И вот это «я» должно умереть. Оно умирает, как семейный очаг разрушенного дома. Мне это доподлинно известно. Но как это возможно? Теперь ведь я – тот самый home, та самая душа дома, его подлинная сущность.
IV
И вот я перед задачей – оправдать жизнь перед лицом непостижимости смерти. И никакой другой нет, нет по сегодняшний день. Так о чем же я мог говорить на лекции в филармонии? Конечно же, о том, что главное, – испить вино познания до последней капли и родиться заново. Но сколько всего в жизни: богатство, нищета, наука, слава, заботы, наконец, политика, а для многих художников и искусство, познание человеческой плоти и духа, – сколько всего, чтобы забыть или просто не иметь понятия об этой маленькой, но главной задаче. А самое невероятное и удивительное, что и мне-то потребовалась целая жизнь, чтобы это понять. А как часто я забываю об этом? Ведь в нас особенно силен голос земли, ископаемых, камней, забвения. Он прорастает в человеке и все превращает в камень. И вот когда я стараюсь обнаружить первопричину своего присутствия в мире, то нахожу, нет, не смятение – это беспокойное чудо моей души перед собственной реальностью, – а грубое безразличие к чему бы то ни было. Далеко за полночь я сижу здесь, за столом, и, опустошенный зимою, пишу. Пытаюсь постичь свою изначальную истину, не зараженную еще безразличием. Но где та озабоченность человека, брошенного в жизнь по ничтожной случайности вселенной? Если бы мой отец не познакомился с моей матерью, если бы тот и другая не встретились, если бы сто, тысяча, тысячи и тысячи лет тому назад некий человек не узнал бы некую женщину, если бы… В этой цепи миллиардов и миллиардов случайностей появляется на земле человек – затерянное звено в бесконечности звеньев, в бесконечности пересечений, и этот человек – я…
И, несмотря на это, теперь, когда я сделал открытие, что живу, мыслю, чувствую, проецируюсь на эту ветреную и звездную ночь, теперь, когда я смотрю на себя из бесконечности, признаю себя ни в чем не ограниченным, а, наоборот, существующим независимо, как если бы мир и был я, – теперь я не понимаю той случайности. Ну как представить себе, что «меня могло не быть»? Когда я говорю «я» – я существую… Как постичь, что меня могло бы не существовать, меня – этого света мироздания, этой не требующей доказательств очевидности? Как можно думать, что я ничто?.. Моя жизнь вечна, потому что она всего лишь наличие ее же самой, она – ее очевидная необходимость, она в том, что я – это «я», существо, воспринимающее самое себя и мир, видящее себя в себе, существо, излучающее свет с момента своего явления в мир, реальность, которая меня и радует и приводит в ужас… И все-таки я знаю, что «оно», это существо, родилось, чтобы потом уйти в небытие…
Как и ты, старик. Вот ты в гробу, еще не накрытом крышкой, чтобы мы все могли проститься с тобой. Где же твоя личность, где то, что было тобой? По шоссе едут машины. Едут с виноградников, с собранным урожаем, везут аромат земли и жизни. Но ты теперь всего лишь неосязаемый образ. Что осталось от тебя? Слышу, как твои теперь плотно сомкнутые губы произносят только тебе свойственные слова, вижу, как только для тебя одного характерным движением поднимаются твои руки. Нет! Того, кто жил в тебе, уже нет. Разве в памяти тех, кто тебя знал, ты еще поживешь. Немного. Потом и они должны будут умереть. И ты станешь ничем, словно никогда не существовал. Сколько же тысяч людей, совершивших преступления, испытывавших угрызения совести, переживавших обиды, радости, надежды, обманы, наказания и прочая, прочая и живших с незапамятных времен в этой деревне и хорошо знавших свои фермы, гору, берег реки, бывших частью всего этого и говоривших: «Это – мой дом, это – моя земля», – и чувствовавших дыхание этих ветров, этих ночей, теперь – полное, абсолютное ничто, отсутствие, небытие? Вот и твое долгое путешествие в головокружительную череду веков, в исчезновение, в безмолвие тысячелетий началось. Да, для меня ты еще жив, потому что я тебя знаю.
Живешь, как те, что запечатлены на фотографиях альбома тети Дулсе…
Милая тетя Дулсе! Я помню тебя. Ты была сестрой моего дедушки. Отец получил тебя в наследство вместе со старым домом, старой служанкой и всем прочим старьем. Бесплотная, как подозрение, оборонительно серьезная из опасения не быть уважаемой, напускавшая на себя важность, когда совершала что-то, что могло раскрыть нам твою слабость, ну, к примеру, – страсть к еде. Ведь в деревне страсть к еде – нечто низменное, говорящее о бедности или животном инстинкте. Поэтому тетя Дулсе старалась есть изысканно, даже выказывать неудовольствие из-за необходимости совершать этот ритуал, тщательно работая ножом и вилкой и тщательно пережевывая, но, как правило, ела плотно.
Вот так, обнажая твою психологию, я обижаю тебя, милая старушка, хотя именно я питаю отвращение к насмешкам над человеческими слабостями, к желанию обидеть, поставить в неловкое положение, разложить человека по косточкам, словно он простая неодушевленная безделушка. Но ты не была таковой, – нет, я-то это знаю. Хотя сама ты, возможно, и не знала этого. В тебе чувствовалось очарование времени, примета того, что живет в нас независимо. Вот почему я не очень-то вспоминаю твой неуемный аппетит с последующим несварением желудка, магнезией, клистирами, твой острый язычок, твою месть возрасту, когда ты злословила со своей подругой Иносенсией, ханжой, каких мало, твои козни против служанок, ссоры со слугой Антонио, жадность, с которой ты защищала свои грошовые сбережения, ненасытность к нашим поцелуям, которые были доказательством, что «ты нам не противна», – все это не помню, забываю, а помню только добрую женщину да твой старый семейный альбом, который ты неоднократно мне показывала, – ты явно хотела, чтобы я понял, как быстро летит время. А потом передала мне его в наследство, «чтобы я хранил его». И он передо мной, как призрак времени и людей, которых я уже плохо знаю и которые смотрят на меня из прошлого, хотят что-то сказать, но не могут и нагоняют на меня тоску своими глазами, такими же, как у моего друга Мондего, которого в конце концов тайком прикончил Антонио.
V
По средам и субботам я давал уроки Софии. Чтобы вкратце повторить уже знакомый ей материал, мы начали с азов. Читая нараспев парадигмы глаголов, София так ловко проглатывала гласные, что я только смутно догадывался о наличии ошибок. Держалась она, будто в ней жило что-то очень значительное, гораздо значительнее ее самой и, уж во всяком случае, такой безделицы, как правила грамматики. И еще она впивалась в меня глазами и не отводила их, делая вид, что припоминает, о чем же может идти речь. Я, как правило, садился на диван, София – на диван напротив и, закинув ногу на ногу, записывала урок в школьных тетрадях, которые лишний раз напоминали, что школа ушла безвозвратно. Мадам иди кто-нибудь из домашних появлялись редко. Дверь мне отпирала и провожала в кабинет каждый раз вспыхивающая, как маков цвет, служанка. Какое-то время я пребывал в кабинете, подавленный мебелью и тишиной. Потом приходила София и всегда запирала за собой дверь, словно презирала того, кто мог бы потребовать, чтобы она оставалась открытой. Так у нас с Софией появилась общая тайна, и мы ее оба признавали. Один-единственный раз она пришла на урок в домашних туфлях и накинутой на плечи голубой кофте, спустившись таким образом до обыденности, в которой есть место слабостям. Но София считала себя существом исключительным и потому всегда была подтянута, со вкусом и продуманно одета, что сказывалось во всем ее облике: в походке, в агрессивно брошенных вперед грудях, в сверкающих, прямо смотрящих глазах. И я инстинктивно чувствовал, что все яркое, пылкое, живое, чем богата земля, есть в Софии, в ее крепком теле. И что такое я перед ней, перед этим олицетворением радости жизни, – жалкий труп? Сознание собственной ущербности парализовало мою речь, стирало произносимые мною слова. Однажды после того, как я объяснил ей – не помню сейчас какое – правило синтаксиса, и после того, как она попыталась сделать на это правило соответствующее упражнение, она устало захлопнула тетрадь и, снисходительно улыбнувшись, спросила:
– Почему мы в жизни всегда что-нибудь да должны? Должны подчинять себя чему-то… учению, мужу, детям?..
Я ответил наставнически, как и подобало преподавателю:
– Если мы все будем делать только то, что нам хочется…
– Да. Но почему в настоящей жизни глагол studeo[7]7
Учу (лат.).
[Закрыть] требует винительного падежа?
– А чем бы вы хотели заниматься, София?
– Если бы я знала… если бы я это знала.
И она сделалась серьезной, глядя в сторону на какой-то невидимый мне предмет, – мы оба забыли и книги и тетради. Но случалось и так: София входила в кабинет сосредоточенная, явно сознающая свои обязанности ученицы, уверенно знающая все, абсолютно все, даже незначительные мелочи, что меня сражало. Упражнения были выполнены безупречно, без единой ошибки, все предыдущие уроки выучены. Тогда я предлагал ей переводы с листа. И София, после некоторого колебания и подсказанных мною значений двух-трех слов, переводила просто-таки хорошо. Однако на следующем же уроке путала все ужасающим образом. Естественно, меня это в конце концов вывело из себя:
– София, оставьте ваши шутки! Вы же все это знаете. Вам просто не хочется шевелить языком. Вы смеетесь над уроками.
– Смеюсь над уроками? Какой абсурд! Сделайте одолжение, доктор, пожалуйста… Ведь нет же правил без исключения. Только так это можно понять. Иногда совершенно необходимо, чтобы я ничего не знала! И тогда я не знаю, не знаю, не знаю. Не просите у меня объяснений. Я не знаю!
И она вышла из кабинета, возможно, чтобы не расплакаться при мне. Тут же вошла мадам, точно стояла и подслушивала под дверью. Ни о чем не спрашивая, она попросила извинить Софию.
– Извинить? Да что вы, сеньора! София сегодня просто не в духе.
– О, она очень часто не в духе. Сколько же нужно иметь терпения!
Устыдившись, я собрал свои бумаги, положил их в папку – папку, которую так буду ненавидеть, – и вышел.
Спустя какое-то время София неожиданно пришла ко мне в пансион. О ее приходе, не очень вежливо, сообщил мне сеньор Машадо, явно встревоженный женским духом и возможной интрижкой.
– Здесь одна сеньора вас разыскивает. Дочь доктора Моуры, моего большого друга и очень хорошего человека. Но, сеньор доктор… вы ведь знаете, что в моем доме…
– Ни слова больше, сеньор Машадо. Так что, в этот ваш дом не может прийти женщина? Это что, монастырь?
– Нет, сеньор доктор, вы же хорошо знаете, что не монастырь.
– Тогда… что же, присутствие женщины делает этот ваш дом – домом терпимости? Так, что ли?
– Господи Иисусе, что он говорит, что он говорит! – И он бросился прочь, обхватив руками голову.
Нет. Отсюда нужно уходить. Но куда?
Красивая, эффектная София ждала меня в столовой.
– Что вы сделали с сеньором Машадо? – тихонько спросила она меня. – У него такой вид, будто он увидел дьявола во плоти!
Я пересказал Софии наш разговор с Машадо. Она хитро хихикнула себе под нос, а я получил первое подтверждение своим догадкам…
– Он назвался другом вашего отца.
– О, отца… Ну, отец повеселится. Машадо ведь принимал участие в той конференции, вроде бы посвященной святому Венсану де Полю. Как видите, у пансиона есть свои тайны. А, не будем злословить в этих стенах.
– А где будем?
– Где? Внизу, и не со мной, а с моим отцом, который вас ждет.
– София…
– Ничего не спрашивайте. Не надо снова об этом. Я должна просить извинения? Хорошо. Извините.
Мы спустились вниз. Моура действительно ждал меня на площади, чтобы пригласить на небольшую прогулку. Он ехал навестить больного, и я, поехав с ним, мог познакомиться с Алентежо. Нет, София оставалась в Эворе. Я сел рядом с Моурой в его маленький «фиат». Хорошо помню, что в то утро вся площадь утопала в хризантемах. Но только сейчас я воочию это увидел. Хризантемы были повсюду: вдоль аркад, вокруг фонтана и просто в вазах. Они были всех цветов: белые, фиолетовые, желтые, с уже поникшими головками под печальным осенним солнцем.
Мы ехали по дороге в Редондо, пересекающей две железнодорожные линии. Позади остался позолоченный солнцем и увенчанный кафедральным собором город. Чтобы я смог запечатлеть в памяти это видение, Моура остановил машину на вершине холма. И сегодня, среди зимы и ночной тишины, в которой я пишу эти строки, мне вспоминается это видение: белые домишки, жмущиеся друг к другу в страхе перед наводящей тоску пустыней, и себя, стоящего на холме лицом к затерянному на равнине городу и слушающего звучащий во мне самом хор пилигримов, столь обычный на древних сельских праздниках.
– Пора двигаться, – напомнил мне Моура.
Он торопился поговорить о Софии. И столько хотел сказать! Потому что ты, София, всегда была «трудным ребенком». Я «должен иметь терпение», «не принимать тебя всерьез». Тут Моура рассказал, как однажды мать наказала Софию. Ей было тогда семь лет, и наказание-то – несколько слов, сказанных серьезным тоном, и заслужила она их своей глупой выходкой. Весь день София играла во дворе, вся перепачкалась и разорвала платье. Вечером принимали гостей. Мать еще днем одела ее во все чистое, а к гостям София вышла в грязном разорванном платье. Мадам почувствовала себя уязвленной и, поставив дочь в угол, отчитала ее. София выслушала молча. Не смеялась и не плакала. Разве что чересчур была серьезна, будто отбывала повинность. Но к ночи исчезла. Они обошли весь дом, искали везде – у родственников, у друзей. Нигде ее не было. Обратились в полицию, обзвонили железнодорожные и автобусные станции. Все напрасно. Только к вечеру следующего дня она объявилась, совершенно безразличная к переполоху и волнению в доме. Как оказалось, она все это время провела во дворе, в дымоходной трубе разрушенной печи. Другой раз, уже без всякой причины, перетянула руку веревкой и палкой так, что прекратилось кровообращение. Когда отец обнаружил это, рука посинела. София же очень веселилась, узнав, что рисковала потерять руку. А в двенадцать лет, сбежав из дома, пешком отправилась в Лиссабон. Нагнали ее только в Монтеморе. С сестрой она играла редко. Чаще, запершись в своей комнате, сидела в одиночестве с куклами. Но это внешнее спокойствие, эта замкнутость говорили о внутреннем напряжении, которое выдавали быстрые, словно молния перед грозой, взгляды. Она как бы все время прислушивалась к невидимой угрозе ее личному миру – миру только ей одной известных радостей и печалей. Случалось и так, рассказывал Моура, что, присутствуя при разговоре (как-то он, Моура, рассказывал о смерти одного больного), София сидела с отсутствующим видом и чему-то улыбалась. В другой раз (в день рождения своей сестры), чем-то огорченная, она убежала. Им порекомендовали поместить ее в коллеж. Поместили. Но тут же вынуждены были забрать, так как она дважды пыталась покончить с собой. София! Какой ты была странной, такой и осталась до конца! И теперь, когда так неожиданно тебя не стало, и не по твоей воле, теперь я переосмысливаю всю твою жизнь, реальную, очевидную, и проще простого постигаю не требующую доказательств старую истину твоего максималистского мира. По обе стороны от шоссе в бесприютности осени лежат поля. На нашем пути нет-нет да встречаются одетые в овчины путники, спешащие навстречу своей нищей судьбе. То там, то здесь на обнаженных полях мелькают одинокие фигуры. Я смотрю и слушаю. Под глухой шум мотора не умолкая говорит твой отец, София. Но сегодня – озабоченно, вроде бы забыв свойственную ему манеру жить, не создавая проблем.
– Если бы она вышла замуж, если бы…
Что такое физиология, он знает. Ну и что? Как-то зимним вечером Ана, конечно же случайно, оторвала руку у твоей куклы, София. И ты, не обронив ни единой слезы, тут же отправилась к себе в комнату, переломала все до одной свои игрушки и не разрешала унести обломки: частичному возмещению потери ты предпочла полное уничтожение.
Все мое существо содрогнулось от того, что я обнаружил, как проста и понятна была мечта Софии – реализовать жизнь в одном поступке, в одном движении души, какими бы жалкими они ни были. Что София была порывиста и беспокойна и о чем это говорило, мне было ясно и понятно. Но как понять объяснения ее отца? И я сказал:
– Тут, может, не только в замужестве дело.
Моура посмотрел на меня и улыбнулся моей наивности.
– Я ведь врач, друг мой. А иногда хотел бы им не быть.
– Но что знает физиология о мечте человека?
– Возможно, не так много, – ответил Моура. – Но мечты всегда разумнее, когда тело спокойно. В этом сомневаться не приходится. Конечно, София тогда была ребенком. Но перестала ли она им быть? И когда? Сложный, неясный вопрос. Вот здесь хорошая дорога кончается, теперь поедем по проселочной.
Проселочная была размыта дождями и вся в колдобинах от лошадиных и ослиных копыт. По правую и левую руку простирались невозделанные, угрюмые земли. Кое-где, точно призраки, возникали одиноко стоящие дубы. «Подчинить свою жизнь одной мечте, сосредоточить в одном поступке. Но прежде осознать себя и свою правоту. И осознать реальность, того, что этот поступок отрицает».
Вдруг около одной из усадеб какой-то человек в овчине поднял руку. На небольшом участке стояли три или четыре дома. Узнав крестьянина, Моура остановил машину.
– Это опять вы? Ну, что нового?
– Я, сеньор доктор, знал, что вы приедете к доне Алзире, вот и решил подкараулить вас на дороге.
– Ну, так что случилось?
Тот кинул взгляд в мою сторону, оценивая, могу ли я быть посвящен в его секреты.
– Если нужно, я выйду, – сказал я.
– Нет, думаю, нет, – ответил Моура. – Ведь сеньор доктор может присутствовать при нашем разговоре, не так ли?
– Он тоже доктор? – с надеждой спросил тот.
– Доктор, но не врач. Так в чем дело, говорите.
И крестьянин рассказал свою невероятную историю. Моуре она уже была известна. Ведь именно о ней говорил этот человек, придя к нему в город на консультацию. Моура напомнил ему об этом, но он желал рассказать все заново, решив, что в прошлый раз упустил что-то важное. И теперь говорил:
– Когда я шел с поля после сева, хозяин Арналдо сказал мне: «Эй, Байлоте, у тебя уже не та рука, чтобы сеять». У меня, сеньор доктор, всегда рука была как ковш из дуба, и сильная. Я совал ее в мешок и вытаскивал полную семян. Бросал их в землю и мигом засевал целую полосу.
Говори, человек, говори о своей утраченной мечте. У тебя, как видно, была рука библейского сеятеля. Ты бросал семена в землю, и у твоих ног поднимались всходы. Ты был творцом, тебе повиновалась вселенная. Он говорил, а я всматривался в его потемневшее лицо, в его полные скорби глаза, в которых угас божественный огонь. Я представлял его покорителем этой равнины, повиновавшейся его могучей деснице. Представлял, как перед ним, словно перед божеством, раскрывалась земля, как узнавала она его, – такого же друга, как дождь и солнце, ощущая каждый раз его несметную силищу.
– А теперь хозяин говорит, что у меня уже не та рука. – И он протянул к нам свою жалкую, морщинистую, почерневшую от возраста и солнцепека руку.
Моура кинул на меня взгляд и участливо улыбнулся.
– Послушайте. Делайте гимнастику для пальцев. Вот так, вот так. – И он показал как.
Уставившись на руку Моуры, тот взмолился:
– Делал, сеньор доктор, делал. Но хозяин Арналдо говорит, что все равно у меня не та рука. Посмотрите-ка, сеньор доктор, разве ж это не мужская рука? – И он стал вглядываться в руку с растрескавшейся на пальцах кожей.
– Так что вы хотите, чтобы я сделал?
– Дайте мне лекарство, сеньор доктор. Лекарство, которое сделает мою руку такой, какой она была раньше…
И он нарисовал в воздухе мощную руку Иеговы. Солнечные нити свисали с придорожного дуба. Поля отдыхали в щедрый, мягкий осенний день. А в необъятном голубом, без единой тучки небе таяли последние приметы лета. Моура включил мотор.
– Ну всего вам доброго, – сказал он сеятелю.
И машина сорвалась с места, подняв клубы пыли.
Визит к больному был короток. Машина остановилась около затерянного среди бескрайних полей помещичьего дома. Вокруг машины появлялись какие-то одинокие тени – мужские, женские, в полном молчании смотревшие на меня, оставшегося в машине. Возвращались мы той же дорогой. А когда подъехали к усадьбе, где трудился сеятель, кричащие люди с поднятыми к небу руками преградили нам путь. Моура вышел из машины и последовал за ними. Я остался один. Но он тут же вернулся, вернулся бледный, с перекошенным лицом.
– Что случилось?
Моура ответил не сразу. Он вел машину с трудом и, только когда усадьба осталась далеко позади, сказал:
– Сеятель повесился.
VI
Я был оглушен случившимся, не способен соображать. Испытывал волнение, ужас и бешенство в одно и то же время. Это было то самое невыразимое и всеохватывающее состояние, когда абсурдная очевидность подавляет нас своей абсолютной достоверностью и невозможностью что-либо изменить. Мне это известно, и я не пытаюсь противиться. Что-то яркое заполняет мой мозг, точно солнечная масса разрывает череп. Мыслить, рассуждать? Невозможно, невозможно. Я только смотрю, смотрю перед собой, неподвижный, ослепленный. Тайная отрава поражает меня всего целиком, жжет изнутри, делает бесчувственным. Моура, сидя рядом, молчит. При вечернем освещении он кажется постаревшим: спал с лица, шея пошла дряблыми складками. Окрест лежащие поля теряются из виду, озаряемые последними вспышками уходящего дня. Что мы делаем в жизни? Какое неимоверное упорство обращает это безмерное чудо – быть живым – в иллюзию? Выходит, незнакомый мне старик – чудо природы, ничто в сравнении с рукой, которая перестает быть рукой сеятеля?
Я должен выполнить миссию, должен сообщить чрезвычайную весть. Совершенно необходимо, чтобы я прочел лекцию в филармонии, необходимо революционизировать мир. Ведь он, он представал передо мною в форме абсурдной тупости. А нужно, чтобы все ясно мыслили, освободились от заблуждений, овладели чудом понимать. Нужно, нужно, просто необходимо осмыслить жизнь перед очевидностью смерти. Найдутся, конечно, такие, которые назовут меня «больным», «чокнутым». Но почему же? Ведь смерть реальнее, чем появление на свет. Хотя бы потому, что рождающийся – ничто, а умирающий – вселенная, подлинная необходимость бытия. Ведь человек совершенен, он исчерпывает себя только тогда, когда смерть не застает его врасплох. И не потому, что он принарядил ее, как агент похоронного бюро, или забыл о ней, а потому, что включил ее в жизнь как неотъемлемую часть. Я хорошо понимал, как трудно не только принять эту концепцию, но и просто заметить наличие этой проблемы, увидеть ее явление, подобное вспышке молнии. Ведь и я зачастую забываю об этом. Забываю и в отчаянии грызу себя за то, что не вижу, не понимаю ничего! Слишком сильно в человеке животное, оно грубо-весомо, его клонит в сон, оно дремлет.
Но теперь я знаю, теперь я понимаю. И потому ищу Шико в конторе. Но там его нет. Он вышел на осмотр зданий или на стройку. После пяти часов я ищу Шико в кафе – там его тоже нет. Тогда иду к нему домой: он живет около собора святого Франсиско, в доме, перед которым разбит сквер. Стучу в дверь, консьержка идет узнать, дома ли сеньор инженер. Наконец Шико обнаружен. Он выходит ко мне в халате, с сигаретой в зубах. Занимает он просторную комнату на первом этаже, пол которой то и дело содрогается от едущих по мощеной улице телег. Они едут все время, даже далеко за полночь. И сейчас еще в ушах у меня этот надоедливый, донимающий город шум телег, тянущихся друг за другом по дорогам равнины. Они везут тюки соломы, дрова для печей, оливковое масло, глиняную посуду. Но в моем воображении, теперь уже отфильтрованном временем, эти говорящие городу о земле и навозе телеги и сопровождающие их погонщики сливаются в одну сплошную телегу, в один сплошной тулуп, толстое брюхо и лоснящееся лицо, напоминают звук хрустящих банкнотов, пересчитываемых на столиках кафе.
– Ну так что, учитель? – спрашивает меня Шико.
Он обращался ко мне именно так, поскольку такая форма дружеского обращения ему больше всего импонировала. Я звал его просто Шико, а иногда «инженер».
– Я думал о лекции… – сказал я.
– Отлично. Но это не так просто, как кажется. Я уже говорил с сеньорами из филармонии, но они не вдохновились. О чем вы будете говорить? О пробковом дубе? Об удобрениях? Не пойдет. Обречено на провал.
– Я буду говорить о новом, невероятном открытии.
– Открытии? Тогда это не для филармонии, а для Академии наук.
Нервничая, я курил. От керосиновой лампы на бюро падал ровный круг света, оставляя комнату в полумраке. Я всецело был занят собой и не заметил иронии инженера. Я хотел говорить, считал, что я должен говорить.
– Мое открытие предназначено всем. Это даже не открытие. Вернее: открытие необходимости учиться.
Инженер, подобно адвокату, готовому выслушать клиента, откинулся на спинку кресла. Я чувствовал себя не очень ловко, и если в чем и нуждался, то не в терпимости, а в поддержке. Вдруг в дверь постучали. Инженер пригласил войти. Появился мальчик, мой ученик. Смущенный моим присутствием, он заявил, что сейчас уйдет.
– Можешь остаться, – сказал инженер, – сеньор доктор разрешает. Это мой двоюродный брат, – бросил он в мою сторону.
И хотя я ничего не разрешал, но не возразил. Это был Каролино, мой новый ученик. «Рябенький» – так звали его товарищи за усыпанное угрями лицо.
– Был я в Редондо. Отца не застал, – объявил инженер парнишке, – но мать видел… Она не очень поверила, что тебе действительно нужны книги. Но деньги прислала.
Тут он протянул Каролино купюру, тот быстро спрятал ее, густо покраснев, но не проронив ни слова. Инженер снова закурил и опять откинулся на спинку кресла:
– Ну так, слушаю вас, учитель.
Нет, друг. Не для тебя, не для такой тучной флегмы, как ты, то, что я хотел сказать. Где же остатки твоего божественного сияния, где скрытый огонь твоего явления? Где он затерялся, друг? В каком тайнике твоего монолита? Я утраченное эхо твоей пустыни. А ты, бедняга Рябенький, с раскрытыми от изумления глазами, выходит, только ты и слушаешь меня? Но о чем я в конце концов, о чем? О том, что нет ничего глупее ярости и одиночества? Я докопался до главного в жизни, до очевидности того, что я есть. И говорю, говорю. Сгораю от энтузиазма, сотрясаю воздух. Но может, именно так слова лучше дойдут, ведь раскаленное железо поражает не тем, что оно железо, а тем, что оно добела раскалено..
– Открытие, о котором я предлагаю прочесть лекцию, – не такое простое, – твердо говорю я. – Я еще не рассказал вам о человеке, который повесился?
– Я знаю об этом от Моуры, – бросил Шико.
– А что, что случилось? – спросил Рябенький с характерной для этих мест певучей интонацией, которая делала его голос голосом совсем маленького ребенка.
– Несколько дней тому назад, когда мы с доктором Моурой ехали к больному, на дороге нас остановил один человек. Он жаловался доктору, что его рука уже не та, что раньше, чтобы сеять хлеб, и просил лекарство. А когда мы возвращались от больного все по той же дороге, то узнали, что человек этот повесился.








