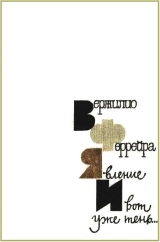
Текст книги "Явление. И вот уже тень…"
Автор книги: Вержилио Феррейра
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 23 страниц)
– Умер!
Кто это крикнул? Умер, умер! Жулия голосила, дети громко плакали, мать обнимала отца, ощупывала его лицо, руки, грудь, пытаясь вернуть его к жизни, и требовала, чтобы я пошел за врачом. Я и Томас отправились в поселок. Приехал врач. Отец безмятежно спал на постели, куда перенесла его прислуга. Когда же наконец все, и в том числе Эваристо, который, изойдя в крике, потерял сознание, пришли в себя и поняли, что случилось, я ушел в свою комнату и распахнул окно. Огромная торжественная луна, висевшая над деревней, купала в своем свете дыбившуюся перед окном гору.
II
Бесполезно пытаться уснуть. Я звоню в колокольчик, зову сеньора Машадо и прошу приготовить мне ванну, надеясь, что ванна меня успокоит. Сеньор Машадо согласен, но с оговоркой:
– Сеньор доктор, я хочу предупредить вас: в моем доме ванная комната – это ванная комната, вернее сказать, комната, в которой моются. У меня был постоялец, сеньор доктор, который только и делал, что давал концерты в ванной. Каждое утро он пел и заливал все водой.
Усталый, я обещал хозяину не занимать надолго ванную и не петь.
– С самого начала все должно быть ясно.
– Согласен, согласен.
– Другой раз, другой постоялец…
– Где же у вас ванная комната, сеньор Машадо?
– Тут, сеньор доктор, тут. Сделайте одолжение, подождите четверть часика, пока я налью воду.
Наконец я принял ванну, переменил одежду и, обретя спокойствие, отправился в лицей. Белый город с запутанной, как старые силки, сетью улиц, руинами, полуразрушенными арками, молящимися фигурками святых в нишах и потаенными глазницами готических окон сиял под доброжелательным солнцем. Эвора погребальная, перекресток рас, склеп веков и людских мечтаний, как ты запала мне в душу, как я скорблю о тебе! И, сидя в пустом доме, при свете этого лунного безмолвия, нарушаемого голосом ветра, пишу, весь во власти простора и отчаяния, и чудится мне, будто и здесь я слышу хор крестьянских голосов – этот скорбный хорал равнины. Я поднимаюсь по улице, ведущей к собору, поворачиваю к площади, на которой высится храм Дианы, и в сиротливо стоящих колоннах слышу шелест древнего, давно уже недвижного леса. Купол собора поблескивает в лучах утреннего солнца. Погрузившись в прошлое, я молча замираю под перекинувшейся через улицу аркой и долго, не отрывая глаз, смотрю на этот купол. Потом иду не торопливо, точно в страхе, спешащим вниз уличкам и, оказавшись на других, почти безлюдных, плутаю по ним, но все же выхожу к лицею.
Как я уже сказал, я пишу все это спустя годы и годы. В этом огромном доме, когда-то полном жизни, а теперь пустынном, былое еще живо, еще трепещет, и все, что происходило, возникает из прошлого удивительно нетронутым и сиротливым. Но связь между событиями, о которых я рассказываю, нет-нет да теряется, исчезает, словно в дымке тумана, и только тоскующие отголоски этих событий – вехи уходящего в забвение прошлого, – как крики, находят отклик в моем существе. Вот я перед лицеем и выбором пути в жизни. Нет, профессию я не выбирал: все решилось само собой. И снова в комнате, где я пишу, предо мной возникает отец. Он усаживает меня вот здесь, за этот стол, а сам принимается ходить из угла в угол. Потом останавливается и, пристально глядя на меня, спрашивает:
– Так кем же ты хочешь быть?
На шестом году обучения уже должно отдать предпочтение чему-нибудь одному – науке или литературе. Но, испытывая глубокий интерес и к тому и к другому, как я могу это сделать? Да и выбор профессии определяет совсем не то, что изучаешь, а то, что дает учение, в чем человек себя находит. Вот отец, он был врачом, он нашел себя именно в этой профессии, а брат Томас – конечно же, на агрономическом факультете, а Эваристо, Эваристо в бесконечных провалах на экзаменах.
– Думаю, – сказал отец, – тебе лучше посвятить себя словесности.
Возможно, возможно; я никогда не отличался крепким здоровьем, а жизнь преподавателя тихая. Уж не потому ли я всегда мечтал о военной форме и романтике жизни? Отец поправился:
– И не только думаю. Есть веские причины.
Да. Действительно. Он имел в виду мою любовь к чтению, безудержную страсть выдумывать невероятное и мои тайные стихи, в которых я воспевал эту страсть. Имел в виду строки, посвященные тете Дулсе и ее старому альбому, но о нем я скажу позже. Ну и, наконец, мой давний, заданный еще в детстве вопрос:
– Кто я?
Это было летним вечером. Отец читал газету, сидя около пруда. Я, поглощенный своими мыслями, смотрел в воду.
– Так, – сказал отец несколько смущенно. – Ты мой сын, человек, существо, которое мыслит, живет и которое должно умереть, как любое другое живое существо.
– Но я, именно я, – кто я?
Отец решил прибегнуть к рассказу об эволюции жизни на земле. Но я, и сегодня верящий в ее достоверность, чувствовал и чувствую, что что-то осталось не объясненным, и это что-то – «я», существо, которое живет во мне и наделено этой мрачной колючей внешностью, так я считал, пристально рассматривая себя в зеркале.
Лицей был пуст, занятия должны были начаться не скоро, а экзамены за второе полугодие – на днях. Никогда не забыть мне явившегося моему взору лицея, как и самого города, такого необычного. Храм Дианы. По-настоящему я увидел его в эту же сентябрьскую ночь, омытым луной, – застывшие лучи прерванной молитвы, молчаливый образ ушедших веков… Лицей напомнил мне Коимбрский университет, каким я сохранил его в памяти на всю жизнь. Разве только внутренний дворик показался более древним, но возможно, причиной тому было безмолвие безлюдного утра, а возможно, иллюзию руин создавала необъятность Алентежской равнины. Хмурый служащий канцелярии со свисающими усами и широко раскрытыми, как на египетских изображениях, глазами спокойно посмотрел в мою сторону. Я протянул ему свое удостоверение личности, и он пошел сообщить ректору о моем прибытии. Ректора в кабинете не оказалось. В приоткрытую дверь я увидел большую легавую собаку, коротавшую на подстилке свои досужие часы. Пес вселил в служащего уверенность, что ректор здесь, в лицее, и скоро появится. Я снова вышел во внутренний дворик – в центре был разбит сад, на зеленых клумбах увядали последние летние розы, над небольшим бассейном возвышалась мраморная чаша с водой, к которой слетались голуби, – и простоял там до тех пор, пока услышал шум спускаемой воды и увидел высокого человека. Я проводил его взглядом, убежденный, что это и есть ректор. И действительно, высокий, медлительный, спокойный человек открыл неприметную дверь и вошел внутрь. Я снова вернулся в приемную и подошел к служащему. Тот, ни слова не говоря, направился доложить обо мне. Я же стоял около двери, ожидая приглашения.
– Сделайте одолжение, войдите, – услышал я из-за двери.
Я вошел. Поклонился. Назвал себя:
– Алберто Соарес.
– Доктор Алберто Соарес. Новый преподаватель первой ступени. Дипломированный. А в каком лицее этот год вы служили? Но садитесь. Вот стул.
Я сел. Этот год я только принимал экзамены. В Коимбре.
– Ваш лицей, – сказал я, – первый, где я собираюсь преподавать.
Чем только человек себя не тешит в этой жизни! Но необходимо, необходимо, чтобы что-то тебе светило, пусть даже иллюзия. Добрый вечер, ректор. Я разговариваю с тобой, сидя за письменным столом и слыша, как в камине потрескивают сучья, а за окном завывает ветер. Я ничего о тебе не знал. Никогда. Но сейчас из всех твоих грехов или добродетелей мне вспоминается только приятная красота усталого лица человека, который исчерпал жизнь, и добрая терпимость к человеку, который ее начинает. Уж больно наивны были мои планы! Где же был голос разума? Неожиданно для самого себя я, побуждаемый энтузиазмом новичка, стал говорить о том невероятном, что хотел претворить в жизнь. Упражнения, сочинения, современная педагогика, чтение современных писателей, культура, культура. Еще я сказал, – да, точно сказал, – о том, как необходимо научить отличать фадо[3]3
Фадо – португальская народная песня.
[Закрыть] от симфонии и Пикассо от картинок в календаре. Боже правый! И каким все это казалось мне совершенным, согласным с тем самым солнечным утром в саду и с серьезно смотревшим на меня человеком в кабинете, боже, и с моим полным одиночеством! Ректор слушал меня, превозмогая усталость, и похоже, заразился моей молодостью, поддакивал своим хриплым голосом:
– Да… Да…
Он опускал глаза, постукивал по столу карандашом. Потом позвонил в колокольчик. Вошел служащий канцелярии.
– Познакомьте доктора Алберто Соареса с расписанием и классными журналами.
Новый день. Дивный, почти летний день. Тело еще ныло от ночного поезда, глаза жгло от бессонницы, но, выйдя на улицу с документами преподавателя лицея, я почувствовал себя прекрасно. Я смотрю с откоса на открывающуюся моим глазам равнину и ощущаю, как все мое существо полнится теми же чувствами, которые охватывают тебя, когда смотришь сверху на море.
Через два дня начинались экзамены за второе полугодие. В это утро полдюжины учеников потеют над учебниками. Идет Троянская война, штурмуют словари. Я, все еще взволнованный первыми днями в лицее, дежурю. Курю, шагая по аудитории, потом распахиваю окно, выходящее на просторы выжженной и оставленной солнцем равнины. Издалека доносится свисток паровоза детской железной дороги, по черной ленте шоссе мчится автомобиль. Похолодало довольно резко. Лучи потускневшего солнца скользят по поверхности; нет-нет да налетает нежданный ветер и кружит сухие, упавшие на землю листья. На тянущихся вдоль окон электрических проводах стайками сидят ласточки и обдумывают предстоящий перелет. Они вздрагивают от порывов ветра, качающих провода и взъерошивающих их перья, и печально смотрят вдаль.
Вдруг дверь распахнулась, и на пороге появился ректор. Его широкая, детская улыбка говорила, что для меня у него есть приятная новость.
– Мне звонил сеньор Моура и спрашивал о вас. Он хочет знать, где и когда может вас видеть.
III
Но встретиться оказалось не просто. Я позвонил Моуре тут же, и мы договорились на завтра, в кафе «Аркада», но он забыл, что это был четверг, иначе говоря, базарный день. И когда я в послеобеденное время вошел в кафе, то был крайне изумлен обилием народа, сидящего в этом просторном помещении. Коридор был забит торговцами, которые именно здесь, выпивая, завершали свои сделки. Четверг, как я узнал позже, был «свиным днем». И теперь, когда я вспоминаю те далекие времена, четверг для меня – день самодовольного брюха, с наслаждением переваривавшего пищу и заполнявшего собой все пространство кафе… Место я нашел с трудом, слева от входа, в углу, – и потом уже каждый раз садился только там. За столами, накрытыми к обеду, приезжие жевали, и так это у них хорошо получалось, что, даже когда их челюсти переставали двигаться, мне они все равно казались жующими, ну – как всегда кажутся мчащимися автомобили обтекаемой формы. Среди шума, гама, клубов табачного дыма и стойкого запаха пота я – по такому же, как у меня, ищущему взгляду – пытаюсь обнаружить доктора Моуру. Потом устаю и, безразличный ко всему, принимаюсь курить. Как видно, встреча не состоялась. Отец говорил мне о Моуре, как о человеке, который может оказать мне поддержку в чужом городе. И знаю, что писал ему. В Коимбре они были однокашниками, по всему похоже, что их связывало нечто большее, – возможно, богема, скромная, конечно, и, именно потому, что скромная, особенно памятная. Как рассказывал отец, у Моуры был красивый тенор, и он с удовольствием пел серенады возлюбленным своих друзей. Я закуриваю еще одну сигарету и еще какое-то время жду. Вдруг рядом с собой вижу толстого, низенького, мешковатого субъекта, беспокойно ищущего кого-то глазами. Я поднимаюсь ему навстречу. Секунду мы пристально смотрим друг на друга, потом понимаем, что встретились, и он первый обращается ко мне:
– Вы доктор Алберто Соарес? Ну так здравствуйте, здравствуйте. Как добрались? Где устроились? Может, посидим? Правда, сегодня не очень удачный день – четверг. Совсем забыл!
Мы сели. Моура заказал кофе и, задержав взгляд на моем черном платье, спросил об отце. Я рассказал ему о внезапной трагической кончине отца (он знал о ней из газет), но понял, что рассказ мой не произвел на него впечатления. Он был весельчаком, но вот на чем зиждилась эта его веселость, узнать мне так и не довелось. Тут же он заговорил о нашей деревне, нашем доме, о том, что было реальностью, существовало даже здесь, среди этого гвалта, густого дыма и шелеста банкнотов, выкладываемых на стол.
– Два года назад мы были у вас. Нет, не два, три.
– Я тогда был в отъезде.
– Знаю, Алваро – отец ваш – говорил мне о вас. Но дом, дом… Великолепен! Очень старинный, так ведь?
Старый дом. В нем я родился, благодаря ему и себе я стал тем, что я есть. Очень ли старинный? На пристройке я обнаружил дату – 1761 или 1767. Кто-то перевез его из Бразилии, из Минас-Жераис. Перед домом – большой сад, в стороне – большая крытая беседка, по другую сторону – сбегающий к реке сосновый бор, а дальше – гора.
– Ну что ж, привыкайте, – сказал Моура. – Здесь все иное. Но заметьте, своя красота. Когда я сюда приехал, тоже пришлось привыкать, – ведь я не здешний, но здесь, в Эворе, женился и осел. Мне говорили: «Самое трудное – первые десять лет».
– Я надеюсь в следующем году перебраться в Лиссабон.
– Я знаю, вернее, полагаю, что так и будет. Вас знают. Да и в моем доме наслышаны о вас. Моя София тоже сочиняет стихи…
София. Вот тебя-то сейчас, когда ко мне пришла зима, я вспоминаю. Вспоминаю твое стройное тело, твой вязкий лукавый взгляд, весенние поля в воскресные дни, теплые летние ночи на горе Сан-Бенто и равнину, купающуюся в лучах лунного света, и тебя – поющую, запрокинув голову назад.
Ай… ай, ай, ай, ай!
Все мое существо слышит рвущуюся из твоей груди страстную, безумную песнь. Небеса потрясены тобой – божеством. В твоих живых глазах, в твоем юном лице, София, и буйство крови, и победа, и поражение. Пой! Что у тебя еще в жизни, кроме твоей песни, кроме твоей тоски и вызова пустынному небу?..
– Тоже пишет стихи? – спросил я.
– Моя София? О, если бы она столь же была способна к латыни…
– К латыни?
– Два года проваливается на юридический, друг мой, два года. Вот так-то. И похоже, что и на третий провалится.
В этот момент к нам подошел круглолицый лысеющий молодой человек с широкой, от уха до уха, улыбкой и, положив руку на плечо доктора Моуры, сказал:
– Шико лучше. Я только что от него.
– Да? Тогда я не буду спешить.
– Можешь зайти позже. Он говорит, что ему лучше, и уже опять твердит о политике, разуме, культуре и бог его ведает о чем еще, а вчера был угрюмым и вялым.
– Наш новый друг, доктор…
– Алберто Соарес.
– Алфредо Серкейра. Как поживаете, доктор?
– Мой зять, – вставил Моура.
– Муж Софии?
– Аны. У меня три дочери, – пояснил Моура, улыбаясь. – И простите… в субботу… Вы можете прийти к нам в субботу к ужину?
Я пошел. Дом находился у Алконшелских ворот. Посередине двора стоял большой, массивный медный горшок. Между верениц выставленных на перилах самых разных глиняных горшков, которые коллекционировал доктор Моура, в дом шла широкая каменная лестница. Первый этаж с высокими сводами, напоминающими монастырские, обдавал холодом и сыростью катакомб. И сейчас этот холод мне вспоминается как образ застывшей в тех сводах тишины… Открывшая мне служанка, в плиссированной наколке и накрахмаленном переднике, провела меня в кабинет. Дом был так огромен, что никаких звуков – ни шагов, ни скрипа дверей – слышно не было. Вскоре появился Моура. Он протянул мне обе руки и повел через запутанный лабиринт комнат до застекленной веранды, где меня ждали аперитивы. Прямо перед верандой был разбит обнесенный высокой стеной сад, на который уже спускались сумерки. Две пальмы, словно взорвавшиеся гранаты, взлетали в небо. Вдалеке, за рядами домов, как море, синела простирающаяся равнина. Я познакомился с мадам, тучной крашеной блондинкой (должно быть, – она была седая), хитрой и решительной по праву матери. Познакомился с женой Серкейры – Аной. Ана. У Аны были длинные гладкие волосы, худое энергичное нервное лицо и жалящий взгляд… Из-за торчащего вперед резца верхняя губа чуть-чуть приподнималась. И с тобой, Кристина. Тебе было семь лет, ты была в голубой плиссированной юбке и смотрела с видом серьезной девочки. Смотрела и молчала. Да и что ты могла сказать? Но очень скоро, после ужина, ты заговорила. И так необычно, Кристина, что я до сих пор слышу тебя, слышу самый совершенный из всех когда-либо слышанных мной голосов – и в тот год, и на следующий, и во все годы моей жизни…
Наконец, словно на сцену притихшего театра, вышла София. На ней было белое платье, плотно облегающее крепкое, упругое тело. Округлости уплотнены, сжаты, стиснуты, подобно челюстям, груди в туго застегнутом лифе брошены вперед, в глазах беспокойный огонь. Казалось, электрический ток прошел сквозь нее, прошел, наэлектризовал до предела. Внезапно почувствовав себя несчастным, я крепко сжал ее руку. За окнами, на теплой спокойной земле ночь, подобно удовлетворенной плоти, забывалась сном. Мадам Моура, София, Ана, Алфредо засыпали меня обычными для первого знакомства вопросами. Знаю ли я Алентежо? Бывал ли раньше в Эворе? Останусь ли здесь, у них? Что преподавал? Нет, в Эворе я не бывал, нет, не останусь, преподавал португальский и латынь…
– Латынь, латынь! – воскликнула София, чрезвычайно развеселившись, что на свете и даже здесь, рядом, есть некто, кто обучает этому предмету.
– Я любил литературу и решил посвятить себя преподаванию, – пояснил я. – Ну а поскольку у латыни есть будущее и я с ней в ладах…
– О, латынь! – все еще восклицала София.
– Не беспокойтесь, я не собираюсь быть простым преподавателем, – тут же, оправдываясь, пообещал я, точно меня хотели унизить. И добавил, что профессия для меня – совсем не то, что записано в удостоверении. Я бы, например, мог остаться в деревне и, как мой брат Томас, заниматься землей. Но у меня есть свой «порок» – я люблю книгу и пишу стихи. Исполняя служебный долг, свободное время я буду отдавать любимому делу. Да, да, я писал стихи. Но искусство для меня не мир печатного слова, не пустое времяпрепровождение или удовлетворение тщеславия, а причастность к очевидности, воплощение того, что во мне заложено. Я это знал, вернее, понял позже. Ана что-то хотела спросить, но Алфредо опередил ее:
– О, сеньор доктор, вы увидите, что такое Алентежо… У меня в Алентежо имение, мы должны поехать туда. Тем более, мы здесь уже два года, два года! Так хочется чего-нибудь новенького…
И он улыбался всем вокруг своей широкой, простодушно-глуповатой улыбкой. Тут появилась розовощекая, в шуршащем крахмальном плиссе служанка и объявила об ужине.
За столом Ана села подле меня и тут же задала мне тот самый вопрос, который уже несколько минут вертелся у нее на языке. Порывистость Аны выдавала в ней прозелитку или человека в тяжелом душевном кризисе. И, как очень скоро стало мне известно, у милой Аны в самом деле был кризис. Да, Ана. Это твое беспокойство, твоя силлогистическая ярость, ожесточенное желание выказать их, очень скоро доказали мне твою полную неуверенность в себе.
– Я прочла две ваши книги, – сказала она. – Вы написали третью?
– Нет, пока нет, – сказал я, оказавшись в центре внимания.
– Что произошло с вами после вашей первой книги? Я бы сказала, что и ваш бог воскрес на третий день.
– О нет, моя дочь, нет, – прервал ее Моура, поспешно придвигая к себе прибор. – Сегодня ты меня не спровоцируешь на дискуссию. Знаете, это ведь в мой адрес, – добавил он, поворачиваясь ко мне.
– А я думал, в мой.
– Нет, нет, в мой. Ну, ладно, я религиозен, верю в бога, в Христа, в папу, в догму, во все, чему меня учили. И не имею времени раздумывать над этим. Есть бог, который заботится о моей жизни и о моей смерти. Я же тем временем забочусь о своих больных.
По другую сторону от меня сидела София. Она то и дело вставляла короткие вопросы, не поднимая глаз, но иногда вскидывала их и стреляла ими в меня. Я посмотрел на мадам. Она лукаво и снисходительно смотрела на нас обоих. Лысеющий Алфредо улыбался, улыбался всему, снова говорил о поместьях, спрашивал меня, люблю ли я фрукты, потому что хотел, чтобы я попробовал растущие у него апельсины, и собирался прислать их мне в пансион. Спрашивал, действительно ли я живу у Машадо. И говорил, что завтра же, нет, дня через два отправит мне плетеную корзину апельсинов. Вот только какие мне больше нравятся? Баианские? И, повернувшись к невестке, спрашивал:
– Скажи-ка, Софизинья, дорогая, как ты находишь баианские апельсины?
«Что за люди, что за люди?» – думал я. Набросившийся на еду Моура, казалось, был весь во власти получаемого удовольствия. Ведь его хорошее расположение духа зависело от душеприказчика – живота. Неожиданно Ана вернулась к своей навязчивой идее:
– В вашей книге есть интригующие строки. Они звучат приблизительно так:
Из крови рождаются боги,
что религии убивают.
В кровь возвращаются боги,
только в крови они вечны.
– Хватит, оставьте бога и доктора Соареса в покое, – вдруг закричал, оторвавшись от десерта, доктор Моура.
Ужин кончился, и мы перешли в другую залу выпить по чашечке кофе. Мадам, улучив минутку, спросила меня:
– Простите, так вы неверующий?
– Разумеется, нет, сеньора.
– Ох уж эта нынешняя молодежь, эта ужасная молодежь…
Тут появился малорослый, плотно скроенный, квадратный мужчина лет тридцати, с победным видом боксера. Его появление чрезвычайно обрадовало и растрогало всех.
– Шико! Ты уже здоров? Так что же, что же с тобой было?
– Спросите вашего отца.
Тут Моура отечески разъяснил. Пошаливало давление: излишества всегда вредны, «он знает, знает, чуть-чуть благоразумия – и все входит в свою колею». Обо мне они забыли, и тут не кто иной, как Ана, представила нас друг другу. Шико (я тут же, как и все, стал обращаться к нему именно так) подошел ко мне и с силой, как будто нас связывала вековая дружба, тряхнул мою руку, тут же продемонстрировав, что дружбы не существует. Он знал мои стихи и очень хотел «сверить» кое-какие мысли:
– У нас есть о чем потолковать. Я бы даже сказал, о многом.
– Послушай-ка, Шико, – вмешался Алфредо, – как это ты тут на днях выразился? «Все мы рвемся куда-то, а опомнишься – глядишь, пора и о смерти подумать». Не совсем так, но… очень хорошо звучит. Хотел было доктору сказать, да никак не припомню.
– Пей и не болтай глупостей.
– Опять ты меня цепляешь.
Тут пришел твой час, Кристина. Сказала ли ты что-либо до этой минуты? Не помню. Но если и сказала, то что? Тому, что ты скажешь, не дано ни слов, ни места, ни времени. Вообще ты вне времени и пространства. Мимолетное явление. Сюрприз для всех и во всем. Это я понял сразу, с первой минуты, как с тобой познакомился…
Кристина появилась на свет «не вовремя». Никто ее уже не ждал. Отца «подвела» физиология, а моральный кодекс решил все: Кристина родилась. И теперь, когда речь заходила о младшей дочери Моуры, его друзья, подтрунивая над ним, называли ее внучкой… Он простодушно улыбался, потому что жизнь сильнее его, простого орудия или зрителя…
– Кристина, – сказал Моура, – сыграй что-нибудь для сеньора доктора.
Девочка пристально посмотрела на меня своими голубыми глазами, улыбнулась еле уловимой улыбкой и села за пианино. Села, оправила юбку и, держа руки на клавишах, выждала, несмотря на наше молчание, какое-то время, то ли себя, То ли нас призывая к вниманию.
И тут я понял, понял, что стал свидетелем откровения. Чего стоили все наши разговоры, наша веселость, вызванная выпитым вином или выкуренной сигаретой, перед лицом этого очевидного факта. Все, что было подлинным и непреходящим, все сколько-нибудь возвышенное и совершенное, безукоризненное, бесспорное, исключительное и простое рождалось и умирало здесь, под этими слабыми детскими пальцами. И так было необходимо, так важно, чтобы ничто из этого не утратилось, что руки Кристины метались по всей клавиатуре, ноги вжимались в педали, а милое до этих минут, ничего не выражавшее детское лицо сделалось значительным от совершавшегося таинства. Играй, Кристина. Я слушаю. Бах, Бетховен, Моцарт, Шопен. Я рядом с тобой, около, я вижу на твоем лице свои собственные переживания. Ты чуть поджимаешь губы, хмуришь лоб, встряхиваешь перехваченными красной лентой белокурыми волосами. И, видя в невинном создании столько чудесного и значительного, видя, что даже детские руки могут поднять вселенную, но что какая-то неведомая сила подчиняет девочку, держит, как жертву, я приходил в отчаяние и чуть не плакал. Играй, Кристина, играй еще. Теперь только для меня, для меня одного. Я слушаю тебя здесь, в своем доме, под завывание зимнего ветра. Шопен, Ноктюрн № 20. Я слушаю, слушаю. В твоем саду качаются пальмы, ночь одевается звездами и засыпает на равнине. Но этот плач, эта мольба – откуда? Мне больно, что тебе она известна. Эта мольба звучала в устах миллиардов людей не одно тысячелетие, а теперь ты – живая память о ней, ты доносишь ее до нас…
Когда Кристина кончила играть, всем захотелось расцеловать ее. И она – опять ребенок, обыкновенный ребенок, только несколько возбужденный происходившим с ней чудом – обошла всех нас по очереди. Ана как-то по-своему особенно приласкала ее, что-то сообщнически шепнув на ухо.
Потом пришла очередь пения. У доктора Моуры, к моему большому удивлению, оказался прекрасный тенор. В дуэте с Софией они спели отрывок из какой-то оперы или оратории. Позже я узнал, что Моура в свое время учился пению и состоял в хоре, который по праздникам пел в соборе. У Софии было очень милое контральто, не робкое и не заносчивое, а достоверно свидетельствующее, что она существует, живет на земле.
Вскоре я поднялся, чтобы откланяться. И неожиданно для себя самого предложил свои услуги по части латыни. Мадам Моура, просияв от удовольствия, тут же согласилась:
– Какая любезность, сеньор доктор… София, это же просто чудо! И ты не благодаришь?
Она поблагодарила, тут же заявив, что я очень скоро раскаюсь, что предложил это, так как ученицы хуже еще поискать нужно. Моура поддержал дочь, сказав, что я взвалил на свои плечи тяжелейший груз, и с улыбкой поинтересовался, нет ли у меня палматории[4]4
Палматория – линейка, которой учитель, наказывая, бьет учеников по рукам.
[Закрыть], которая очень поможет мне в моих занятиях с Софией.
Я вышел на улицу, Шико вышел вместе со мной. И пока мы поднимались вверх по улице, он рассказывал мне о себе и об Эворе. Вот уже пять лет, как он живет и работает здесь. Работает инженером в Управлении по охране памятников старины. Эвора – «нелепейший, реакционный город», кичащийся своим невежеством и высокомерием. В Эворе, как ему сказали однажды, «нельзя иметь больше четырех классов образования и меньше трехсот свиней».
– Любое культурное начинание здесь тонет в равнодушии и свином сале.
Средневековье и мавританское владычество еще живет здесь в человеческих душах. Для здешних султанов полдюжина любовниц – признак богатства. А дамы – так те годами не появлялись на улице, разве что на святой неделе. При каждом доме – сад. Но туда не заглянешь. Хозяева отгораживаются высокими стенами не только от нас, но и от окружающей жизни. Завязать в Эворе знакомство – событие невероятное. Всему здесь – общительности, соседским садам и, наконец, самому городу – воздвигнута стена. Но время от времени жители Эворы выезжают в Лиссабон. И тут уж они дают себе волю: казино, театры, вечеринки. Потом опять скрываются в своих монастырях. А некоторых дам на улице вообще ни разу не видели. Но он, Шико, их видел в Эсториле[5]5
Эсторил – португальская Ривьера, недалеко от Лиссабона.
[Закрыть], где они и пьют вино, и курят сигареты. Эвора – пост, Лиссабон – карнавал. Но он, Шико, и его друзья не отступятся и будут докучать тучной гордыне эворских сеньоров. Провалилась затея с кружком музыкальной культуры, с классическим кино. Они попытаются придумать еще что-нибудь. Сейчас у них на повестке серия лекций в зале филармонии. Не приму ли я участие?
Мы бродили по улицам вымершего ночного города под опустевшими аркадами. В конце концов я сказал этому горевшему жаждой деятельности человеку:
– Я, конечно, совсем не знаю Эворы, но мне кажется, что вы преувеличиваете. Пока я понял только одно: Эвора – фантастический город. А что касается лекций, то, конечно, я приму в них участие.
В полной темноте я поднялся по лестнице пансиона, четыре раза постучал в дверь. Наконец сеньор Машадо в домашних туфлях и халате поверх какой-то невероятной ночной рубахи, доходившей ему почти до пят, открыл мне дверь. Естественно, он встретил меня в штыки:
– О, сеньор доктор… В моем доме в час ночи уже все спят. Если вы желаете возвращаться позже, сделайте одолжение, берите ключ.
– Согласен, сеньор Машадо, согласен. Такого больше не повторится.
Этот тип начинал меня злить, – видно, придется искать другую квартиру. Но как только я лег и погасил свет, моими мыслями завладело предложение Шико. Принять участие в лекциях! Похоже, мне представлялась возможность облечь в ясную, четкую форму все то, что так меня волновало. Когда-нибудь, может, я и разовью свои идеи в каком-нибудь солидном труде, но сейчас возникла необходимость наметить основные моменты. С этого-то и началась та история, которую я рассказываю.
Но как же, однако, трудно выразить то, что тебя волнует, когда знаешь, что человеку свойственно все упрощать. К тому же, если мы желаем быть понятыми, мы приговорены выражать мысли и чувства словами. Но слово-то – гранит. Все утро я сражался и со словами, пытаясь себя выразить, и с самим собой, надеясь схватить свою собственную очевидность. Сочившийся сквозь жалюзи свет, шум улицы и шум в пансионе, наконец, думы об одном и том же сковывали меня, доводили до отупения. Мой крепкий, добротный мозг сдавал, отказывался что-либо воспринимать, все забыл и вместе с тем все помнил. Чтобы обрести себя, непреложность своих мыслей, я, подобно мистику, в иные часы чувствующему себя бесплодным, должен был сосредоточиться. Я закрыл глаза, желая увидеть себя. Перед глазами снова возникала деревня и та сентябрьская ночь, когда умер отец. Ну явись, приди… Не мог же я тебя утратить, ведь я так хорошо тебя знаю и не вижу!
И снова я в деревне у купающейся в лунном свете горы. Кто-то открывает дверь.
– Надо одеть отца, – говорит Томас.
При мысли, что нужно дотронуться до мертвого тела, я содрогнулся. Но пошел. Чьи же, как не мои, руки должны это сделать, старик? Чьи же, как не мои! Невыносимо тяжко. Я иду в комнату, где вечным сном спит отец. На нем черные обычные рабочие суконные штаны и сапоги с подковами, которые он не хотел снять даже в семейный праздник. Эваристо от помощи нам уклоняется. И, чтобы как-то оправдаться, опять разражается воплями. Мы вынуждены позвать Антонио. Он приходит – маленький, толстый, с белой как лунь головой и пучком волос на раскрытой груди. Входит в комнату, крестится и принимается за работу. Самым трудным оказалось снять с отца сапоги. Я и Томас держим тело, а Антонио пытается стянуть их. Но ничего не выходит. Он приказывает нам отойти, сам же склоняется к уху покойника и что-то шепчет. Потом один очень легко справляется с сапогами.








