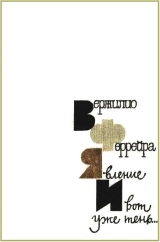
Текст книги "Явление. И вот уже тень…"
Автор книги: Вержилио Феррейра
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 23 страниц)
– Вы уже назначили время для ваших уроков?
– Папа. Никакие это не уроки.
…с другой стороны, твое присутствие необходимо. Оно мне как опора. Богач не богат без картины бедности. Свобода несвободна без того, против чего она направлена. И чистота, она – не чистота, если нет греха, который надо совершить – Элена. Перечитываю твою записку: «Я ушла» – читаю все еще в первый раз. Внезапный взрыв твоего отсутствия, здесь не хватает воздуха. Удушье. В стакане с виски позвякивают льдинки.
Это не «уроки», сказала Милинья.
– Эмилии нужно только кое-что объяснить, – говорит Элена.
Прежде всего, из «формальной логики». Sub-prae prima, sed altera bis-prae, tertia bis-sub[32]32
Средний термин выступаете в качестве субъекта в большей посылке и предиката в меньшей.
[Закрыть].
Внезапный страх, как при мысли о том, что жизнь надо строить заново. Безмолвные книги, стена, сложенная из человеческих знаний, крепость, защищающая Человека; вот они здесь вокруг меня, их сила и возвышенность стоят вровень с моим достоинством. Вот так.
– Да и невозможно назначить время, – говорит Элия. – Я никогда не ношу часов.
– У меня нет часов, – говорит мне Элена, – не ждите меня в какой-то определенный час.
Тогда, в пору нашего романа, я назначил ей встречу на террасе казино, то было в сумерки.
– У меня никогда не было часов…
Я сидел, смотрел на корабли, проплывавшие по морю. Абсолютность настоящего момента – убивай время и будь своей собственной вечностью – Элена смотрит на меня как-то осуждающе. В открытом море дрейфуют несколько рыболовных шхун, огни мигают в такт волнам. Влажное прикосновение ветерка. Он покрывает капельками влаги мое лицо, обнаженные руки. И тут Элия заговорила о себе. У нее были отец и мать, она оказалась реальным существом. У нее были какие-то связи с реальностью, и это немного смущало меня, ибо между нею и мной существовало нечто совсем особое, нереальное. Ее отец, например, сидел в тюрьме, его зовут Виктор, она произнесла «к». Витор Глориа, я-то пишу без «к»; может, мне знакомо это имя?
– Как будто слышал.
Как всегда, оказывается, что слышал, когда нужно, чтобы слышал.
– Он всю жизнь сидел по тюрьмам, – сказала Элия.
Ее мать поселилась в городке поближе к тюрьме, чтобы навещать его каждый день, Элия приехала на побережье, жила у подруги. Таким образом, у нас был предмет для разговора, меж тем как с террасы над морем открывались безмятежные сумерки и беспредельные просторы – о, господи. Как могу я быть веселым? Или даже не так: как могу я еще надеяться? Вообразить жизнь заново после того, как она уже исчерпана. Ты старик, человек конченый. После всех достижений – и ты кое-чего достиг, – после того, как ты добился той цели, которую другие – ты сам – поставили перед тобой, дабы ты ее добивался. Добился, но не всего – о, почти всего. Не всего. Не дотянул до метра семидесяти, носишь очки с детства, и зубы почти все сменились в третий раз, почему Элена тебя полюбила? Думаю, что она тебя не любила. Просторная ночь ниспадает на все, что видят мои глаза, на всю жизнь до самых ее пределов. Светлое пятно в такой дальней, невообразимо дальней дали. Безмятежные воды впадают в дрему, их дрема отзывается во мне одним-единственным порывом – может, уйти? Ночь ниспадает на тайну бытия – может, тебе уйти, вжавшись в ночь? Ночь – твое бытие. Элия спрашивает меня:
– Какую книгу вы пишете, сеньор?
– Не называйте меня «сеньор».
Забавная потуга на общительность и на то, чтобы казаться моложе. Или значительнее.
– Что вы сейчас пишете?
Классический вопрос, всем писателям его задают, я ведь писатель. Точно так и сам я спрашиваю, когда спрашивать не о чем: «Что вы поделываете?», «Что скажете новенького?», «Как это вы умудряетесь не стареть?» – эти вопросы – и не вопросы вовсе, они значат лишь, что мне неинтересен ответ. Я даже испытываю особое, специфическое раздражение, вопрос раздражает меня. Словно меня спросили, занимаюсь ли я любовью со своей женой. Либо когда. Все вопросы всегда запаздывают по сравнению с ответами, но эти – больше, чем прочие. Либо вторгаются в запретную зону, точно глаз у замочной скважины. Во всяком случае, я отвечаю:
– Кропаю что-то.
А в это время официант уносит тарелки, и я – здесь, в кабинете, – подхожу к телефону.
– Жулио?
– Сабино, привет.
– Читал сегодняшний «Коррейо»?
– Нет еще. Что-нибудь новенькое?
– Да ну, старина. Этот Гомес – невозможный тип. Совершенно неуместная выходка, я, когда говорил с Озорио, так ему и сказал.
– Озорио тоже прочел?
– Нет, Озорио еще не читал. Я его случайно встретил в книжном магазине и ввел в курс дела.
– Газета у тебя под рукой? – спрашиваю я, а сам смотрю на то, как холодный сумрак оседает на морскую гладь, и тут же украдкой перевожу глаза на Элию и застигнут на месте преступления ее глазами: внезапный блеск, судорожный блеск ее взгляда, перехватившего мой, скользнувший по ее прозрачному золотистому платью, глаза у нее живые-живые, а волосы подстрижены очень коротко, почти ежиком. Прядками на лоб, – нежные уши на виду – и на млечно-белый затылок, куснуть бы – и Сабино прочел:
– Так, так… «Жулио Невес», да, здесь. «Жулио Невес в полную мощь выявил свои творческие возможности в романе „Откровение“, до сих пор пользующемся некоторым успехом у читателя; но с выходом в свет своей последней книги „Ничто“ – многозначительное название из числа козырных среди фальшивомонетчиков от литературы, – он пополнил ряды сочинителей, обделенных талантом, которые, за отсутствием оного, не в состоянии создать великие творения, такие, как создали Пруст, Томас Манн или…»
…или кто? Поток машин, несущихся по проспекту, стал еще гуще, гул их громче, голубое солнце в вышине поднялось еще выше; среди пылинок, высвеченных солнечным зайчиком, порхает муха.
– Стариться нелегко, – сказал я. – Гомес старится не лучшим образом.
Сабино вешает трубку, я вешаю трубку, – а что делать теперь? Муха села мне на тыльную сторону руки, я стряхнул ее. Но она не отстает, как и свойственно мухам. Не гоню ее, разглядываю. Как тянет меня в деревню; утро, я еще в постели, на дворе лето. Вот вырву нитку из покрывала и привяжу к мушиной лапке, и пусть летает, как мне вздумается. Но я ничего такого не делаю, просто смотрю. А то пойти в сад, посадить ее в паутину на стене, и паук тут как тут, выполз взбудораженный из своего тайника, проворный, ловкий, и муха попалась, запуталась в сетях, и он уже тащит ее к себе в кладовую. Но я ничего такого не делаю. Муха – тварь активная, упорная, беспокойная от избытка живучести. Крохотная головка, лапки – ниточки, ползает короткими рывками. Две светящиеся крапинки, глаза – точно рефлекторы. И части тела словно нанизаны на ниточку, как бусинки. И каждая часть этой крохотной твари состоит из еще более крохотных частей, а те – из других. Легонько шевелю рукой, муха взлетает вверх, чуть уловимо взвихрив воздух, и снова садится. Теперь она потирает передние лапки, упираясь задними, она довольна, добилась своего. Потом расправляет крылышки. И снова в полет. Но когда она пролетала над нашим столом, Элия проворно хлоп в ладоши, и мухе конец. Элия довольна, глаза блеснули, они обведены черным, и от этого взгляд еще живее, он дрожа скользит по мне, завораживающе заговорщический. Я от него в замешательстве, но улыбаюсь, Элена тоже улыбается, но натянуто, словно ей все ясно, но она решила ничему не придавать значения.
– Я тоже терпеть не могу мух, – сказала она.
О, как прелестна была ты во время прогулок по полям или у себя в доме над рекой, и с каким волнением вживался я в эту прелесть – такую живую. И как мерзко: в деревне были тучи мух, ты убивала их пригоршнями, в конце концов твои ладони приобретали неприятный запах. Но все приобретает неприятный запах, если множится в повторении, потому что это запах, оставляемый всем, что износилось. Погоди: всем, что износилось? Но в действительности изнашиваются не вещи, они так и остаются вещами, изнашивается наш способ глядеть на них. Или их способ подставлять себя нашему взгляду. Как бы то ни было, мне следовало сказать Сабино, что Гомес… Да наплевать мне и на Гомеса, на все наплевать. Как наплевать змее – классический образ, но у меня нет под рукой другого – на старую кожу, из которой она выползла, оставив ее позади. Я все оставил позади, мне говорят, что это все и есть я, но странно, со всем этим у меня нет ничего общего. Требуют, чтобы я объяснил, что я хотел сказать в такой-то и такой-то книге, и я все объясняю, но со всем этим у меня нет ничего общего. Точь-в-точь как тогда, когда меня спрашивают, помню ли я тот случай в детстве или позже, когда я уже стал юношей, и я говорю, да, помню, и улыбаюсь, и из деликатности соглашаюсь поддерживать видимость приятельских отношений с теми, кто задал вопрос, ибо когда-то мы были в приятельских отношениях. И то же самое с окурками. Я курю, грешен, еще курю, но окурки выбрасываю. В молодости, когда я сидел без денег, я приберегал окурки для самокруток – теперь я люблю новые сигареты, фабричные, я свободен, принадлежу сам себе в своей ненужности. То, чем я был, – мертвый образ того, чем я перестал быть, даже если это живой образ того, чем я еще являюсь в глазах других. А потому я со всей терпимостью и учтивостью слушаю то, что обо мне говорят, и все это – уже не будучи моим – в такой же степени мое, как волчок, которым я играл. Я оставил позади все одежки, в которые рядилось мое тщеславие, и существенны для моей элегантности были только щетки, которыми я эти одежки чистил, да взгляды в зеркало, проверявшие, хорошо ли они сидят. Сейчас я наг в одежде, на которую даже не смотрю и которая нужна мне лишь для того, чтобы прикрыть наготу. А всю философию – побоку. Звуки флейты по-прежнему качаются над тонким контуром холмов, в открытом пространстве моего удушья. И горечь наваливается на меня, давит, я вжимаюсь в себя, становлюсь маленьким-маленьким. И таким одиноким. Музыка – это зов, жарко врывающийся в мою усталость, заблуждение и истина – все спуталось. Словно в хаосе, предшествующем рождению всего сущего. Словно в хаосе, наступившем после смерти всего сущего.
IX
Итак, я возвращаюсь к себе на родину, возвращаюсь в деревню. О да, уже пора. Перед мостом сбавляю скорость, сворачиваю налево. Сбавляю скорость из-за крутизны поворота, и не только, еще из-за глубокой мелодии, доносящейся с пластинки и погружающей меня в неисцелимую усталь. Называется «Рассвет». И так хочется сказать себе все и со всей горечью – но никак нельзя. Самое большее, можно плакать, но безмолвно и при закрытых дверях. Когда же дверь откроет посторонний, нужно держаться, как следует, в знак уважения к другим людям, которые тоже не выставляют напоказ свое горе. Плакать в их присутствии – значит заслужить дурную репутацию, позорящую мужественное племя, к коему принадлежат и эти самые «другие». А им не по вкусу подобные вещи. Ночь ширится, она неотвратима. Небо надо мною быстро темнеет, осень совсем его измаяла. И я не могу больше, не могу. Ночь налетает на меня, я ощущаю ее кожей, обволакивает меня со всех сторон. А с ней одиночество еще глубже. Я ждал наступления ночи, знаю. И все-таки ошеломлен – что во мне еще сопротивлялось? Расстояние отделяет не только меня самого от предметов, но меня самого от меня самого. Хоть бы намек на мысль, надежность, пристанище. Исчезли, испарились. Разве что заплакать, но нельзя, уже установлено. Внезапный ужас, страшно, как в детстве. Разве что… Нельзя, уже решено. Медленно еду по мостовой, улица поднимается вверх, наклон невелик. И не спеша озираю свое царство, открываю заново. Вернуться к истокам? Замкнуть круг, cursum peregi[33]33
Путь я прошел (лат.).
[Закрыть]. И в самом деле, сама жизнь вытолкнула меня. Вернуться с чистым взглядом, отрешившись от всех иллюзий. Если бы ты еще мог учиться, но школа закрыта. Наверное, и сам мозг уже как камень. Медленно еду, дома чинно выстроились в ряд вдоль пустынной улицы, моя машина обдает их грохотом, некоторые окна уже светятся. Вернись к своим мертвецам. Уже пора. Ты словно меж гробниц утраченной цивилизации. Но никто не ждет тебя, никто, о ты, сколько времени прошло с тех пор, как ты умер? И умер на чужбине. Ибо царство твое здесь. Кто-то, заслышав гул мотора, открыл окно. Века выставили вдоль дороги свои черные фасады, стоят призраками. Проезжаю между безмолвными домами, запечатанными мраком, оставляя их позади. Грозящие исподволь, угрюмые – сколько времени вы ждете меня? И вот я здесь. В ожидании кары, назначенной тысячелетия назад мне, изгою. Вероотступнику, который ошибся дверью, – как ты мог ошибиться? – попал не в свою жизнь. И еще пожелал разгадать ее, описать мелким почерком, непохожим на корявые буквы, выведенные неумелой рукой здешнего жителя. Вероотступнику, который пожелал избыть свое бытие в самых сложных формах бытия, а не в той единственной, простейшей, которая лишь в том и заключается, чтобы быть. Вот я здесь. Навсегда.
Добравшись до конца улицы, съезжаю по склону, поворачиваю направо, здесь мой дом. Он стоит за высокой стеной с чугунными воротами. Затем надо подняться по каменной лестнице. Это старый дом, дата постройки высечена около двери в назидание будущему. Сейчас будущее – это я. Три женщины в черном стоят на ступеньках одна над другой, прислонившись к стене. Говорю им:
– Добрый вечер.
Ни слова в ответ, продолжают молитву. Дверь открыта, и вдоль коридора, по обеим его сторонам, тоже стоят женщины в трауре, тоже молятся. Молятся вслух, повинуясь кому-то, кто там, в глубине.
– Это ты, Жулио? – спрашивает меня мать из гостиной в конце коридора.
– Да, это я, – говорю в ответ.
Ставлю чемодан в прихожей, прохожу между молящимися женщинами. В гостиной тоже женщины, пристроились на полу. Четыре большие свечи горят, а посередине, на скамье, гроб; крышка поднята, в гробу моя мать. Она безмятежна, не тронута тлением, но жизнь иссякла до капли. Мгновение смотрю на нее, поправляю мантилью, немного сползла. Смотрю снова – теперь хорошо.
– Почему ты приехал только сейчас? – спрашивает она.
– Я выехал, как только получил телеграмму.
– И приехал один. Эмилинья не приехала. И жена твоя тоже.
– Эмилинья, – говорю я в телефонную трубку, – твоя бабушка при смерти.
– Не говори мне, что у меня была бабушка. Разве еще существуют бабушки?
– Она при смерти. Я подумал, что должен тебе сказать.
– Вот и сказал.
– Я приехал один, – сказал я матери. – Они обе не смогли.
– А когда ты вернешься? – спросила она.
– Никогда.
Я сказал это вслух? Женщины вздрагивают в своих гнездах из тьмы, подымают медленно бледные лики. Никогда. Звонят погребальные колокола, звонят у меня в душе, вознося голоса свои к ночи, надвигающейся на мир. Я медлю возле гроба, жду, что мать скажет еще хоть слово. Но она молчит. И тогда одна из женщин снова заводит молитву. Молитва растекается по коридору до самой улицы, приводя в действие механизм, заставляющий молиться всех других женщин. Я выхожу, потому что я атеист. Но едва я оказался в коридоре:
– Жулио!
Отец зовет меня из соседней комнаты. Это столовая, в промежутках между трапезами она служит гостиной. Там в кресле-качалке мой отец, он порядком отяжелел, не столько из-за тучности, хоть он не из худых, сколько из-за того, что ему трудно двигаться; мой отец. У него плохо с дыханием, врач уже установил причину – нарушение работы сердца, от этого он и умер восемь лет назад. Я сажусь рядом с ним, поговорим, как мужчина с мужчиной. На полке буфета лежат рядами персики, сильный запах – запах домашнего уюта, вековой надежности дома. За окнами с поднимающимися рамами – мрак сада. На мгновение перевожу взгляд туда; тревожное предощущение чего-то неясного, словно присутствие чего-то, что умерло. В глубине в смутном пятне света – стена, скамьи под яблонями. Мы сиживали там в летние сумерки, прислушиваясь к протекающей внизу реке и растворяясь в небытии ее журчанья. Медленно опускается ночь, ветерок восстанавливает дыханье земли, вот-вот выйдет луна, дабы тайна стала доступна взору. Сквозь оконное стекло – туда, посижу там немного, в многоголосом молчании сущего, в непредвиденной реальности того, что лишено смысла, в покое небытия. И при этом я чуть было не забыл про отца, неподвижного в своем кресле-качалке, но я так утомлен. Достаю сигареты, протягиваю ему, он поднимает ладонь в воздух, отказываясь. В отчуждении, в безмолвии мы ведем долгую беседу о бренности жизни и всего того, что мы придумали в ней – и мыслей, и надежности, и утреннего безмятежного солнца, и цветов в саду в ту пору, когда цветут цветы, и всего, что было таким маленьким, а теперь, в воспоминании, такое большое; а в это время неспешная ночь под укачивающие молитвы женщин в коридоре опускается на мир, захлестывает нас, словно вода – утопленника. И наши голоса во мраке, и сколько всего пытается обрести реальность с их помощью, но словно во мгле; обрести реальность собственной пустоты. Мы говорим о брате и сестре, они оба далеко, брат – сам не знаю где, сестра – в Бразилии, на похороны они не приехали. Говорим о лавке, мать уступила ее другому владельцу, о землях, она сдала их в аренду – кто арендовал? Она уступила почти даром, чтобы земля по крайней мере не позабыла о том, что ее долг – производить; и еще говорим о дороговизне жизни, эта тема всегда годится, когда нужно излить жалобы; и еще говорим о… Затем мы оба умолкаем. Нам хорошо здесь. По крайней мере, мне хорошо, как никогда, просто оттого, что я здесь. Встаю, иду к себе в комнату разобрать вещи, прохожу по коридору, заполненному черной мглой молитв. Вхожу в комнату, там моя кузина Лусинда, зачерствелая добродетель сорокалетней давности. Обливаясь отчаянными слезами, бросается мне в объятия, и меня внезапно охватывает волнение. Но мое волнение приводит в действие какие-то механизмы ниже пояса, а я думать не думал, что они функционируют. Она прижималась мокрой щекой к моей щеке, и тело ее содрогалось от плача. Мое тоже, хотя и не от плача. Затем вполне естественно содрогания приняли другой характер, причиной тому – скорбь и отчаяние, другого объяснения быть не может. После этого мы немного успокоились. Она еще поплакала, выплакала остатки предыдущих слез. Я закурил сигарету. А может, ничего такого не было, и сигареты я не закуривал, и Лусинда не приходила, а просто я остался наедине с ночью.
На следующий день были похороны. Но я не пошел. Сегодня не пошел. Но, может, еще вернусь туда и пойду.
X
Вдруг я ощутил, как гнетет меня безлюдность квартиры, и вечерняя духота тоже, она действует на меня угнетающе, а музыка звучит с начала, но как будто в первый раз – о, господи. Если бы я мог погрустить над тайной, скрытой во мне, сам не знаю, где именно. Она шевелится где-то внутри, живое волоконце, чем-то похожее на солнечный луч. Он прочерчивает наискось книжные полки, подбирается к политикам, зажигает взгляд моей жены. И тоска становится глубже, все попытки придать смысл существованию мгновенно распадаются в прах. Тогда я встаю, хотя сижу, как сидел, все происходит в воображении. Или в памяти. Вещи доведены до чистоты своей истинной сути. Обхожу всю квартиру, вся мебель мирно стоит на своем месте, диваны, картины в гостиной, ваза рубинового стекла, кажется, из Мурано[34]34
Мурано – городок близ Венеции; славится своими изделиями из стекла.
[Закрыть], отдернутые шторы, пропускающие свет – достояние общественное – в наши сугубо личные владения, и все это ждет одного – своей всегдашней будничности. Затем вхожу в комнату дочери. Останавливаюсь у двери, сегодня день ее свадьбы. Церемония завершилась, мы пошли отпраздновать ее в английскую кондитерскую. Я вернулся домой один, Элена задержалась в городе. Открыл двери – в квартире тишина, ощутимое присутствие смерти – не такое, как от вида сломанных, искореженных предметов, тогда присутствие смерти естественно, она следствие некой мировой катастрофы, – но такое, как бывает, когда все предметы живут своей жизнью, стоят на своем месте, но напоминают о том, кто никогда больше не вернется. Останавливаюсь у двери, смотрю. В то время как музыка ведет рассказ о моей боли, а сумерки опускают свой купол на пустоту. Густой поток машин на проспекте – словно в панике. Я совсем один. Комната узенькая, тахта в углу, на стенах афиши, на этажерке, как всегда, книги. На другой этажерке, подвесной, несколько игрушек, среди них, словно талисман, – огромная кукла. И сразу ком в горле. Сажусь на тахту, глаза заволокло нежностью, все кончено, это очевидно. И сразу во мне иссяк запас жизни. Что мне делать? Зажигаю сигарету, поднимаю бокал виски. Может, снова принять душ? Тревога отхлынет под напором холодной воды. Не голос ли смерти звучит, прислушайся – что тебе делать? Элена не идет, медленно обвожу взглядом комнату; я в комнате у дочери. И такое ощущение, будто здесь сама Милинья со своим радостным презрением к жизни, которой нет конца. Сижу на тахте. Перебираю воспоминания, мы с ней давно уже ничего не знаем друг о друге. Когда-то я вел ее за руку, она высвободилась и убежала вперед. Но здесь у нее было жилье, она всегда сюда возвращалась, даже если приходила только утром. Я знал, что она здесь, и любил ее на расстоянии, хотя на этом расстоянии мы уже не слышали голосов друг друга. Как-то ночью я услышал, что Элена ворочается в постели, а у нее сон был нерушимый, в гармонии с совершенством ее тела; что с тобой?
– Спи, – сказала она мне.
Она там, на портрете, взгляд лучится радостью моря, но ты так постарела, что с тобой?
– Постарайся уснуть.
– Тебе нездоровится?
– Нет. Мне не спится, а ты спи, уже поздно.
Хлопнула меня ладонью по ноге – успокойся. Только на следующий день я узнал, в чем дело. Сижу на диване, на этом же самом. Элена рядом, в руках вязанье. Но я видел, что руки и мысли заняты у нее разным. А что, если спросить: «Ты озабочена, в чем дело?» – но не спросил. Элена всегда была высокомерна, ответить мне – значило уступить. Нужно было выждать, пока она сама не вытерпит, или двинуться в том направлении, на котором у нее не было сторожевых постов. Шел дождь, и я сказал:
– Дождь.
Она все вязала. Шел дождь, и я сказал:
– Хорошо слушать шум дождя.
Здесь, на такой высоте, он был еле слышен, только проволока для сушки белья, натянутая снаружи и закрепленная на двух железных крюках, звенела под струйками, точно струна арфы, на которой дождь импровизировал для нас вариации на темы одиночества. Но в тот момент Элена, беспокойная от избытка энергии, еще не сознавала, что она смертная. А я уже сознавал. И тогда в приступе раздражения она наговорила мне неприятных вещей, полномочная представительница жизни, аттестовавшая меня мертвецом в еще большей степени, чем, по справедливости, я был. И я слушал.
– Что хорошего в дожде? Я люблю солнце.
Я вижу тебя на фотографии, ты ликующе подалась вперед, возникшая из волн.
– Копаешься всю жизнь в одних только ненормальностях, вечно занят собой, ничего вокруг не видишь. Человек может умереть у тебя под боком, ты и не заметишь.
Я молчу, что еще остается.
– Любая женщина могла бы наставить тебе рога у тебя на глазах, ты и не заметил бы.
Но это неправда. Взять хоть историю с Максимо Валенте, я все прекрасно видел. Погоди. Здесь уже был намек. Но я не знал, на что именно.
– Но чего, собственно, я не замечаю?
– Что происходит с твоей дочерью? Тебя это когда-нибудь интересовало?
– А что с ней происходит?
И она сказала. Итак, настал момент, когда я должен быть отцом в настоящем смысле слова. Можно быть отцом в отчужденности, в параллелизме существования, во взаимообращенном расположении листьев так же, как в общности корней – моей жене это непонятно. Для нее ты – отец, ты – муж. Либо просто друг. В подсознательном, в невысказываемом – тут она не разбирается. Придумывать любовные игры заново, да еще с собственной женой – смешно. Придумывать поведение, слова – крайность. Придумывать систему образов – невозможно. Все сказано, выдумано, сделано. Разве за исключением того, что повторяется изо дня в день, из недели в неделю. Да и в каждодневном, в еженедельном – тоже.
– Раньше ты умел говорить красивые вещи.
Но вообрази себе, что я сказал бы тебе их сейчас. И говорил бы о твоих губах, глазах. Это было бы нелепо, я ведь даже не умею глядеть в них – так, как глядят в женские глаза, проникая в самую их глубь, пока не доглядишься до чего-то другого. Но попытаюсь быть отцом – таким, как в книгах, в которых все не так, как в жизни. Милинья у себя в комнате. Стучу в дверь, она говорит:
– Войди.
И я закрываю за собою дверь. Она сидит за письменным столиком, занимается, проигрыватель гремит вовсю, и я спрашиваю:
– Ты не могла бы немного убавить громкость?
Она убавляет, подняв плечи и брови на высоту своего долготерпения. Тогда я говорю, что удивлен, но она отвечает:
– Ты уже тысячу раз говорил, что удивлен.
Я удивлен, что молодежь столь туга на ухо, вечно музыка на всю громкость! А она объясняет мне снова, что только так слышно, как следует, они слушают музыку не для того, чтобы спать.
– Мы слушаем музыку не для того, чтобы спать.
Я сажусь на тахту, она сидит на стуле, она выше меня.
– Ну, говори.
И я пытаюсь сказать. Я тысячу раз продумывал. Это стало навязчивой манией, тиком, издергало меня, перевернуло: оскорбление, на которое я не сумел ответить, а теперь умею, слово, которого я не нашел вовремя, простое слово Элии, все это я перемешиваю внутри себя, пересказываю, переживаю; тысячу раз я продумывал, как начать. Но никогда не придумать, при каких обстоятельствах придется начинать. Например, что Милинья встанет со стула, подойдет к окну:
– Какой дождь, правда? Так говори же.
И по-прежнему стоит ко мне спиной.
– Твоя мама мне рассказала, что…
– Что тебе рассказала мать?
По-прежнему стоит ко мне спиной.
– Милинья! – говорю я тоном отца, принимающего себя всерьез. – Сядь, пожалуйста!
Она наконец села. Тогда я начал.
Даже когда эта музыка звучит приглушенно, в ее ритмах то исступление, когда осталось лишь одно желание – мгновенного конца. И голос певца, надтреснутый, вот-вот сорвется – я начал.
– Я узнал от твоей матери, что…
– Ты узнал от матери, что я сплю с парнями.
– Я хотел услышать это от тебя.
– Уже услышал.
– Хотел узнать, в какой степени ты сознаешь, что делаешь.
– Мне смешно. Смешно от этого слова «сознаешь», от этой мании всему искать обоснования. Давай поиграем в «обоснование». Ты спрашиваешь меня, почему я это делаю. Но сначала я тебя спрошу: почему я не должна это делать?
Моя дочь. Уже выросла. Выше меня, даже когда мы оба стоим. Дождь. Его струи шевелят проволоку для сушки белья, как струну арфы. Почему ты не должна была это делать? Пью, чтобы найти ответ. Какой душный вечер! Почему не должна? Закуриваю еще сигарету, может, сначала принять душ? От холодной воды мысли обретут четкость, сжатость – почему бы и нет? Я не буду говорить с тобой ни о боге, ни о правилах нравственности. И все-таки. Даже в отказе от правил должны быть свои правила, какие правила у тебя?
– Могу тебе сказать.
– Не хочу слушать, – сказал я.
– Могу сказать.
Не хочу. Говорю только одно: нужно бережно отмеривать наслаждение, не расходовать сразу, чтобы не приелось до оскомины. Нужно чередовать наслаждение с тем, что наслаждением не является: это условие его существования. Если бы мир был сплошь голубым, голубизны не существовало бы. Бережно отмеривать наслаждение; помню, когда ты была маленькой, ты объедалась конфетами до расстройства желудка. Моя дочь. И теплая волна нежности к тому, что никогда не существовало, к тому, что, по сути, всего лишь мое воспоминание о тебе. А может, существовало? Как нелепо: невинность, твоя доверчивость, моя удивительная готовность быть живым, чтобы оберегать тебя. Но все это было глупо.
– Все это примитивные софизмы. И как только ты, писатель, можешь? Все это ребячество. Представь себе, что я парень, а не девушка. Ты бы не стал прятать от меня конфеты. Но я не буду злоупотреблять аргументацией, мне тебя жаль.
Подчиненное положение женщины, отказ даже в праве на наслаждение – она все это знала, и глаза ее блестели. Она знала о произволе самца, о том, что он легко объясним, хотя бы его положением во время акта.
– Зачем ты наряжаешься? – спросил я. – И вы красите глаза, и все приукрашиваете, даже движения?
Она поколебалась, но недолго.
– Мы хотим, чтобы нас желали, и мужчины хотят того же и тоже красятся, только на свой лад.
Но проблема-то в другом. Твоя проблема в другом: свести жизнь к мгновению, к тому, что на поверхности. Быть всем во всем. Милинья. Кто научил тебя всему этому? Убивать время и не заглядывать в «глубины». Как яхта под парусами, кильватерная струя сразу пропадает – кто тебя научил?
– Да никто меня ничему не учил, и плевать мне на все книги, в том числе на твои, я уже давно их не читаю. Что мне осточертело, так это цепляние за прошлое и взгляд на будущее, как на вклад в банке. И осточертели разговоры: «того нельзя, этого нельзя» – неизвестно почему. И разговоры: «Не делай так, а то папа рассердится». И напускная серьезность с претензией на глубину. И когда не живут нормальной жизнью, оттого что думают о смерти. И осточертело, когда все в жизни подчиняется правилам: откладывать на черный день, экономить, осторожничать, жаться, скупиться даже на чувства, хранить фотографии, быть добродетельным, скряжничать над полным сундуком и отправиться в могилу, так и не узнав, для чего прожита жизнь, и осточертело все это дерьмо!
Я молчал, она овладела собой, сказала еще много чего. Например:
– Но как можешь ты это понять? Твои книги пахнут нафталином.
О, в этот миг мне стало больно. Не из-за запаха моих книг, но потому что… Я остался в полном одиночестве – что я создал? Что было для меня смыслом существования? Быть может, все, что было для меня загадкой, и надеждой, и отвращением, – только иллюзия? Быть может. Нарисовал человечка и сам же испугался? И сам же полюбил. В бесплодности пустыни, в слепящем блеске пустыни. Где-то я прочел: «принципы», «глубина», «я» – пережитки «теологии». Гладкая и холодная поверхность. И бог, стало быть, – по ту сторону всего сущего. А что же – по эту? Гладкая ледяная поверхность. Не воспринимающая человеческого тепла. Воздушный шар – и та пустота, в коей являл он свое величие. Вернуть его в ничто, ведь и выдуман он был из ничего. Смотрю на Милинью, она рассеянно закуривает сигарету.
А ты, любимая, где ты сейчас? Где мне увидеть тебя, узнать? Вобрать в одно «ничто» другое «ничто» – к которому все и сведется. Значит, бог – пробел меж бытием и бытием? Все, что нас разъединяет? Во мне столько пробелов. Я храню их, словно накопленное добро.
– Только мусор выметешь, а в доме снова его полно.
Мы все еще смотрим друг на друга, но не находим слов, чтобы обрести друг друга. Тогда я встал.
– Ну что ж, мне больше нечего тебе сказать.








