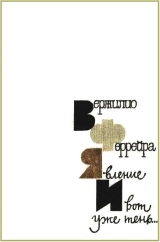
Текст книги "Явление. И вот уже тень…"
Автор книги: Вержилио Феррейра
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 23 страниц)
– Браво! Браво!
– Но высшие интересы нации и ограниченность наших ресурсов… При строгом соблюдении порядка и социального равновесия… Широта португальской души и любовь к бедности… В связи с особенностями эмоционального строя национального характера… законность законов и скудная почва… А потому мирный труд на ниве и устойчивость правительства, ибо нельзя не признать, что ограниченность наших ресурсов и скудость почвы… Отнюдь не посредством пустых обещаний, учитывая ограниченность наших ресурсов… У всех нас в памяти навек запечатлелось… и известно, что падение национального престижа на мировой арене, оскудение казны, полная неплатежеспособность и неустойчивость власти… Демагогические страсти, посягая на единство национального сознания и само существование общества… Вот почему путем подрыва политических и правительственных институтов… и к тому же присущий людям эгоизм, борьба политических партий и накал страстей… Наш родной край – земля смирения, и жизненный уровень нации скромен. Итак, начеку и наготове… правительство правит., ведущая роль элиты в правительстве… установления, которые призваны урегулировать… равным образом законопослушание… политика обеспечения устойчивости… политическая ответственность и законодательные органы… А потому мы никогда не согласимся… те, кто стремятся нарушить нормальный ход жизни и работы… борьба партий и уличные беспорядки, благодаря семье, которая является основой общественной структуры… национальное самосознание… установления, которые призваны урегулировать законность законов… преданно служим общему делу… порядок и социальное равновесие… ответственность, возложенная на органы управления и устойчивость правительства… государство несет ответственность за… управлять страной в соответствии с высшей волей нации… политический долг, а также неумолимые требования, предъявляемые историей…
– Правильно!
– И скудость почвы.
Все черные пиджаки встали, как один, в рассеянном свете зала желтыми факелами полыхнули лысины. Дружным хором они скандировали «да здравствует», пергаментные свитки поднимались и опускались, словно во время гимнастических упражнений. Я отступил к двери, еще раз окинул быстрым взглядом ярусы, тебя не было. В одном углу сидел тучный старик в черном, седая голова свисала на грудь. В вестибюле какие-то мерзкие типы с колючими глазками обшарили меня взглядом, я потихоньку ретировался, не теряя спокойствия. Вся улица была забита длинными черными автомашинами, никелированные поверхности поблескивали в свете фонарей.
И тут я подумал: «Да она же на собрании у тех, других, как мне раньше не пришло в голову?» Собрание тех тоже проводилось поблизости, словно специально для того, чтобы, не тратя времени, провести сравнение, так обычно делается на ярмарках: взгляд туда, взгляд сюда, и сразу можно оценить и качество и стоимость. Видеть тебя, видеть тебя. А потом мы поехали бы в кафе, сидя в коробочке машины, видели бы реку, видели бы ночь, и наши два пространства, твое пространство и мое, взаимно пересекались бы. Сколько метров насчитывает пространство одного человека? Метр либо полтора; быть на расстоянии полуметра от тебя – все равно что видеть тебя в твоей комнате. Да, я начал про то собрание – оно было в помещении гаража, какова власть воображения. Да, там оно и проводилось. Но меня пока туда не тянет. Подхожу к лоджии, внизу расстилается ковер газона, мальчишки уже разошлись. Звучит пластинка, сейчас музыка начнется сначала. Это та самая часть, где мир уже мертв, а все катастрофы и победы придавлены к земле тьмой ночи, которая вот-вот кончится, и они равнозначны друг другу тем, что были и минули, и что-то вторглось в сон, что-то растворилось в остывшем поту, и что-то осталось, замерло, чтобы продолжить свое бытие в боли, не выболевшей до конца, в надежде, еще уцелевшей в людях, дабы они оставались людьми; это та самая часть, где слышится голос провозвестника, величественный, словно у знатного господина, непререкаемо властный, приемлющий в лоно свое все разочарования, что доставили нам другие господа, и сила надежды в этом, не в попытке упрочить ее, но в поисках кого-то, и искать легко, ибо самое сладостное – верить, мы верим во чреве матери; это тот час, когда раскаленный докрасна голос провозвестника-громовержца возглашает появление солнца в далекой дали горизонта – о, господи. Все кажется мне таким тщетным. Таким смешным. В звуки музыки вплетаются знамения чуда, но чуда не происходит – когда все состарилось, чему еще стариться? Жду, перехожу из одной пустой комнаты в другую, вот комната Милиньи. Однажды у нас с ней был трудный разговор. И как-то сразу: она – уже не она, а просто женщина, и все-таки она – моя дочь. Внезапное превращение в женщину – как разобраться во всем этом? Да, меня отталкивало это женское начало, которым она от меня отгораживалась, но у меня было такое чувство, словно от нее ко мне передавалось какое-то смутное наслаждение, и я испытывал радость оттого, что тело моей дочери его познало. И какую-то гордость за земную пленительность этого тела, неясную благодарность к тем, кто сделал ее женщиной. Но во всем этом мне трудно разобраться, в комнате я один, но она переполнена людьми. Открываю окно, впуская яркий до головокружения свет. Вечер нисходит на опустелое оцепенение эспланады в кружении солнечных бликов, и звуков шагов, и голосов прохожих – не пойти ли мне туда ненадолго? На эспланаду? Иду. Сажусь на стул, он железный, выкрашен в красный цвет. Дать себе волю, расслабиться – а вокруг меня порхает радость лета, легкий ветерок укачивает меня, пустопорожняя звучность радости лета. Мне нужно столько обдумать, столько выстрадать – но не сейчас. Броская радость в красной краске, которой выкрашены столы и стулья; в нашей внутренней живости; в самом слове «эспланада» с его свободной обращенностью к бесконечности – как появился здесь этот человек? Появился слепой с поводырем и с аккордеоном, я заметил его только тогда, когда он заиграл. Музыка возносится вверх в столбике солнечного света, растекается в струях ветерка. И странное в своей полноте сострадание, оно вызвано музыкой, преображающей слепого, или тем, что сам я становлюсь слепым, когда воображаю себя на его месте, и обретаю зрение, когда возвращаюсь к себе самому – в воздухе смутная грусть. Солнце играет на никелированных частях аккордеона, слепой притулился в тени у столба. И печальная музыка в безбрежности летнего вечера, в отчаянной гонке машин – словно птицы захлопали крыльями перед полетом. Радости мелодии предшествует какая-то другая радость, так всегда бывает в музыке. И радость эта печальна, ибо она далеко. Я медлю в самозабвении нежности, слепой играет на аккордеоне, но мне пора идти. Внезапно образ твой становится ближе, увидеть бы тебя – а может, ты там?
Место собрания – то ли гараж, то ли склад, низкий оцинкованный потолок на стальных нервюрах. Самое высокое место – помост со столом для президиума, к помосту ведут ступеньки. Перед помостом стояли люди в спецовках, они излучали силу и самоочевидность логики. Я вошел, передо мной был квадрат – правильный, непробиваемый. Я заметил, что они стоят рука об руку, как на плакате, призывающем объединиться в кооператив. Затем из гущи выделился оратор, чьи-то руки расплелись, пропуская его, и сразу переплелись вновь, цепкие, как клешни. Я постоял минуту, приятное чувство – видеть на близком расстоянии Историю в движении, мое место – на свалке, среди старого хлама. И тут, скорее всего, потому что я как завороженный смотрел на квадратный панцирь – ни дать ни взять testudo[35]35
Черепаха (лат.): боевой порядок для атаки, при котором воины, держа щиты над головой, образуют защитный навес.
[Закрыть], я, когда зубрил латынь, вгрызался в «De bello gallico»[36]36
«Записки о Галльской войне» (лат.).
[Закрыть], и не зря Элия подсунула мне четырех слепых, чтобы я обучал их латыни, – так вот, два парня повернулись лицом к двери, оглядели меня, руки скрещены на мощной груди, но готовы к действию: а что, если я провокатор? Но в этот момент оратор подошел к трибуне, с которой должен был выразить коллективное сознание, поднял кулак, крикнул «ура!». И в едином порыве лес рук взлетел над толпой, тысячи кулаков мелькнули в воздухе. Я тоже поднял вверх руку, крикнул:
– Ура!
Вот так. До пинков не дошло, широкогрудые парни с блестящими глазами обменялись взглядами, словно совещаясь, – нет, я не провокатор. Сверху нас пронизывало стальным светом солнце будущего. Оно сияло с такой высоты, это солнце будущего. И снова толпа слилась в единый квадрат, люди взялись за руки – а я так хотел видеть тебя. Но они слились в плотную массу, без единого просвета – а ты так нужна мне. Я привстал на цыпочки, но История была слишком высокого роста. Оратор уже начал речь, я стал искать, как бы протиснуться украдкой, может, где-нибудь сбоку найдется щель для меня, еретика; я протискивался исподволь. Оратор стоял во весь рост, все стояли во весь рост, кроме тех, кто сидел за столом президиума на помосте. Он говорил:
– Лакеи империализма на службе у сил реакции и концентрация монополистического капитала, которая…
Этажом выше снова принялся стучать чертов каменщик, как тут расслышишь?
– …насущную задачу. Вульгарные толкователи марксизма недооценивают классовую борьбу и братские узы, связывающие трудящихся. Классовым выражением господствующей идеологии… Разоблачать тактику оппортунистов всех мастей… В период империализма, являющегося последней стадией капиталистического общества, революционное движение… Обобществить средства производства… Ибо силы реакции и классовые предрассудки… Использовать противоречия в лагере буржуазии…
А каменщик все стучит и стучит.
– …ошибочная и реакционная мысль. Чаяния революционно настроенных классов… Первоочередная задача…
– Борьба! Борьба!
– С другой стороны, мелкобуржуазный рационализм является гангреной, поражающей научную методологию. Конкретный и научный анализ исторических условий… И тогда победа пролетариата над гнетом буржуазии, силы которой подорваны внутренними противоречиями между производительными силами и производственными отношениями…
И каменщик притих – может, тоже прислушивается к голосу Истории? Да нет, вот снова застучал; наверное, позабыл о будущем, поглощенный уничтожением прошлого. Воспользовавшись взрывом энтузиазма, я начинаю тихонько пятиться, оратор говорил об освобождении рабочего класса и о внутренних противоречиях буржуазии. Уничтожение классовых привилегий… Все были «за». В глубине, у двери, прислонившись к стене, сидел человек. И все были против буржуазной идеологии. Человек этот был коренаст, волосы поседели от раздумий. Сидел, уронив голову на грудь, поблескивала металлическая оправа очков.
– Борьба! Борьба!
– …концентрация монополистического капитала…
Вот так.
– …и внутренние противоречия…
«Я ушла» – слова моей жены. Написанные красными чернилами.
XIV
Устав от чрезмерной дозы эмоций по поводу Истории, подхожу к лоджии. Сегодня у нас гости, придет Максимо Валенте, вхожу в лоджию. Поднимаю фрамугу, чтобы выгнать за окно табачный дым, подышать немного вечерним ветерком. Дышу им, а в воздухе шум задыхающегося от зноя города, снизу доносится шелест листвы черных тополей. Там внизу зелень газона, кажущегося сверху таким геометрическим; мальчишки с мячом исчезли; пустое пространство в медленно испаряющемся вечере, пересеченное по диагонали двумя тропинками, выложенными каменной плиткой. Мне грустно. Проходит молодая женщина, катя перед собою детскую коляску, проходит, крохотная, по опустевшему парку. Отчего мне грустно? Около меня проигрыватель, и снова звучит музыка, возвещающая восход. Но нет горизонта, нет холмов, своей магией придающих ему бесконечность. Мне грустно без причины, и это единственная причина, от которой действительно грустно. Элена ушла, где Элия? Но, может, все это происходит потому, что мне грустно? А если бы не происходило, мне было бы грустно по-другому; четверо мальчишек на велосипедах въезжают в парк. Может быть, хоть музыка… Да нет. Теперь я слышу только материальную сторону звуков. Словно заранее известный трюк, прием. Или словно уже слышанный анекдот. Пусть бы хоть музыка – чтобы уйти в нее, чтобы моей грусти было чем дышать. Но вокруг – лишь надвигающийся вечер, заполняющий всю ширь неба, куполом уходящий за его пределы, он суетится, заражает город легким безумием. Четыре велосипеда, миниатюрные колесницы, выписывают вензеля в четырех углах газона. Смотрю на них сверху, они такие маленькие там, внизу. Велосипеды симметрично выписывают торопливые круги, они – как крохотные детали невидимого механизма, катаются по газону, словно заводные игрушки по прилавку. Затем уезжают, каждый в свою сторону, площадка пустеет. Откуда-то из-за угла высовывается пес, бежит зигзагами сомневаясь, принюхиваясь. Иногда спохватывается, возвращается назад, чтобы принюхаться получше. Я было засмотрелся на него, потом забыл, смотрю в пустоту. И вдруг мягким толчком желание выброситься из окна – я закрываю фрамугу. Задергиваю штору. И снова жилье мое закрыто со всех сторон, а я – внутри, еще острее ощущающий одиночество, – что же мне делать? Растягиваюсь на полу, ничком, упершись локтями, поставив перед собой стакан с виски, надо бы сходить за льдом. Разваливаюсь на диване, голова упирается в спинку, ноги съезжают на пол. Луч солнца. Радужная стрелка, мельчайшая пыль вихрится теперь около кувшина рубинового стекла, возможно муранского, в кувшине красный цветок; вихрится над инкрустированной шкатулкой, стоящей на этажерке. Но в дверь постучали, пойти взглянуть.
– Есть полотенца, салфетки, скатерти, – не угодно ли?
– Жены нет дома.
– Вот моя визитная карточка, на всякий случай. С четырех до восьми. Я всегда…
И взгляд, старающийся все объяснить. Живой взгляд человека, который пока еще работает с удовольствием. В своей сфере деятельности, у меня – другая. А тело его придавлено тяжкой ношей. О, господи, беру его визитную карточку. Луч солнца тычется в красный кувшин, дай-ка посмотрю. Таинственное волхвование, дай-ка погляжу. Свет зажигает гладь стекла, тычется в выпяченное пузо кувшина, прорывает безмолвие гостиной. Кувшинчик маленький, низенький. И в доступном моему познанию пространстве – ореол преображения. Вглядываюсь в яркий луч, в искрящееся мельтешение, он словно потрескивает чуть-чуть, выборматывая свои тайны. Игра бликов усиливает блеск луча, и в мимолетном его присутствии мне слышится неясный голос. Красиво. И будоражит. Луч солнца в рубиновом стекле. Теперь он передвинулся к той полке, где люди искусства.
Но о людях искусства не будем – у меня нет настроения. И мы пригласили гостей, сколько можно глазеть на кувшинчик. Красивый кувшинчик. Снова смотрю на него, на алые отсветы вокруг, они – как робкое знаменье, возвещающее дальнее слово, смутное примирение. Ничего не выйдет, Элена трудилась весь день, пекла пирожки, она так любит хорошо принять гостей. И мне приходится выскакивать на улицу – за кофе, тот, что по семьдесят эскудо, и пусть смелют в моем присутствии, и еще за особыми хлебцами в булочную на углу; да, придется выскочить. Когда возвращаюсь, она все еще в кухне, повязана передником, волосы зачесаны кверху. Все еще хороша, тело помнит свою хрупкую красоту – но ты так постарела.
– Почему бы Милинье не помочь тебе?
– Ты сошел с ума! У девочки своя жизнь, не бросать же ей дом. И маленький болеет.
– Милинья! – кричу я из коридора в ее дверь.
– Можешь войти, – отвечает Милинья.
– Ты могла бы помочь матери.
– Какие зануды явятся сегодня?
– Озорио, Максимо Валенте, Сабино, Жоан Непомусено Диас да Крус…
– Как ты можешь терпеть этих типов? Но тебя самого трудно вынести. Скажи матери, у меня дела.
Медлю еще немного в пустой комнате. Как-то раз у нас был здесь трудный разговор. Пустая комната. На минуту сажусь на тахту.
В половине десятого гости начали сходиться, вечер был дождливый. Слышу песенку, которую дождь вызванивает за окном на проволоке для белья. Звонок; наверное, это Жоан Непомусено Диас да Крус, он обычно приходит рано. Нет, не он. Хозяин молочной лавки со счетом, как ты могла уйти, не приведя в порядок счетов? И я не знаю, все ли правильно, хозяин молочной всегда приписывает лишку, ты сама говорила, если не посмотришь внимательно. Плачу не проверяя, снова ложусь на диван. И снова жарко, лоб в поту, – может, поехать в деревню выкупаться? Ореховое дерево в саду, оно старое, растет у самой ограды. Растопырило длинные ветви в темной листве, а внизу текут ледяные воды – но никак не выйдет. У нас сегодня званый вечер, идет дождь. Ветер налетает порывами, хлещет по стеклам.
– Может, не придут, – говорю я Элене.
Мне так не хочется, чтобы пришли.
– В такую-то погоду, – говорю я еще. – Того и гляди, наводнение начнется.
Но она бросает на меня гневный взгляд, отрывается на минуту от своего занятия – расставляла бутылки на подносе.
– Все тебя раздражает, ни на что у тебя не хватает терпения.
Как будто я виноват, что бывают на свете наводнения. Но я у нее всегда во всем виноват: не закрываешь двери, оставляешь в раковине щетину после бритья, сыплешь крошки на пол, не вытираешь ноги, писаешь мимо унитаза. Я так люблю свою жену. Где ты? Так трудно быть одному…
…по крайней мере, мгновение полноты моего «я», mon amour, мое отчаяние, мой вымысел, столь истинный в связности голубизны, это пустынный пляж.
…быть одному. Но тут является Максимо Валенте, дабы составить мне общество. Входит – ладный, без плаща, в свитере с высоким горлом, вьющиеся волосы ниспадают на плечи. Они мокры от дождя. Элена огорчилась. Но не знала, как выразить свое огорчение. Начала что-то говорить. Например:
– Может быть, дать вам фен?
Он рассмеялся – мужским понимающим смехом. Предпочел рюмку водки. И ты чуть-чуть покраснела. Я видел. Легкие красные пятна на твоей белой, как у всех блондинок, шее – но ты так постарела.
И вот ищу тебя снова в вечности своего существа, в абсолютности красоты, живущей во мне вопреки всему поддельному и позорящему, что унижает мое тело. На мгновение мне видятся, словно в скоплении облаков, точные очертания парусника, скользящего по голубой глади, пена, словно лепестки, слетающие с цветка, дорога – с реальностью ее горизонтов – на одно мгновенье. Скоро распад, мое нескладное тело. Я уже сутулюсь. Немного. В вечной юности моего крика – над песками кричу тебе, что я существую на свете. Ты в отдаленье такая крохотная, мое божество, моя заноза. Моя непристойность.
И когда я говорил это, меня услышала Милинья. Подошла ко мне, очень высокая, стройная, поигрывая зажатой в пальцах сигаретой. У нее такие глаза, какие бывают только тогда, когда она хочет выразить насмешливое сострадание. Широко раскрытые, исполненные самовластья молодости. Она красива, моя дочь. И я никогда не знал, как с ней говорить. И Элия красива. И такая цельная в своей завершенности, а я такой дробный из-за этого лишку в тридцать лет. Но ужасно то, что та часть меня, которая неподвластна смерти, хранит цельность. Говорить сквозь стену разницы в тридцать лет.
– Стол или стул стар оттого, что давно сделан, – так сказала Элия.
И я это знаю. Человек – это система, в которой упорядочено все, что его сформировало. Как в музыкальном произведении. Или как в произведении живописи. В нем есть только то, что в нем есть. Или нужно все переделать заново; но в материнскую утробу не вернуться. Ты многого недоучил. Но теперь в школу не вернуться.
– Ты тоже состаришься, – говорю я Милинье.
Но она смеется. Не верит. Смотрит на меня, колеблясь, в ее полуулыбке и серьезность, и любопытство.
– Педриньо выбросит все книги, которые ты собрала.
– Нет у меня книг.
– Перебьет все твои пластинки, выкинет в помойку все, что ты для него хранила.
– А я ничего не храню. С какой стати!
– И ты спросишь себя: что делать, чтобы он принял мою правду?
– Слушай.
Она села подле меня. Я уже сидел. Она собиралась открыть мне правду жизни – ту, которой не было у меня в библиотеке, я ее не купил. Моя дочь.
– Слушай: старость – проблема только для тех, кто верит в бессмертие. Тот, кто по-настоящему не верит в него, кончает самоубийством. Когда-нибудь самоубийство станет обязательным, как налоги. Ты знаешь, что у эскимосов… И у некоторых древних народов, Геродот dixit[37]37
Сказал (лат).
[Закрыть]. А я ведь действительно не верю в бессмертие. Стало быть, никогда не состарюсь.
Но я не успел ответить, пришли гости.
Сняли мокрые плащи, все были наготове, полны энергии, интеллектуально раскованы. Элена проворная, внимательная, – кто хочет кофе? – чуть только расселись.
– Или чего-нибудь выпьете?
И нашлись такие, кто выпил бы чего-нибудь.
– Жулио! – сказала она мне, дабы я позаботился на сей счет. И я подошел к бару – большой ящик, вмонтированный в стеллаж, – принес все бутылки. Теперь мы могли начинать. Начали с Максимо Валенте, но он потребовал для начала еще рюмку виноградной. С Максимо Валенте. Вокруг его шевелюры сиял нимб, который он привык носить со дня канонизации в кафе «Атена». Жоан Непомусено Диас да Крус сказал:
– Максимо Валенте – наш величайший поэт из числа живущих. Более того, для меня он величайший наш поэт двадцатого века. Оговариваюсь – для меня. Я не раз говорил ему: «Максимо! На тебе лежит огромная ответственность».
Они были очень близкими друзьями. Так-так. Об этом тоже поговаривали. Но вряд ли это было правдой. Элена знала его еще с тех времен, когда ездила отдыхать на юг. Мы часто встречались с ним на юге. Однажды одну мою фразу он поставил эпиграфом к одной своей книге. На чем зиждутся дружеские отношения? Слышен шум дождя. Шум дождя в паузах меж разговорами, в моем невнимании к тому, что говорится. В полутьме гостиной Элена зажгла светильники, погасила верхний свет. И тут заговорил Озорио – он был литератор на все руки, критик-поэт-драматург-романист. Лоб у него занимал полголовы. Затем начиналась шевелюра и доходила до плеч. У него был один вопрос, и он хотел его поставить. Не поехать ли мне в деревню искупаться? Или в гости к Элии?
– В чем состоит ваш вопрос? – осведомился я.
– Вопрос мой очень простой. Вот мой вопрос: что такое величайший поэт?
Жоан Непомусено Диас да Крус улыбнулся. У него были белые зубы, блеснувшие в улыбке. Еще у него блестели волосы, покрытые брильянтином. Озорио был софист. Я любил софизмы. Жоан Непомусено Диас да Крус – он всегда называл свое имя полностью. Полностью ставил его на книгах стихов, он был поэт. Под критическими статьями, он был критик. Он сказал:
– Но, Мануэл Озорио, величайший поэт – это поэт, который возвышается над общим уровнем.
– А я скажу, что поэт, который возвышается над общим уровнем, – это малый поэт. Никогда не было поэта, выражавшего общий уровень в большей степени, чем Гомер. Но всем известно, что Гомер – величайший из существующих поэтов.
А не податься ли мне в деревню – сейчас, пока дискуссия разгорается? Надо бы решить. Или в гости к Элии – но как можешь ты строить иллюзии? Вернуться к молодости, к поре, когда придумываешь себе будущее, – вернуться к истокам, как зверь в берлогу. Замкнуть круг. И снова звучит пластинка, и в памяти о ночи, об одиночестве – снова солнце, весть о нем, доходящая до самого дальнего горизонта. Элена оказалась в одиночестве. Никто не привел жен, ни Озорио, хотя он всегда приводит, ни Сабино (а он тоже всегда приводит). Элена прислушивается без интереса. Угощает. Когда очередь доходит до Валенте, что-то вздрагивает у нее в лице от чуть заметного смущения. Я вижу. Это было, когда Сабино поставил еще одну проблему, а я пошел к переговорной трубке у входной двери. Обливаюсь потом, пижама вся расстегнута, иду к переговорной трубке.
– С телеграфа!
Разносчик телеграмм. Но я не открываю.
– Позвоните привратнице и оставьте у нее.
Потому что так уже было несколько раз, никакой телеграммы не было. Я ждал, а ничего не было. Просто кто-то хотел войти и говорил: «С телеграфа». Тогда Элена предупредила меня:
– Никогда не открывай.
Я не стал открывать. А когда вернулся, Сабино уже завладел аудиторией.
– …Но в споре о великом и малом, о том, каким должно или не должно быть искусство, никто не задается вопросом, каким оно станет. Если оно еще может быть.
Я отпиваю глоток, чтобы слушать дальше. Люблю послушать Сабино, он куда умнее меня. Но гостиная пуста, все разошлись – чем могла заинтересовать их эта беседа? Остались лишь он да я. Да Элена, для полноты семейного уюта. Я люблю Сабино, он озвучивает мои мысли, облекает их в понятные категории. Мы соратники в борьбе «за искупление человека», но когда Сабино не ораторствует, он достаточно занудлив. Робок. Зажат. Немного инфантилен.
– Мы распродаем по дешевке все, что скопили за две тысячи лет. Все. И сами не отдаем себе ясного отчета. Мы видим, что мир вокруг нас меняется, но не представляем себе, до какой степени радикально изменение.
Элена сидит в полутьме, на краю софы. По всей комнате там и сям, на полу, на мебели – светильники ясноглазыми очажками. И слышен шум дождя.
– Вся наша жизнь покоилась извечно на несущественных изменениях. Листья опадали, нарождались новые, но дерево было все то же. Две тысячи лет, я сказал? Жизнь не менялась со времен неолита.
И в какой-то момент я замечаю, что Элена тоже ушла. Красная софа напротив меня пуста. По углам – светильники. А наверху – неясная тьма, задыхающаяся от безмолвия, словно стоячий взгляд слепого.
– Мы видим, что мораль, философия и так далее… Вот так. Но думаем, что так было всегда, что тут нет ничего нового. Сейчас вещи меняются очень быстро, ну ладно. Но ведь все теперь меняется очень быстро. И все-таки ничто не изменилось, придет другая философия, другое искусство, другая мораль. И все же это не так. На днях я прочел книгу, где…
И тут замечаю, что говорю я сам. На стуле Сабино никого нет, во всей гостиной никого нет. Только неприметный трепет светильников по углам. Дождь ярится, в приступе гнева налетает на стекла лоджии – на днях я прочел ужасную книгу. Переворот в науке, вторжение в космос, преобразование материи – но это еще не все. В мозгу человека содержится в миллиард раз больше битов, чем в крупногабаритной ЭВМ. Бит, единица «да-нет» информации. Но когда-нибудь человек и ЭВМ в этом смысле станут равны. Когда-нибудь ЭВМ сможет запрограммировать сама себя – что же значит «свобода»? Человек начинается с крохотного интервала между «он» и «я» – а если этот малюсенький интервал будет помещен в гигантскую машину? Но и само тело человеческое под угрозой, а мы на нем основываем все, изощренные самоочевидности мышления, разветвленную мораль, диктующую, каким ему быть, красоту, которой наделяют его те, кто его славословят, и даже те, кто его отрицают в уверенности, что оно достаточно твердо стоит на ногах, чтобы выдержать отрицание. Из него создаем мы богов – твое божественное тело, Элия, и твое, но ты так постарела, Элена, Элена, где ты? Где вы обе? Я прочел ужасную книгу. Технически возможно сотворить тело с крыльями, с когтями, с длинным хвостом – он пригодится летом, чтобы отмахиваться от мух – что значит «человек»? «Homo natus de muliere»[38]38
Человек, рожденный женою (лат.); Книга Иова, глава 14, 1.
[Закрыть] – но и это уже не истина. Технически возможно сотворить его вне утробы, сделать сыном многих отцов, изменить отцовские гены, отмерить его свойства, как составные части в овощной похлебке. И добившись оптимальной дозировки, наладить серийное его производство, как в промышленности, – что такое человек? И задует ветер смерти – над опустелой землей, над развалинами, меж которых медленно бродят призраки, небывалые металлические черепа, пугающие до дрожи, – что значит искусство?
– Таким образом…
Да я ли говорю? Безмолвные тени в пустой гостиной, светильники бледными стражами.
– …как еще говорить об искусстве? Великое знамение нашего времени – смерть памяти. Вся наша жизненная система – все еще система «экономии на грошах». Размениваем монеты, храним фотографии, запасаемся впрок сантиментами…
Но погоди – кто это тебе сказал, уж не Милинья ли?
– …чиним старое платье, оно еще пригодится, храним весь старый хлам, он еще пригодится…
Милинья, моя дочь…
– …копим знания на века в крепостях библиотек и таскаем их на себе, как улитка раковину. А ведь искусство рождается там, в этом надломе, отделяющем чистое настоящее от нечистого будущего либо прошлого. В наше время время умерло.
Образцово точная цивилизация, избавиться, throwaway[39]39
Выкинуть, выбросить (англ.).
[Закрыть], carpe diem[40]40
Лови день (лат.).
[Закрыть], не день, но миг. Это время животных, о, господи, я хотел быть животным, самообман, не быть тебе животным – но и у собак есть память. Это время блестящей полированной стали.
– …Даже если допустить, что искусство… Но закономерность его смерти всегда определялась степенью износа. При современных скоростях результат износа сказывается раньше, чем завершается действие. Мы заранее устали от всего…
От всего, что составляло предмет моих дум, мечтаний, планов. Конечно, именно поэтому – что для меня значит смерть? Умирает лишь то, чем остается нам жить, я уже говорил. А мне больше нечем жить. И потому я знаю, что стал стариком – ты стал стариком. Все еще дождь. И ветер. Будущее – только оно – умирает в нас, а у меня нет будущего. И потому говорю: умереть сию же минуту. Мне было бы до такой степени безразлично. А то, что меня волновало, где оно? Мое «я» с его головокружительным неистовством – только начни думать. Цельное, жизнеспособное, завораживающее. Не совсем так – могло бы стать таким. Но не стало. Пластинка. Слушаю, и та часть моего «я», которая слышит, существует лишь в памяти звуков. Вот наступил черед той части, где кружится хоровод, дети в фартучках – видно, был звонок на перемену. Мне грустно средь их веселья, потому что все это так далеко от меня.
– Так вот: об износе.
И замечаю, что Сабино вернулся. Все лицо у него подергивается от тика, слова заостряются на губах.
– Тема для эссе. Вопрос сводится к следующему: Историю объясняли на тысячу ладов – экономика, великие люди и так далее. Но есть один фактор, который, насколько я могу судить, еще не принимался во внимание, и это как раз и есть износ. Нет такого учения, которое можно было бы терпеть до бесконечности. В какой-то момент его отбрасывают и выстраивают новое. Не вносят поправки – выбрасывают. Или, если угодно, «вносят поправки», потому что оно всем осточертело. Да, да – и в науке так. Наука – система объясненных сведений, структура из взаимосвязанных элементов. В науке не исходят из «реального». Придумывают формулу, а затем подгоняют под нее «реальное». Затем формулу отвергают и придумывают новую. В искусстве то же самое. Так вот, в наше время износ наступает невероятно быстро. Но это уже другой вопрос. Рассуждения о смерти искусства стали обычным явлением. Вот так. И уже давно. Но не в такой степени, как сейчас, и не по тем причинам, что сейчас. Я утверждаю: без искусства человек – не человек. Пока допускается существование людей, приходится допускать существование искусства. Я хочу сказать, потребность в искусстве. Но мы уже видели, что можно сфабриковать нового человека. Как бы то ни было, даже если его не сфабрикуют, искусству придется укрыться в катакомбы, как некогда христианству, оно станет тайным прибежищем изгоев.








