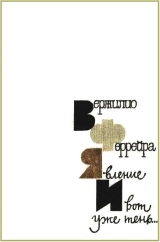
Текст книги "Явление. И вот уже тень…"
Автор книги: Вержилио Феррейра
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 23 страниц)
– Что за глупость!
И твоя сестра Инасия тут, одна рука у нее была короче другой.
– Но не слишком долго!
И была летняя ночь, вся просвеченная звездами, покачивавшаяся в своей бесконечности. Тогда мы взяли лодку, я сажусь на весла, медленно плывем по лунной дорожке. Ты садишься на корме, ко мне лицом, тьг в белом платье. Твои белокурые волосы струятся в замершем свечении, в дрожащей тьме, в тишине слышен только плеск весел. Вдали очертания пристани, огоньки фризом поблескивают вдоль горизонта, мы одни, от ощущения тайны перехватывает дыхание, мы обрели гармонию, причастны бесконечности. Ставлю лодку на якорь, ты встаешь, красивая, пенно-белая в лунном свете, он пронизывает тебя, делает прозрачной, приподнимает твое лицо в дымке нежности. И вот, словно внезапно решившись, ты берешься за подол своего белого платья, я вижу смуглые ноги. Стягиваешь платье через голову, и вот твое тело, блистательное, полное силы. Я трепещу от бешенства и унижения, внутренне корчусь – трусики треугольником, маленький лифчик. Твое тело. Божественное, гневное от избытка жизненных сил. Прячешь волосы под купальную шапочку грациозным движением, хрупкость и такая порывистость; и в том, как я скрипнул зубами, – вся правда. Я смотрю на тебя, мы одни, темное начало жизни в глубине ночи, в головокружительной первозданности меж безмолвными звездами. Но ты мгновенно ныряешь в воду, я раздеваюсь, царапая себя, догоняю тебя уже далеко от лодки, мы плывем в бесконечность. Затем, задыхаясь, покачиваемся на спине, лицом к луне. Мои ладони напряглись, стиснули твою голову, все тело мое натянулось, твое лицо, твои губы, солоноватая влага у тебя на губах…
…плывем в ночи, Элена, Элия, Милинья. Вода светится под луной, Элена сказала снова:
– Что за глупости! Купаться в лагуне в такое время! Да и вода, наверное, грязная.
Но Милинья настаивала. Элия сказала, что это было бы так занятно. Элена устроилась на дне лодки, притулилась в глубине своего отчуждения, усталости. Своей отрешенности от всего. От того неодолимого, что влечет и отвергает меня, от жизни, что сильнее меня. Мы ныряем в воду, Элена сидит на дне лодки. Что может сказать мне жизнь, если для меня ничего не осталось? Только унизить?
– У меня есть друг. Я живу с ним уже два года.
Не поехать ли мне в деревню? Последнее убежище, нора для издыхающего зверя. Мать спит в большой гостиной, мошки гудят в темноте – где я? Где мне быть? Элена встает, то чудо – оно мертво: ты ведь так постарела, мы оба так постарели – где я? Элия поднимается, она только начинает жизнь, и я еще так молод.
– Потому что дело не в том, что вы стары, для меня это роли не играет.
– Но почему же тогда? Почему? В чем причина?
– Стул или стол стар просто потому, что давно сделан. Он весь изношен, захватан чьими-то пальцами. Как вам объяснить?
Причина в том, что старость другого должны созидать мы сами. Мы должны приносить пользу друг другу. И та польза, которую мы приносим, должна быть на пользу и нам самим. С ее помощью мы должны созидать свои мечты, свои ошибки, не пользуясь уже отслужившими ошибками и мечтами.
Вечер кончается, близится ночь. Рассеянный шум города уходит под купол неба. Я снова стою в лоджии, пленник того, чем был, а теперь все это – ничто; и пленник того, что яростно подчиняет меня себе и составляет все, на чем держится еще мое бытие. И между несомненностью конца и истиной начала – я, сомневающийся, нелепый. Снова звучит пластинка. Красота девственна, взгляд чужого унижает ее: она – смутный образ того, что никогда не существовало, существовало лишь в краткий миг, когда была она явлена, а потом – смерть, и усталость, и морщины отжитости. Ничто, промелькнувшее трепетным проблеском, и это – все, что выпало нам на долю, весть о том, что никогда не приходит.
«Я ушла», – написала Элена.
Красными чернилами. Держу записку в руке.
XVIII
А сейчас? Разве я не расхныкался? Нет, хватит. Кончать, но пристойно, стариться, но опрятно – начиная с волос, поредевших до того, что на затылке появились проплешины, и кончая зубами, каковые один за другим и т. д., и кончая ссутулившейся спиной – земля притягивает. Стариться опрятно. Что трудно дается старикам, ибо все естество уже изношено. Но я здесь не для того, чтобы выставлять себя напоказ, уже решено – не для этого. И потом, быть стариком – дело нехитрое. Элена встретилась на Байше с Максимо Валенте, стоят на углу, беседуют – я их застукал. Первый зуб, который мне удалили, был леченый, я до этого несколько раз ходил к дантисту. Он стоял среди аппаратуры в белом халате и казался огромным в своем всесилии. Я сидел в кресле, маленький, униженный. Он взял в руки бор, нацелился им в мой открытый рот, машина уже включена, урчит, как злая собака. Старость ведь уже не пугает меня. Раньше для меня была проблемой смерть, она и теперь проблема, но пришла какая-то умиротворенность, в глазах у меня появился холодок безразличия. Бор проник мне в рот, в черепе у меня оглушительно загудело. Почему Элена здесь, о чем говорит она с поэтом? У нее чемоданчик в руках, она элегантна, моя жена, стремительные очертания обтянутой платьем груди, бедер, белокурые волосы, уложенные венцом. Сейчас он наклоняется к самому ее лицу, говорит ей что-то шепотом, маленькие глазки обшаривают ее, она смеется. Смеется, слегка закидывая голову назад, затем становится серьезной. Он тоже серьезен, кивает в знак согласия – согласия с чем? Тогда она спрашивает о чем-то с интересом, он рассекает воздух жестом, выражающим уверенность, затем оба умолкают. Пауза. Обоим не по себе, это видно. Врач говорит мне:
– Вот и все.
Подношу руку, где же лицо? Лицо на месте. И снова телефон – будь он неладен, телефон.
– Слушаю.
– …
– А, это ты. Как поживаешь? Что нового?
– …
– Вот как.
– …
– Вот как.
– …
– Вот как.
– …
– Целую.
Лицо на своем месте. Элена и Максимо, стихоплет дерьмовый с длинной спиной. На месте. Милинья говорит мне:
– Какой-то тип сказал, что собственность – это кража. Глупая фраза, потому что если кража, значит, собственность законна, потому что кража может быть таковой лишь в том случае, когда собственность законна. Впрочем, мысль не моя.
Моя дочь. Умная, непринужденная, брызжущий жизнью и энергией взгляд, энергичное стройное тело.
– Но ведь почему он так сказал, этот тип. Даже отрицание собственности он мог выразить лишь на языке собственника. Ты уже думал о том, что ревность отвратительна и для испытывающего ревность, и для ее объекта?
Я ее слушаю. Но слышу только ее жестокую жизнерадостность, полноту жизненности. И я немного унижен, вздрагиваю – неужели это я тебя создал? Что перешло от меня к тебе? Моя независимая сила, сила земли, что меня отвергает.
– Все твои проповеди о свободе человека, о его достоинстве – что все это значит? Ты никогда не задумывался всерьез над тем, что ты гнусный реакционер, что ты никогда ничем не поступался во имя прав других людей? Было бы прекрасно, если бы мать обзавелась любовником. Был бы тебе урок.
Жизнь жестока – мне пора на свалку. Но зуб продержался недолго. Несколько месяцев спустя пломба выпала. Трогаю языком пустое место – врач сказал: «Необходима экстракция». Снова сажусь на полированное сиденье, врач просматривает на свет шприц. И со всей энергией и решимостью втыкает иглу мне в десну. Это чувствительное место, меня трясет – не от боли, а потому, что затронуто чувствительное место, тайное тайных. По всей полости рта растекается отравой онемение. Потом начинает покалывать, но не больно; вернее, какое-то болезненное ощущение, все во рту омертвело. Так проходит некоторое время, наконец я перестаю ощущать рот совсем. Тут он берет щипцы, проверяет. Атакует мой зуб, я слышу скрип, отдающийся у меня во всех костях, щипцы соскальзывают с зуба. Новая атака, он выкручивает зуб, обрывая нити, благодаря которым он держался во мне, был частью меня. Мне не больно. Но противно, как от рвоты, во всей полости рта, из-за ощущения чего-то мертвого, нарушающего мою цельность. Мне не хватает боли, чтобы я весь был там, где должен быть. Зуб еще болтается в своей впадине, в черепе отдается глухой звук, с которым рвутся корни. Рывок сильнее – и я вижу огромный зуб, зажатый в щипцах. Сплевываю в таз кровавую слюну, мне и жалко себя, и противно. Непроизвольно касаюсь языком пустого места, глубокого провала, огромного зиянья. Глубокая яма, мне хочется плакать, сколько лет мне было тогда? Но мне был уже ведом суровый мужской долг, обязанность хранить в присутствии других величие – мне не принадлежавшее. Впервые я был унижен из-за уязвимости собственного тела, познал бренность. Лишился зуба, а зуб этот был частью меня самого. И ужас – оттого, что утратило цельность тело, которое мне было даровано, которое я сознавал своим, вне которого не мыслил себя. И отвращение к самому себе – оттого что я увидел себя другим, подвластным распаду и потому убогим, хоть это убожество оборачивается сияющим совершенством – то абсолютное, что живет во мне. Впервые постигаю расстояние от «я – тот, кто есть», до «я – то, что есть», между светом, пылающим во мне, и тем, что этот свет питает. Дух бодр, но плоть немощна – гласят пророки. Одно дело – быть цельным во всем, другое дело – быть цельным в какой-то части. Когда чего-то не хватает. Издевка над моей божественностью. Разница между вечностью моего бытия и кратковременностью, в которую претворена эта вечность. Изувеченное тело. Мне вырвали зуб.
А Элена и Максимо между тем стоят на углу, теперь она говорит ему что-то очень важное, судя по ее лицу. Она потупилась. Затем вдруг подняла голову, улыбается. Он все так же серьезен. Затем они поворачиваются спиной ко мне и уходят. Я было подумал: «Пойду-ка за ними…»
Но нужно набраться мужества. Есть такая молитва: «Господи, сделай так, чтобы этого не было, а если бы было, чтобы я не знал, а если бы узнал, то не терзался бы», – нужно набраться мужества, почему нужно набраться мужества? По той же причине, по которой нужно идти к врачу, когда подозреваешь, что серьезно болен. Взять на себя ответственность. И к тому же – ты уже стар, на пороге великой ночи – и к тому же это не трудно. Есть какое-то величие в прожитой достойно жизни, в уважении других – но тебя никто не уважает. Ни твоя дочь. Ни твой зять. Злобный лай на протяжении всего пути. Да, нечто в этом роде. Смотри на себя. Созерцай себя. Услышь предупреждение о своей временности. Вечер опускается на город, сумерки в мире. Сумерки в твоей жизни. Когда-то все в тебе было так слажено, все детали твоего механизма работали так дружно, а теперь ты как отъездившая свое колымага, неприятности с печенью, с толстой кишкой, раздражающие простуды при малейшем сдвиге в погоде и к тому же – количеству пройденных километров соответствует затрата времени. Бог создал тебя по своему образу и подобию, вот голос, звучащий в вечности. Как новенькая машина, сверкающее совершенство в отполированное™ деталей, в мощи поршней двигателя. Но это мимолетный образ, ветерок размывает его – вверху, в голубизне, проплывают облачные корабли, фантастические дворцы, проходят люди с едва намеченными лицами, с тайнами, доступными лишь рентгеновским лучам, – на миг они обрели гармонию в своем совершенстве. Смотрю на них, но недолго – где-то плачет ребенок. На нижнем этаже. Другие дети тоже подняли рев. Там живут японцы, муж и жена, нам привратница рассказывала. У них трое детей. Иногда муж и жена уходят из дому – чаще всего вечером. Заранее включили в расписание. Укладывают детей, запирают дверь, уходят. И немного спустя, в соответствии с расписанием, дети поднимают крик. На весь дом, непонятно, откуда – сверху, снизу, с боков. Снизу, сказала привратница. Почему бы мне не набраться мужества? Иду за ними, они не торопятся. Элена бросила на меня уничтожающий взгляд:
– Я знаю Максимо с детства! Наши родители даже в родстве! Не допущу!
Ладно. Она соблюдает достоинство, чем и гордится, – в чем оно, твое достоинство? – ладно. Но иду за ними следом, они не торопятся. Иногда останавливаются, он поворачивается к ней, его жесты категоричны. Она не реагирует. Идут дальше. Я за ними. Иногда останавливается только Элена, замирает перед витриной, он проходит три шага один, затем поворачивается. Что тебе эта витрина, ты ни одной не пропустишь, ходить с тобой по улицам – сплошное занудство. Наверное, смотрит цены на те или иные товары, чтобы сравнить с ценой того, который купила. И говорит:
– С меня содрали пять тысяч пятьсот лишку.
Идут дальше. И я иду – мне не больно умирать. Mors misera non est, aditus ad mortem miser est[42]42
Смерть не мучительна, мучительно ее приближение (лат.).
[Закрыть] – знаю свою толику латыни. Элия как-то подсунула мне четырех слепых, чтобы я давал им уроки латыни. Не смерть мучительна, мучительно ее приближение – но и это неправда. Воистину мучительно задавать вопросы – мучительно то, что всегда оказываешься около своего ответа, уже явно присутствующего в вопросе, – как явно виден он на лице у врача после осмотра. Я-то уже не задаю вопросов, слишком устал. Вновь обрести невинность детства – tomber en enfance[43]43
Впасть в детство (фр.).
[Закрыть], моя любовь. Mon amour. My love. Не хватит языков на свете, чтобы я мог сказать тебе… А потом они вдвоем помедлили у двери какого-то кафе. Я помедлил у двери какой-то лавки. Мучительно то, что приходится принести в жертву жизнь, я прожил все, что возможно в человеческой жизни. Даже немного больше – я писатель. Все издания распродали, разве что у букинистов и по ценам, весьма лестным для самолюбия. Милинья как-то раз… У нас был трудный разговор.
– От твоих книг пахнет нафталином.
Мне стало больно. Не из-за запаха книг, а из-за моего собственного. Запаха, который остался от всего, чем я был. Был один святой, который при виде трупа красивейшей девушки… Таким образом он сподобился святости. Но теперь не обрести святость на кладбище, а где ее обрести? Только в бытии, в единственном способе быть, заключающемся лишь в том, чтобы быть. Будь. Пластинка-то кончается. Забавно, я даже не слышал. Затем они вдвоем вошли в кафе. Я не вошел. Хотелось бы знать – почему?
XIX
Но это непросто. Просто только следить за событиями, не зная, почему они происходят, всякое «почему» – всего лишь гипотеза. Но я люблю узнавать, расспрашивать, ведь я властелин творения, таков мой долг – узнать: почему это было? Допустим, что «почему» тебя не интересует, что причина, по которой оно должно было тебя интересовать, уже не годится. Как какой-нибудь ценный предмет: так старались не повредить его, но вот он надоел, и безразлично, годен он или нет. Поскольку такое объяснение льстит моему тщеславию, думаю, что приму его. Который час? Вечер нисходит на город, застилает печалью весь мир до самых отдаленных его уголков. Бродячие шорохи уже исчезают в надвигающейся ночи, – я различаю их в собственном неровном дыхании, в неопределенности взгляда, окидывающего огромное небо, в застывшей судороге моего одиночества, одеревеневшей шрамом. Луч солнца. Он как будто поблек, касается теперь полки, где труды по искусствоведению в картонных футлярах; они жмутся друг к другу. Сорок тысяч лет иллюзии, блаженная иллюзия! Иллюзии блаженны, знаю по себе, на миг вспыхнет над прогнившим миром и уйдет в вечность ночи – о, неповторимая радость мгновения, возомнившего себя вечностью! И снова потребность видеть тебя – властная, безотлагательная, ощущаю ее плотью, костьми, языком, скрипом зубовным – где ты, где? Где ты во всей своей правде, чтобы я мог тебя отыскать? Вылетаю из дому вихрем, хлопнув дверьми, ты ведь любила чудовищную иллюзию искусства. Но на что тебе иллюзии, если они не нужны твоей счастливой плоти? Ведь и тебя тоже ждет тление, но ты не можешь знать об этом, это сумеречная наука, а ты в блеске своей красоты вся трепещешь от избытка жестокой энергии. Выбегаю стремительно, спешу во Дворец культуры, там вчера открылась выставка, сегодня будет осмотр с экскурсоводом; прекрасный весенний вечер. Дворец стоит в парке: зелень, пруды, фонтаны, деревья и кусты в буйном цветении. В прудах плавают утки, солнечный свет пронизан птичьими трелями, тенистые рощицы, аромат воспоминаний в воздухе. Толкаю застекленную дверь, в зале огромные окна с голубоватыми стеклами, я внутренне весь сжался, все вокруг словно приобрело нереальность крипта. Толстые ковры заглушают шаги, я чувствую вдруг, что растерялся в просторе зала.
Иду туда, где выставка, выставка коллективная, кучка людей толпится перед одной из картин. Из центра кучки доносится медоточивый голос, слышу его, но говорящего не вижу. Я тоже подхожу, присоединяюсь к группе, пробираюсь в первый ряд – Элия, Элия. То был крохотный коротенький человечек, весь вылощенный с ног до головы, до сверкающих от брильянтина волос. Колюче поблескивали очки в металлической оправе. Вся группа стояла перед картиной, человечек объяснял, вертя большими пальцами обеих рук или легонько разводя в стороны, – остальные пальцы были сплетены, а большие поигрывали, словно человечек занимался вязаньем; итак, он объяснял:
«Отказ от известной концепции живописи в связи с открытием в сороковых годах новых пространственных отношений, и переход от жеста к знаку, благодаря чему семиотическая информация… хотя социальное и мифотворческое значение… посредством метаморфозы и метафоры, постольку, поскольку… Но проблема изобразительности в живописи… Во время моей поездки в Париж, предпринятой с целью изучения, в сутолоке, когда новизна подхода, бесчисленные выставки, мастерские, встречи, статьи, предисловия, а также Лондон, Рим, Милан, Венеция, Германия, Нью-Йорк… ибо нация должна осознавать роль третьего поколения (начиная с 1945 года) после открытий неореализма. И все-таки живопись, как я неоднократно говорил, начинается с первого поколения, поколения 1915–1920 годов, и с модернизма».
Вся группа впилась глазами в картину, дабы сверить ее с откровениями оратора. Соприкасались головы, лбы сосредоточенно клонились, лица виднелись на разной высоте – и совсем низко, и очень высоко, в зависимости от роста, параллельно торчали носы, прилежно поблескивали очки, там были розовые, желтые, гладкие, морщинистые физиономии, зубы, мелькающие в улыбках, свидетельствующих о более индивидуальном понимании, вдумчивые лица тех, кто сопоставлял картину с точными профессиональными формулами экскурсовода, один из группы целился пальцем в какую-то особую подробность, затем несколько человек нацелились пальцами в нее же, постояли так некоторое время – молча и неподвижно: наверху картина, внизу – экскурсовод. Я тоже внимательнейшим образом изучал картину, она вся пестрела знаками, кои были только что истолкованы. Теперь экскурсовод жестикулировал свободнее, указывая на большое полотно, висевшее очень высоко и занимавшее большой кусок стены. Он говорил: «Наивная гордость неожиданного открытия, поскольку четвертое поколение вступало в жизнь в критический момент, в неблагоприятном социальном контексте… когда в конце марта я приехал в Париж… весьма опасный онтологический эксперимент… Париж, город-метафора… отвергая поэтический подход… постиг суть сложной системы знаков, переместившись в область семантики. Художник, перед картиной которого мы… его открытия в области диалектики динамического творчества и статического творчества… удачный набор знаков… расшифровка, уже достигнутая прикладной кибернетикой… Отказ от цвета и иллюзии перспективы… Смысловая роль композиции и творческие искания художника, добивающегося индуктивного восприятия… Целое становится субъективной стилистической системой… Ввиду чего морфологическая модификация на уровне познаваемости… Грамматические структуры в инверсионном построении создают предпосылки для варьирования морфем… сознательная скудость оттеночных валеров… То же самое можно сказать о системе элементов, создающих напряжение… Таким образом, наш художник противопоставил иконоборческую тенденцию, доведенную до моносемии, композициям, опирающимся на опыт памяти».
Он умолк, а мы еще с минуту вглядывались в картину и вдумывались в ее смысл, который нам только что был объяснен. Все полотно было совершенно черное, как грифельная доска в начальной школе. Черное-пречерное, без всяких изображений. Сплошная китайская тушь. Под картиной на низкой банкетке сидел какой-то тип. Любопытный тип. У него были квадратные плечи, белоснежная голова свесилась на грудь. Вся группа перешла к следующей картине, но под нею на низенькой банкетке уже сидел малорослый коренастый человек с белоснежной головой. Свесившейся на грудь. Эта картина была поменьше, изображала молодую женщину, она лежала, выставив могучие ягодицы прямо в лицо посетителям. Послышалось шарканье ног, близился последний этап обработки мозгов. И тут в полной тишине экскурсовод принялся за свое вязанье. Он говорил:
«Отказ от известной концепции живописи в связи с открытием в сороковых годах новых пространственных отношений, и переход от жеста к знаку». Элия! Элия! Ищу тебя сам не свой, какие длинные галереи и залы, где ты? В одном из залов в глубине помещения давали концерт, я пошел туда. Стемнело рано, фонари блуждающими огнями поблескивали в аллеях парка, скованных зимним холодом. Но в зале стояло уютное тепло, оно пронизывало обивку кресел, ковры, портьеры, воздух, смягченный рассеянным светом. На залитой огнями сцене – оркестр в полном составе. Четко вычерченные поблескивающие инструменты, пианино, металлические пюпитры, фраки, вечерние туалеты. Торопливо разыскиваю Элию среди присутствующих, перебираю их пальцем, словно листы книги, они сутулятся, когда я прохожу, затем принимают прежнюю чопорную позу. Пианист стал колотить по клавишам, неистовая трескотня ввинтилась мне в уши. Затем замер, руки застыли на клавиатуре, зверский оскал обнажил хищные зубы. И тут вступили скрипки. Прочертили воздух стеклянными звуками, вибрируют кисловато, смычки скоблят четкие черточки струн – словно кто-то водит по стеклу ногтем, долгий мертвящий вопль, несколько мертвящих воплей подряд. И тут виолончели, огромные, между ног у дам – виолончелисток; мне приходится закрыть глаза, чтобы не видеть их. Ужасные звуки, у меня волосы встают дыбом, струны под смычками мерзко скрипят. И снова пианино. Затем градом свистящие звуки, свист стоит у меня в ушах, заурчал контрабас. Даже вылез в солисты, грубиян, его медлительные хрипы долго властвовали на сцене. Затем поднялся общий гвалт: визжали скрипки, пианист колотил по клавишам и все так же хрипел контрабас. Но вот над всем этим гомоном флейта – белая, чистая…
…слышу ее. От горизонта до горизонта – голос, приносящий мне умиротворение, о, голос, нежный, как лик. Забирается в выси моего страдания, клубится в пространстве моего одиночества. Во имя мертвых, что, выстроившись шеренгой в скорбной моей памяти, глядят на меня, недвижные, глядят на меня; во имя всего, о чем я мечтал и что оказалось ложью, во имя всего, о чем я мечтал, и что свершилось, и оказалось ложью уже потому, что свершилось, во имя грехов моей памяти, для которой все становится прекрасным только потом; во имя измен и жизни, и моему телу, от которых я требовал невозможного; во имя величия, что создал я для других, а сам не обрел; во имя упорства, с которым я колотился о стену, зная, что нет ничего за стеной; во имя неотступности мыслей моих, что были правдой лишь в моей усталости, – флейта отдается эхом в моем головокружении…
…отдается эхом в молчании зала. Но тут шквалом вопли, ржанье, скрежет, пронизывающий меня до костей, а затем пианино рявкнуло громче и заткнулось. В едином порыве все присутствующие воздели длани, громко захлопали в ладоши, я воспользовался общим экстазом и пошел к выходу. Снова перебрал пальцем всех зрителей, – Элия, любовь моя, где ты, где? – пошел к выходу. В партере, в уголке, сидел странный тип, он бросался в глаза. Сидел не шевелясь. Сила придавала ему глыбистость, мысль – напряженность, культура выбелила волосы. Сидел не шевелясь. Очки в золотой оправе, глаза искрятся проницательностью, груз многовековых знаний тяготел над ним, голова свешивалась на грудь. Седина была оттенка слоновой кости, он был когда-то белокурым, быть может, он был пришельцем из северных стран, явившимся за познаниями, коими владел юг?
А когда я перешел в другой зал, там представляли комедию, играли юноши и девушки, а седой человек уже был там и спал. Собственно говоря, юноши и девушки представляли не комедию, а свое представление об этой комедии. Собственно говоря, в комедии звучал не смех, рожденный самой жизнью, а смех над этим смехом, – о, время духовного оскудения. Собственно говоря, смеялись не над смешными сторонами мира, но над тем, кто смеялся бы над этими смешными сторонами: смех – производное, огрызки смешного, смех над смехом – бесплодная иссушенность нашей конченой судьбы. На сцене двое мужчин катались в драке по полу, муж и любовник, жена умиленно созерцала драку, сцепив руки под передником. Время от времени соперники прекращали драку, вопили, оскорбляли друг друга, юноши и девушки в зале смеялись. Смотрю на них – глаза их были напоены невинностью, они разражались хохотом, охваченные ребяческим восторгом. Зал был крохотный, жара, духота; сидя на стульях и на полу, они смеялись. Двое на сцене вызывали друг друга на бой; один, муж, вызывал другого, воздев кулаки в воздух, другой налетал на него, оба катались по полу, юноши и девушки смеялись. Затем в изнеможении оба расходились по углам, отсиживались, переводя дух. Затем муж снова вызывал соперника:
– А ну, выходи! А ну, сюда! Увидишь, кто из нас мужчина!
Соперник наскакивал на него, они снова катались по полу, публика снова разражалась смехом. Как дети – о, детство мира. В смуте и хаосе, над землей мертвецов, словно случайные цветы, посеянные ветром, над пылью, скопившейся за тысячелетия познавания, – последний луч солнца, вечер уже блекнет, – над законами, пораженными гниением, над созданными нами империями и воздвигнутыми нами жилищами и над предметами мебели, которые мы так оригинально расставили, над нашими голосами и над иллюзиями времен нашей молодости, над победами, доставшимися ценою нашего пота, над нашим зрелым достоинством, над безмолвием великого всеземного кладбища – слышен смех: юноши и девушки смеются, как дети, играющие среди могил. Встаю, подхожу к лоджии. Среди огромных жилых массивов вдали виднеется река. И над нею белеют два-три дома, смотрят, как она течет. Блестят на солнце.
XX
И с тех пор я не искал ее больше. Это было ужасно.
– У меня есть друг. Живу с ним уже два года.
Неразгаданная тайна, неприкосновенный, непостижимый секрет, твоя святая святых, то внутреннее, тончайшее, о чем нельзя даже думать, хрупкий, потаенный знак, сама суть твоя – все это вдруг опустошено, замарано, сведено на нет грубой животной мощью. А ты улыбаешься, красивая:
– У меня есть друг, уже два года.
Цельная, божественная, ты вновь обрела свою недоступность. Я же испепелен унижением. Оглушен, всеобщее посмешище, оскорблен, оплеван. Я попытался было вообразить себе ее «друга» – кто он? Красив, конечно, полон мощи – дитя бога. Прямой хребет, гибкий стан. И шевелюра. И ясный блестящий взгляд. Здоровые зубы. Возвращаюсь к себе, к своему стареющему телу. Мое тело. Поредевшие волосы. И очки. И почти все зубы – новые. И уже сутулюсь.
– Но как могло случиться… – спросил я ее однажды, некоторое время спустя. – Как могло случиться, что я никогда его не видел? Ведь все длится уже два года. В кафе, в кино, просто на улице. Как могло случиться, что я никогда не встречал вас с ним? Какой он, Элия?
– А вы и не могли нас встретить. Свидание там-то и там-то тогда-то и тогда-то, прогулки по улицам, по садам рука об руку, может, еще любовные письма? Что за бессмыслица. Мы встречаемся, когда нам захочется, у него дома. Удовлетворены?
Уничтожен, оплеван.
– А каков он, Элия?
– Прелестно. Каков он. Что за глупость – выяснять, какая у него внешность. Он может быть высокий, низенький, толстый, тощий, густоволосый, лысый. Все это глупости, потому что не дает никакого представления о нем как о человеке.
– Он дитя бога, я знаю.
И она улыбнулась в ответ. Сказала:
– Захер-Мазох[44]44
Захер-Мазох Леопольд (1836–1895) – австрийский писатель, автор романов, в которых проявляется болезненная склонность к самоистязанию.
[Закрыть].
– Каков он, Элия?
Он был высокий, белокурый. Худощавый. Необычайно умный. В совершенстве владеет собою. С чувством юмора.
– И грубиян, – сказал я.
– На редкость тактичный…
Вдруг чувствую: ты опустошена, замарана, сведена на нет животной мощью…
– На редкость внимательный.
На лице у нее на миг появилось отсутствующее выражение, взгляд затуманился, подернулся восхищением;
– Всегда ласковый.
Тогда Элена бросила на меня искоса гневный и насмешливый взгляд:
– Неужели ты не видишь, как ты смешон? Все над тобой потешаются. Ты всеобщее посмешище.
– Сама ты – всеобщее посмешище вместе с твоим косматым поэтом.
– Ради бога, не болтай вздора. Умей отвечать за свои поступки. Постарайся хоть раз быть мужчиной.
– Понятно. Ты считаешь, что у меня «жалкий» вид.
– Не увиливай от разговора. Постарайся держаться как мужчина.
Постараюсь хоть раз быть мужчиной. Все мне велят быть мужчиной. Когда я был совсем малышом, мать говорила:
– Постарайся держаться как мужчина.
Говорила за столом, когда были гости; или когда мой брат – он был старше – изводил меня своим превосходством, или когда меня насильно укладывали спать сразу после ужина. Мне всегда приказывали быть мужчиной – почему нужно быть мужчиной только когда больно? Или когда выполняешь «долг»? Можно ведь быть мужчиной, когда не надо работать, когда лежишь в постели, когда плачешь, если тебе отдавили ногу, когда убегаешь от верзилы, который хочет тебя побить? Так нет же, мужчина всегда на другой стороне, он там, где приходится потеть, клевать носом, сносить удары. Постараюсь один раз быть мужчиной никогда больше не буду искать Элию. Я мог бы встретить ее в кафе, где она обычно сидит возле стойки, или в книжном магазине, куда она иногда заходит, или поджидать у двери ее дома, или звонить ей. Больше никогда. Элена иногда заговаривала со мной об этом:
– Как твои любовные дела?
Я улыбался, пожимал плечами, проходили месяцы. Потом Элена спрашивала:
– Ты видишься со своей возлюбленной?
Снова телефонный звонок. Мой мужской голос уходит в микрофон, трубку кладут.
– Звонили тебе, – говорю я Элене. – Когда услышали мужской голос, положили трубку.
Но однажды я встретил ее. Зашел в какое-то кафе, никогда ее там не встречал, – она была одна. Может быть, ждала кого-то? На миг глаза ее заблестели живее, щеки зарделись. Я так и напыжился, воплощение мужественности – видишь, не умер из-за тебя, наоборот, ты сама краснеешь от волнения. Все же мне удалось попросить у тебя разрешения сесть рядом. Красивая, в теплой зимней одежде, зимнее солнце светило в двери, мои глаза не отрывались от твоих. Твои были жестки, поблескивали алмазным холодком; лед, не тающий и при тысяче градусов.








