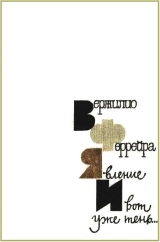
Текст книги "Явление. И вот уже тень…"
Автор книги: Вержилио Феррейра
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 23 страниц)
Таким образом, в истории с Элией Невес приходит к выводу о том, что «все дороги от перекрестка» вели в одну и ту же точку. Однако это не признание ограниченности человеческих возможностей, не логически выведенная необходимость принять свою судьбу без борьбы. Феррейра философски обосновывает несовпадение жизненных траекторий Невеса и Элии. Эта девушка для героя – шанс вернуться в прошлое, повторить свою молодость и, возможно, избежать ошибок, когда-то допущенных с Эленой. А исправить прошлое не дано, и оно всегда с нами, как и бремя наших просчетов, поэтому даровать Невесу Элию – хотя бы в мечтах – значило бы расписаться в капитуляции перед ее философией «жизни сегодняшним днем».
То же – с Милиньей. Постоянно возвращается воспоминание о «трудном разговоре» с ней, вернее, о том, что не было сказано, внушено еще до того, как понадобился этот «трудный разговор». Разговора фактически не было: каждый, не слушая и не пытаясь понять другого, пытался сформулировать свое кредо. А главные слова Невес уже произносит опять-таки в своем воображении, в пустой комнате дочери. И опять-таки, даже в воображении, она не может понять, но он уже слишком устал – даже не мечтает о понимании.
Наступит момент, когда Элена не выдержит и упрекнет мужа: «Копаешься в одних только ненормальностях, вечно занят собой, ничего вокруг не видишь. Человек может умереть у тебя под боком, ты и не заметишь… Что происходит с твоей дочерью? Тебя это когда-нибудь интересовало?» С горьким чувством Невес вынужден принять упрек. Всю жизнь он не щадил себя для творчества, в центре которого стояла проблема человека, проблема самопознания личности, но выходит, что абстрактный человек заслонил живого, и пока писатель, считающий себя гуманистом, был погружен в свои отвлеченные штудии, самые дорогие люди «могли умереть у него под боком»… В этот парадокс Феррейра вкладывает свои сомнения, насыщая ту линию романа, что связана с проблемой художественного творчества, массой автобиографических реалий.
Это прежде всего ощущается в рецензиях на последние книги Невеса. В «Откровении», раннем романе Невеса, который критик хвалит, нетрудно узнать «Явление» самого Феррейры. Так же «Ничто», в связи с выходом которого Невес подвергается нападкам за «сгущение красок» и упрекам в самоповторе, – это, по всей вероятности, «Круглый ноль» (предпоследний роман Феррейры). Критика высоко оценила «Откровение» и прочила начинающему писателю славу, однако исследование «пространства невидимого» и безрадостные выводы из наблюдений Невеса оказались далеко не безобидными – разлад в душах его героев все четче отражал разлад в «пространстве видимого», в обществе, где им выпало жить.
Другой образчик критики (на сей раз ругают «слева») – статья «Реквием писателю, или Способ отрешиться от действительности», типичный пример вульгарно-социологического подхода к анализу произведений Невеса. Расплывчатые формулировки, натяжки, штампы и более всего задевшее старого писателя обвинение в том, что он оплакивает утрату ценностей «доживающей последние дни буржуазии»… Обидно потому, что всегда старался дать понять: пугает утрата общечеловеческих ценностей… А ровесники Тулио, Милиньи, Элии рубят сплеча, относя к «буржуазным», а потому безнадежно устаревшим ценностям доброту, душевную щедрость, даже интерес человека к человеку.
Строже критиков и врагов Невес судит себя сам: «О, господи, из всего, что было моим, ничего при мне не осталось… Все – иллюзии: и женщина, что была со мной и ела со мной за одним столом, пока мы не стали грызть друг друга, и дочь, что была у меня и была не моя, и искусство, что создано мной и сводится к пыли, покрывающей мои книги».
Жулио Невес, конечно, не перечеркивает всего написанного им за годы упорного труда, не ставит под сомнение свои идеалы. Но способ познания, так сказать, путь к идеалу, метод отображения реальности, вдруг перестает удовлетворять его. Он никогда не бежал от действительности, но, может быть, останавливал взгляд на мельчайшей ее частице – личности, и поэтому не смог охватить, познать мир в целостности? Это уже – размышления не только Невеса-писателя, но и самого Феррейры.
Наступает такой момент, когда и фантазия – волшебное «а если» и – допустим – перестает утешать, ибо отчуждение проникает и в вымышленный мир, там разрушает недолговечные утопии Невеса, и все возвращается на круги своя – «Где мои очки?» и «Ты так постарела».
Единственным островком покоя остается комната со стеллажами. Все, что вне ее, находится в постоянном движении, ибо это «все» – сложная предреволюционная португальская действительность с назревшими, но еще не разрешенными вопросами и противоречиями политической жизни – преломляется в призме внутреннего смятения Невеса и предстает как бы не в фокусе.
Раздвоение героя позволяет Феррейре расширить поле зрения. Воображение Невеса-первого раздвигает стены и впускает в комнату современность с собраниями различных политических группировок, литературными дебатами, вернисажами, театральными и кинопремьерами. Шаг из комнаты – и начинается царство аллегории. Ирония писателя направлена не столько против конкретных партий и литературных школ Португалии, объект ее должен пониматься шире, обобщеннее – это целые направления политической и эстетической мысли на Западе.
Даже гонимый с места на место своим отчаянием, Невес не теряет способность ориентироваться, задаваться вопросами, изучать. Все посещения им собраний и диспутов включены в общий философский контекст романа. Феррейра не случайно выводит фигуру неизвестного старичка, которого Невес то и дело обнаруживает спящим во время самых жарких дебатов. Этот глухой ко всему «свидетель» символизирует позицию, неприемлемую для писателя. При всей своей иронии Феррейра отнюдь не равнодушен к тем, кого описывает: далеко не в одинаковом ключе описаны «партия лысых» в черной одежде, пугающе знакомым жестом выбрасывающих вперед руку, и «партия мускулистых парней» в рабочих комбинезонах…
В отличие от похрапывающего старичка, Невес жадно стремится постичь объективное содержание эпохи. Что же ему мешает? Невес сбит с толку, он переживает кризис доверия к лозунгам, ярлыкам, демагогическим приемам в сочетании с модными терминами – ко всей этой псевдореволюционной словесной шелухе «левейших левых». Так что неприятие Невеса (и самого Феррейры) относится не к смыслу, который вкладывают в свои слова «мускулистые парни» на собрании, а к той особенности политической жизни на Западе, которая позволяет эти слова обесценивать. Невес рад бы разделить с «парнями» их энтузиазм – но что, если завтра ему попадется юнец, «цитирующий Маркса при покупке новой машины»? Герой Феррейры сожалеет, что среди людей, «взоры которых обращены к будущему», он «так плохо видит вдаль», что у него нет их молодости и сил, чтобы дотянуться до Истории, которая для него теперь «Слишком высокого роста».
Что же касается собратьев по перу, то они – увы! – тянут правду искусства каждый в свою сторону, лишая его главного – гуманистического, объединяющего людей содержания. «Расчеловеченное» искусство – это в первую очередь творчество абсурдистов и «черный юмор», который Феррейра печально характеризует как «смех над смехом». Породить эти «огрызки смешного» могло, по его мнению, лишь «время Духовного оскудения». Комедия, которую видит Невес – смесь «драмы жестокости» и примитивного фарса, – как раз и является квинтэссенцией того, что он сам (и Феррейра) считает враждебным подлинному искусству – сочетание цинизма и отчаяния. Устами и пером Невеса Феррейра противопоставляет модернистскому «черному юмору» смех, «рожденный самой жизнью».
Феррейра подвергает критике и эксперименты структуралистов. Анализ поэтического текста, услышанный Невесом, построен как «поток означающих» и напоминает окрошку из терминов, почерпнутых во всех областях знаний – от политэкономии до психоанализа. А картина модного художника, содержание которой велеречиво комментирует гид, апеллируя все к той же «системе знаков», представляет собой просто замазанный черной краской холст.
Черная пустота картины и «голый текст», равно как и научная база, подведенная под эти произведения, начисто лишенные содержания, принципиально противоречат той задаче, которую ставит перед собой настоящий художник. Книга должна «рассказывать, ибо люди хотят знать, чтобы видеть – есть смысл или нет». Долг писателя – «быть глубоким и всепонимающим. Быть сильным», – утверждает Феррейра.
«Быть сильным» до конца старается и его герой. Но не значит ли это одиноко нести свой крест, как делал это дядя Анжело?
Не случайно память Невеса возвращается к забытому родственнику. История дяди Анжело – как бы еще один путь, еще одна возможность выбора. Рассказ о человеке, который не пожелал примириться с распадом оркестра и, оставшись в одиночестве, сам писал себе приглашения на репетиции и гордо шествовал по городу как единственный участник парада, превращается у Феррейры в экзистенциалистскую притчу. Но, включая ее в контекст размышлений Невеса, писатель дает возможность прочесть ее полемически: да, дядя Анжело выстоял, не подчинился обстоятельствам и остался верен идеалу своей свободы, которую он понимал как «свободу доиграть свою партию несмотря ни на что». Но из одной лишь партии трубы не выйдет симфонии, и ни радости, ни утешения не принесет эта музыка людям – таков смысловой итог истории этого трагико-абсурдного подвига. К ощущению ущербности такой жизненной позиции подводит Феррейра и своего Невеса.
Впрочем, есть еще позиция Милиньи: «Остановить жизнь в миг максимальной полноты», ее и Элии вера в то, что «когда-нибудь самоубийство станет обязательным». Отказ от идеалов, сформированных обществом потребления, от самодовольного конформизма, от обывательских заповедей – «откладывать на черный день, экономить, осторожничать, жаться, скупиться даже на чувства, хранить фотографии, быть добродетельным, скряжничать над полным сундуком и отправляться в могилу, так и не узнав, для чего прожита жизнь…». И желание взять от жизни все, пока есть время. Взять – и уйти. Об этом фильм, который Невес смотрит, вообразив своей спутницей сначала Элию, затем Элену. Символично двойное название картины (португальский вариант – «Вечность», название на языке оригинала – «Седые волосы»), заключающее в себе философскую дилемму: уйти из жизни «в миг максимальной полноты» или дожить до старости, когда вся притягательность существования, казалось бы, утрачена? Характерно, что Элии фильм нравится, Элене – нет.
Выбор героев картины, которые предпочли самоубийство старению и угасанию любви, не может найти отклика в душе Невеса, как не может он примириться и с тем, за что ратует дочь. В активе таких, как Милинья, лишь две возможности – «взять» или «отказаться», такой вариант, как «дать», оказывается просто вне спора… А для Невеса именно в этом слове и откроется искомая истина.
В момент отчаяния и опустошения, когда, казалось бы, человек готов отступить, сдаться без боя наступающей «тени», он все же находит в себе силы для последнего рывка: «Надвигающаяся ночь, я в ночи, слепой – что мне еще сказать? И внезапное озарение – да скажи это, скажи именно это. О том, что все кончается, о близящейся ночи, о непобедимой человеческой мечте начать с начала. Быть в вечности. Быть».
И перед вдохновенным актом созидания отступает ночь: «Книга. Вдохнуть еще раз то, что есть во мне человеческого». На пороге, за которым «уже тень», поделиться с людьми опытом нелегкой жизни, плодами раздумий, тревогой за человека – и неиссякающей верой в него. Не «уйти» и не просто «доиграть свою партию», а выстоять и, вопреки усталости и отчаянию, «творить красоту для людей». Эти строки Вержилио Феррейры объясняют выбор эпиграфа. Слова VIII Пифийской оды Пиндара:
Счастье смертных мгновенно возрастает,
Мгновенно и падает долу…
Мы единодневны. Что есть человек и что не есть?
Люди – сны тени… —
посвящены «Аристомену Эгинскому, борцу». Зная о «единодневности», краткости своего земного пути, античный герой снова и снова выходит на битву – и побеждает. Ибо не мысли о бренности, а вера в свои силы движут им, вера в «сияние смертных». И в романе Феррейры это сияние, «свет, данный Зевсом», о котором говорил Пиндар, – вдохновение, творчество – оказывается сильнее знания о смерти. Португальский писатель мог бы повторить слова, сказанные в свое время Германом Гессе, когда тот метафорически определил двумя словами суть и смысл своего «Степного волка»: «Моцарт и бессмертие».
Есть в романе одна нота, настойчиво пробивающаяся сквозь нарастающую растерянность Невеса. Это блестящая авторская ирония, не позволяющая спутать Невеса и Феррейру, допускающая возможность отстраненного восприятия лирического монолога героя: «Напиши-ка трактат о старости, увесистый том о конечности сущего и высокопарную трагедию ночи». Невес действительно напишет книгу «Сумерки», и тут наконец голоса писателя и героя сольются, потому что это будет в конечном счете не «трактат о конечности сущего», а гимн жизни, которая бренна и нелегка, но прекрасна, и человеческому разуму, способному победить смерть.
И вот перед читателем два романа Вержилио Феррейры. Первый, «Явление», знаменует собой поворот к «пространству невидимого» в творчестве писателя, а последний из написанных пока, «И вот уже тень…», становится, по мнению португальской критики, вехой возвращения к «видимому», но теперь уже на новом, более высоком уровне. Проблема человека, его стойкости, прочности его гуманистических идеалов решается в творчестве Феррейры далеко не абстрактно. Умение нерасторжимо срастить сложную философскую ткань романа с самой «плотью» сегодняшней жизни, со множеством актуальнейших вопросов из области искусства и морали, политики и религии, делает его одним из выдающихся мастеров португальской прозы. В сложном контрапункте смыслов и образных пластов «невидимое» у Феррейры обретает контуры, как обретает силу вера писателя в «рассвет» – в широком смысле – и величие человеческого духа.
Е. Огнева
Явление
(Роман)
Я сижу в пустой гостиной и вспоминаю. Теплая летняя луна заглядывает на веранду, освещает стоящую на столе вазу. Я смотрю на эту вазу, на цветы в этой вазе и вслушиваюсь в окружающую меня жизнь, вслушиваюсь в смутные приметы ее далекого начала. На полу поблескивает, подмигивая мне, лунная лужица. Сколько же лет я пытаюсь противостоять суровости дней, неопровержимости понятий, тяжести привычек, которые меня и сковывают и успокаивают? Пытаюсь вскрыть подлинное лицо вещей и обнаружить свою, несомненную истину. Но все так быстро ускользает, так быстро становится недоступным. Этой душной ночью в этом огромном и пустом доме, в его стынущей тишине луне известен мой первозданный голос. Я выхожу на веранду и, облокотившись на перила, смотрю в ночь. Теплый ветерок ласкает мое лицо, где-то по темным дворам лают собаки, в воздухе порхают ночные бабочки. Да, солнце вселяет бодрость, но и вводит в заблуждение. Вот этот стул, на котором я сижу, стол, стеклянная пепельница были предметами инертными, зависимыми, оживающими только при соприкосновении с моими руками. А сейчас, когда лунный свет их касается, они трепещут жизнью… Но говорить подобное абсурдно! И все же я чувствую, чувствую нутром удивительное явление вещей, мыслей, себя самого и цепенею от любого произнесенного слова. Ведь в жизни, особенно там, где слова бессильны, где они давят, подобно железным обручам, не допуская ассоциаций, которые витают, прячутся в закоулках сознания, нет ничего большего, чем подлинное чувство. И я ненавижу себя самого, того, готового облечь в слово и эту внутреннюю тревогу, чтобы спалось спокойно, готового сослаться на букварь жизни, где все давно сказано… И я говорю себе, что нет, не сказано, ничего не сказано, потому что все, что подспудно нас волнует, а обнаружив себя, заставляет содрогаться, – ново, сиюминутно, скоропреходяще.
От лунной лужицы веет ароматом легенды. Ее теплое дыхание завораживает, благословляет на молчание, словно прижатый к губам палец. И снова меня поражает и тревожит явление меня мне самому, далекое эхо голосов, которые меня пронзают. Как же трудно это представить и осмыслить! Сколько всего я изучил и знаю, что все изученное, если в том есть необходимость, в моем распоряжении. Но та простая истина, что я живу, существую, – и это очевидно, – ощущаю себя безусловным божеством, та замечательная уверенность, что я просвещаю мир, что я могуществен и могущество мое рождается внутри меня и определяет меня в жизни, та моя сущность, которая не позволяет мне видеть свое видение, думать свои мысли, потому что она и есть мое видение и мои мысли, та истина, которая меня испепеляет, когда я вижу абсурд смерти, не дается мне в руки, а если я пытаюсь удержать и постичь ее, рассеивается, как дым, оставляя меня отупевшим и неожиданно до смешного взбешенным. И все же сегодня мне ясно: в жизни существует только одна задача – задача познать себя самого и, исходя из этого, восстановить подлинную полноту всего: радости, горести, героизма, как и любого другого проявления личности. Да, сознавать, и остро, то чудо, что ты существуешь, что бесконечно необходимо, чтобы ты существовал, и потом вдруг обнаружить, что должен умереть… То, что я существую – и существую в окружающем меня мире, – я знаю по своему собственному опыту, а не со слов других. Звезды, земля, наконец эта гостиная являются реальностью, но для меня существуют только потому, что существую я: моя смерть обратит все это в ничто. Возможно ли? Я сознаю себя богом: я воссоздал мир, его переделал, у меня в голове бесконечные идеи, помыслы, воспоминания. Сколько всего я в себе обнаружил, сколько сделал только мне одному известных открытий, создал по своему подобию столько прекрасного и невероятного. И этот сложный мир, политый потом и кровью, мир, который меня согревает, однажды, однажды – мне это доподлинно известно – превратится в абсолютное ничто, в погасшую звезду, станет безмолвным. Но говорить об этом глупо, так же глупо, как и думать, ведь человеческая жизнь – всего лишь мгновенное чудо.
Луна поднялась высоко на небе. Теперь ее свет струится по моему телу. Он омывает мои руки, и это как бы очищает меня во времени, предшествовавшем жизни, в ярком ореоле сущего, рождающегося на свет. Вдруг в полной тишине скрипит дверь, и тень моей жены, ее хрупкая фигурка сливается с окружающей темнотой. Она садится около меня. Молча подставляет ноги лунному свету: за многие годы мы поняли истину – появлению слова на земле предшествовала благосклонность, расположение…
Я беру ее руку в свою, и в сиянии ночи расцветает полный тревоги цветок общности…
I
Сентябрьским утром в девять я прибыл поездом в Эвору. В моем обмякшем теле и отупевшей от бессонной ночи голове – тяжесть. Подходит носильщик и, Тронув козырек, спрашивает:
– Не нужна ли сеньору инженеру помощь?
Я отдаю ему чемоданы и говорю, что в багаже еще ящик с книгами.
– Так пожалуйте квитанцию, сеньор инженер.
– Не называйте меня инженером. Я преподаватель лицея.
Согнувшись, будто от боли в животе, он семенит следом за мной. У него отекшее лицо и красноватые глаза. Связав вещи, он забрасывает их на спину, обещает хорошую гостиницу, тут же на площади, рядом, «рукой подать», и, глядя на меня жалобными пьяными глазами, приглашает идти за ним. Утро прекрасное. Все вокруг залито теплым золотистым солнцем и обласкано свежим росистым ветром. Носильщик идет впереди пританцовывающей походкой, с трудом удерживаясь на ногах под тяжестью груза. Я не обращаю на него внимания. Я весь во власти своих нелегких дум и глубокой, захлестывающей и поглощающей меня усталости. А площадь все еще далеко и не так-то «рукой подать», как обещал мне носильщик. Мое недавнее открытие смерти и поселившаяся во мне тоска застилают все, делают этот город каким-то странным. Я в трауре. У меня умер отец. И что мне с моей болью, с моими тяжелыми мыслями эти молодые деревья на улице, по которой я иду, этот белый город-часовня!
– Почти пришли, сеньор инженер.
По мощеным улицам с грохотом и дребезжанием едут телеги, перед глазами сменяют друг друга залитые светом фасады домов, волна суховея говорит о необъятности Алентежской равнины. Среди белых домов то там, то здесь я обнаруживаю темные пятна старых храмов, а в вышине – взметнувшиеся в небо колокольни собора. Вдруг на память мне приходит доктор Моура. Он был однокашником отца, потом как-то гостил у нас в Бейре. Незадолго до смерти отец написал ему обо мне. Я должен нанести ему визит, но прежде, конечно, отдохнуть, привести себя в порядок, почувствовать, что готов к общению. Носильщик, несмотря на то что ноги его заплетаются, идет быстрее меня. Он то и дело останавливается, не снимая груза, оборачивается назад, беспокоится, не потерялся ли я. Но потеряться на главной улице трудно, и уж если что здесь и теряется, то глаз человека. В самом деле, в неожиданно возникающих рядах арок, ведущих к площади, ему открывается мрачный лабиринт, в котором, как мне кажется, живет, подобно эху в пещере, отражение времени и смерти.
– Пришли, сеньор инженер.
Носильщик поднимается по узкой и крутой лестнице, идущей между холодными, как в тюрьме, стенами. Первый этаж – вывеска зубного врача. На втором какой-то старик, держа в руках корзинку с покупками, открывает дверь. Пансион находится на третьем этаже. Когда я оказываюсь на третьем, носильщик уже звонит в колокольчик. Дверь открывает высокий тучный мужчина в пыльных очках.
– Сеньор Машадо, – говорит носильщик, – я привел к вам сеньора инженера, он преподаватель лицея.
Сеньор Машадо глянул на меня, поздоровался и задумался. Его внушительная масса поежилась, словно чего-то устыдившись. Он робко прижал руки к груди и с сокрушенным видом святоши опустил глаза:
– Я, сеньор доктор[2]2
Доктор – принятое в Португалии обращение к человеку, имеющему высшее образование.
[Закрыть], если говорить откровенно, очень теперь боюсь принимать у себя преподавателей лицея…
Он говорил медленно, подчеркивая свою добродетель.
– Хорошо, я поищу другой пансион, – сказал я.
Однако сеньор Машадо тут же в тревоге вскинул руку вверх, продолжая прижимать локоть к груди, и, устало глядя, затряс головой: «Нет, нет».
– Сеньор доктор меня неверно понял. Я только хотел сказать, что в своем доме я требую уважения. Мой дом – серьезный дом. Как-то раз у меня в доме жил один преподаватель… О, сеньор доктор… Пришла к нему сеньора… – Он повернулся к носильщику: – Чего ты ждешь, Мануэл?
Я расплатился. Носильщик тронул козырек и сказал:
– Если будет угодно, сеньор инженер, спросите Мануэла Патету…
– Так вот, сеньор доктор… – продолжал Машадо. – Всего, всего, Мануэл. Бог ты мой! Иду однажды я по коридору…
Я еще раз, как мог, постарался его успокоить; я так устал, так хотел лечь, вытянуться на постели, наконец, соснуть час-другой. Просторная чистая комната выходила на террасу, где на солнце сверкали натянутые бельевые веревки; неизвестно откуда доносившееся квохтанье кур напомнило мне величественное безмолвие деревни. Я закрыл ставни и лег в надежде уснуть. Но сон не шел, меня мучили воспоминания.
Снова передо мной отец, упавший ничком на стол. Случилось это незадолго до моего отъезда, во время ужина. Родители и на рождество и на ужин по случаю сбора винограда ждали нас троих в гости. Томас жил неподалеку, занимался земледелием. В эти дни у него было много хлопот, но он всегда приезжал. Вот Эваристо – тот жил в Ковильяне. И сейчас, когда спустя годы я пишу эту историю в том же доме, где все это произошло, мне живо вспоминается его шумный приезд в то самое сентябрьское утро. Как сейчас, слышу резкий звук сигналящей на весь двор машины. В дом вторгается праздник. Распахиваются окна, двери, и Эваристо и Жулия сотрясают все вокруг своей шумной, бьющей, как удары шатуна и поршня, радостью: «Эй, люди!» Потом, уже в прихожей, с тревогой в голосе и громко:
– Мона-а-ах? Где же монах?
Монах – это я. Я иду на шум и тут же попадаю в крепкие объятия брата и невестки. Они считают своим долгом быть веселыми и громко выказывают свое веселье всем – отцу, матери, нам, слугам. Жулия не раздумывая поручает моим заботам тезку-племянника, грустного и болезненного ребенка. Потом во всех подробностях они принимаются рассказывать о том, как ехали: «Выехали рано, ну как же, мы должны провести весь день с родителями – ты не хотел, ты хотел приехать только после обеда – да помолчи ты, не говори глупостей, я только и говорил: едем раньше – к девяти часам мы уже были в Гуарде, этот ленивец (сын), чтобы его поднять с постели… – Ну, как вы тут? – Ну, монах, рассказывай, как дела». Они говорили, перебивая и подталкивая друг друга, хотели знать все, даже об урожае в этом году. Жулия была толстой, с явной склонностью к слоновой болезни и очень скоро раскраснелась и вспотела от своей болтовни. Но худой и высокий Эваристо, весь на шарнирах, как железный заводной человечек, казалось, танцевал непрекращающийся чарльстон. Он что-то мурлыкал себе под нос, курил короткие сигареты и то и дело говорил отцу (отец был врачом и только что вернулся с приема):
– Ну, старик…
Отец улыбался. Глядя на отца, улыбалась мать. Эта манера Эваристо всегда пребывать в хорошем расположении духа была у него с детства, и именно она еще больше располагала к нему мать, хотя имелась и другая, веская причина – Эваристо был младшим сыном и более, чем кто-либо, напоминал ей о материнстве. Да и не всегда он был весел. Казалось, в нем живет не одно существо, а сразу несколько, на все возможные случаи жизни. С невероятной легкостью он смеялся и плакал, был жесток и любезен, эгоистичен и щедр. И эту несбалансированность многие, кто с ним общался, принимали за непосредственность, а часто и за смелость, независимо – добро или зло она несла, и относились к нему с уважением. А кое-кому эта несбалансированность даже помогала определить свое отношение к тем или иным событиям, и они были ему благодарны. Но вот тесть Эваристо (хозяин фабрики в Ковильяне) не одобрял этот его «характер», опасный для такого серьезного дела, каким он, тесть, был занят.
Томас приехал к вечеру. Приехал один, верхом на лошади, чтобы побыть немного с нами и уехать, ведь Изаура не могла оставить детей. Мать запротестовала:
– Послушай! Ну переночуете у нас. Постелю им вот здесь.
– А, сколько лишней возни! – возразил Томас.
– Вези, вези свой выводок, – потребовали Жулия и Эваристо.
На том и порешили. Томас уехал (деревня находилась в десяти километрах от нашей) и спустя какое-то время привез все семейство. Вечер был тихий. Высившуюся против нашего дома гору золотило осеннее солнце. Во дворе пахло теплыми вымытыми бочками и привезенным с давильни мустом. Отец явно отдавал предпочтение Томасу. Должно быть, потому, что тот был самым старшим и самым благоразумным. Он любил землю, хлопотливый крестьянский труд, и для меня образ Томаса навсегда связался с образом земледельца, нюхающего землю, помогающего сгружать кукурузу в амбар, присутствующего при мытье бочек, взвешивании повозок с дровами, на уборке картофеля в жаркие августовские дни и на приготовлении оливкового масла в холодные декабрьские вечера.
Как сейчас, помню: огромный овальный стол сверкает белизной скатерти, хрусталем, столовым фарфором и большими лампами с матовыми стеклянными колпаками, а за пределами дома в обнаженной ночи – большое мирное прошлое. В долгом согретом нежностью объятье мы ищем убежища, радости, которую утратили. Когда? Где? Ведь она же была. А сейчас есть, существует только этот обыкновенный ужин с супом, вторыми блюдами, сладким и необходимостью заполнить гнетущую тишину чем-то исключительным для этого часа, чем – мы не знаем, но оно явно бежит от нас. Вот Эваристо, тот старается вспугнуть эту мертвую тишину, взбодриться и говорит, говорит о своих сделках, двести конто, пятьсот конто, торговый дом «Варела» в Лиссабоне, заказов на четыреста конто, торговый дом «Криспин и компания» в Порто, война позади, теперь можно взяться за дела. Эваристо привез накладные, хотел показать; красная, толстая Жулия без умолку болтала, рассказывала соленые анекдоты… А мир и покой? А радость встречи с прошлым? Потом заговорил Томас. И то, что говорил он, было как-то ближе: он говорил о земле, о вине нынешнего урожая, о семенах, близких заморозках, солнечных днях и торжественном покое плодородья. Его грубые, темные руки, похожие на валуны, почти не двигались, он смотрел то на собственные колени, то на Изауру, то на детей, словно боялся утратить общность, плодоносную полноту, в которой гармония жизни и смерти очевидна. Потом Жулия и Эваристо поинтересовались моим будущим и тут же, вспомнив эпизоды из своей школьной жизни, радовались, правда, несколько поздновато, что состоят в родстве с преподавателем, тем самым чувствуя себя отмщенными за все свои ученические терзания. Отец почти не говорил. Но слушал внимательно, с присущей ему снисходительностью. Он как будто желал, так вот незаметно за разговором, понять нашу жизнь, наши мечты, наши достоинства и недостатки. И все-таки в конце концов, подняв свою седую голову, чуть откинув назад, потом склонив набок, чтобы не выглядеть надменным, но и не утратить твердости, сказал:
– Ну вот, вот и еще раз мы собрались все вместе. И ты, и Томас, и Эваристо. И мы, и Жулия, и Изаура. И малыши. На рождество ждем вас всех, как всегда. Это хорошо, когда мы все вместе. Дом ведь велик для нас с матерью… – Он повернулся к ней – Так ведь, Сузе?
– Не зови меня Сузе.
– Так ведь, Сузанна?
Не знаю, в какой сговор человек входит с именем, которое ему дают при рождении; имя ведь, как и наше тело, тоже – мы. Не представляю с другим именем ни Томаса, ни Эваристо, ни Алваро, ни Алберто. Алваро – это отец, а Алберто – это я. Не знаю, может, именно поэтому матери так не нравилось, когда отец называл ее Сузе. Но отец делал это настойчиво, должно быть, по той же причине – утверждал для себя то, чем она для него была, лепил согласно своему представлению то, что было в его власти: имя.
Помолчав немного, отец спросил:
– Что-то не клеится разговор, а?
Мать, не сводя с него своего особо-печального взгляда, ничего не ответила. А Эваристо сказал:
– Отец! Ты все очень хорошо говоришь. Мы с удовольствием тебя слушаем. Говори дальше.
И он сказал:
– Так вот. Теперь, когда вы все здесь, легче сказать об этом еще раз. Мать все никак не привыкнет, что вы взрослые. Я же думаю, что…
Вдруг он дернулся, схватился за сердце и тяжело рухнул на стол. Подскочила тарелка и на полу разлетелась на мелкие кусочки, упал бокал и залил скатерть вином. Какое-то время мы продолжали сидеть. Потом в панике повскакали с мест и окружили отца. Приподняли его. Седая голова упала на грудь, руки повисли как плети.








