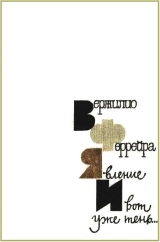
Текст книги "Явление. И вот уже тень…"
Автор книги: Вержилио Феррейра
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 23 страниц)
И вот уже тень…
(Роман)
Человек есть сон тени.
Пиндар, VIII Пифийская ода.
I
Вставляю ключ в дверь, поворачиваю дважды, затем нажимаю на ручку. Ее нет дома. Правда, иногда она запирается изнутри даже днем. Говорит, что боится воров. В газетах чего только не пишут. Поставила три замка вместо прежнего единственного, обила дверь железом сверху, снизу и сбоку. Замки все сложные, как на сейфе. Но она редко запирается на три сразу – значит, вышла. В квартире удушливая жара. Солнце накаляет ее со всех сторон: лето. Дом – башня, такие прогреваются сильнее. Он словно гигантский стеллаж, разлинованный по полкам; пойду в кабинет, посмотрю – может, она оставила записку? Потому что обычно она перед уходом оставляет записку. Почти всегда. «Пошла в кино», «Пошла к таким-то», «Иду к портнихе», «Я в парикмахерской». Но тут меня снова обдает жаром, в доме жарко, я было забыл. А может, из-за того, что она ушла – куда? – внезапный страх, отчаяние. И затем волна жара. Рубашка прилипла к телу, пропиталась потом. Я не пошел в кабинет. Сначала принять душ? И тут подозрение неожиданным уколом. Нет, оттяну неизбежное. Кабинет в самом конце коридора, я снимаю пиджак.
Снимаю пиджак, выйдя на пляж, ни души на желтизне песка, снимаю туфли, снимаю очки, долой все знаки моего унижения, ты появляешься вдали, совсем крохотная, невесомая, я вижу тебя, вижу, ибо знаю, что час настал, любовь моя, mon amour, my love, жженье в глазах, непереносимая нежность.
Снимаю пиджак, раздеваюсь догола, становлюсь под душ. Прохладные струйки колют тело со всех сторон, кожа немеет, покрывается пупырышками. Торопливо намыливаюсь, хлопья пены. Снова открываю душ, неистовая струя, мыло медленно смывается, закрываю кран. Жар мягко распирает шершавость пор, вливается в тело под растирающим его полотенцем. Взять пижаму. Горячая. Сунуть ноги в домашние туфли – не надо. Шлепаю босиком по ковру. Легкая дрожь пронизывает послушные мышцы. Сажусь на софу, на одной ее ручке записка, читаю. Чернила красные. «Я ушла». Сижу с запиской в руке. Потом роняю ее, закрываю глаза, легкий озноб по всему телу. Резко встаю, иду в спальню, кое-что из белья на полу. Ящики выдвинуты. Медленно смеркается.
Сижу на диване, взгляд блуждает по комнате. На стеллаже играет солнце, луч чистый-чистый. Пробивается сквозь штору – видимо, так – касается первой полки, первой книги слева, это «История музыки», ставлю пластинку на проигрыватель. Проигрыватель новый, подарок от нее мне на день рождения. Тут целый комбайн, ищу то, что мне нужно, не нажать бы не на те клавиши. Вещь повторяется бесконечно, называется «Рассвет». Ее назвали так в насмешку, думаю я, голос утра всегда исполнен торжества – даже для тех, кого не ждет победа. А тут рассвет безмятежный. В этой мелодии. Не предвещает ни побед, ни поражений. Ни печали, ни радости, музыка – и только, в этой музыке – очевидность жизни – о чем ты грустишь? Я не грущу. Подхожу к лоджии, смотрю вниз, на пронизанные светом деревья – как мне нравится эта мелодия. Я слушал ее, пока она не проникла мне в кровь, почему ты грустишь? Когда не знаешь почему, еще грустнее. Нет, никаких приступов тоски сейчас, ни в коем случае. Быть мужчиной, вот и все. Принимая большие и малые радости, неприятности – повседневные и те, что переворачивают всю жизнь – с мужеством, которое нужно для того, чтобы просто жить. Но это внезапное одиночество, внезапное чувство беспомощности; оно обволокло меня, я – словно в пустыне. Благие намерения, ну да, благие намерения. Они всегда не во благо. Наши ощущения принадлежат, нам самим, их творит наше тело и все, что внутри него. Но мысли наши – результат работы какого-то механизма, существующего отдельно от нас и купленного в одной из тех лавок, где торгуют мыслью. Нет, есть, конечно, и другие случаи… Но лучше не думать. Как бы то ни было, я снова на диване – а что мне делать? Думать. Разве так уж трудно думать самостоятельно? Непозволительная роскошь. Луч солнца, чистый-чистый. Живой. От пола до потолка – сплошная стена из книг. Среди них, вкраплениями, – ящики для бумаг. На одном стеллаже фотография Элены – почему ты не взяла ее с собой? Все-таки крупица твоего присутствия. Это было на юге, на пляже – сколько лет назад? Явившаяся из волн; и твои белокурые волосы. Длинные.
Я вижу их блеск, они освещают все пространство радостью – там, на другом конце пляжа.
Моментальный снимок, запечатлевший твою прелесть – и на нем твоя счастливая улыбка. Увековеченная для небытия. Твоя улыбка. Ты красива. Не теперешняя ты, постаревшая, – ты так постарела. Блондинки старятся раньше.
Кожа на шее вся складчатая, как у индюшки. Ранняя старость. А на этой фотографии – в самой поре совершенства, в самой силе красоты. Жизни. Высокомерная солнечная белоснежка. Mon amour. Волна вскипает, пенится – и ты шагнула вперед, блеснуло бедро. И смех твой в воздухе, в утреннем сиянии. Я смотрю на тебя сейчас, словно вижу впервые. Купальная шапочка в руке и распущенные волосы – как трудно дается радость. Крохотный треугольник чуть приспущенных трусов, узкая полоска лифчика. И быстрый поворот всего твоего нагого тела. Четкость и свежесть линий, трепетных, нервных, как у молодого зверя. Маленькие груди, стан, сужающийся в талии, тонкий и гибкий. И бедра. Налитые, тяготеющие к земле. Мощнейшие вместилища продолжения рода. Я поселил там нашу дочь, и она стала расти, родилась. Твоя плоть, борение сил, мучительные судороги, терзающие тебя. И память о физических муках вошла тебе в плоть, осталась на всю жизнь – больше детей не будет. Смотрю на тебя. Твое тело. Всего лишь поле постижения жизни – а что еще? Больше ничего. В моей жизни состоялось все. Больше ничего не будет. Все мечты осуществились, верней сказать, исчерпали то, что было в них прекрасного, за исключением одной-двух, но сейчас разговор не о них. Я «писатель», вот так. Вкусил славы и ее радостей, в том числе денежных – что мне в том? Я словно один из тех вельмож, что владеют огромным дворцом, но занимают в нем только угол, – впрочем, нет, и это сравнение не подходит. Я проецирую себя по всему дворцу и за его пределы, и все же я здесь. Внутри своего тела. Первая и последняя истина. А за ее пределами – игры воображения, созданные за счет все того же тела. Говорят, это и есть величие, человеческое начало, торжествующее над началом животным. Господи. Я хочу быть животным! Самообман. Не быть тебе животным. Либо дух, либо все кончено – так обстоят дела в старости. Напиши-ка трактат о старости. Когда страсти изжиты и пыл угас, вот тогда-то дух наконец свободен. Напиши. Или увесистый том о конечности сущего и высокопарную трагедию ночи – о, господи. Хотел бы я быть животным. В полном смысле слова. Тем самым, полностью приемлющим свою долю, вся жизнь свелась к элементарным требованиям желудка и, главное, того, что пониже, там, где созидается все живое. И больше ничего, любимая, по поводу твоей фотографии, сделанной там, на южном побережье. В тот раз Элена сказала мне:
– Нет.
– Почему нет?
– Смешной вопрос. Вы меня не интересуете. Найдется немало женщин, которых вы заинтересуете. У вас уже есть имя, вы уже напечатали книгу.
– Две книги.
А Элия сказала:
– Поймите, для меня это не имеет значения. Человек вызывает интерес сам по себе, а не тем, чем является он для других людей.
– Но если я и являюсь чем-то для других людей, вина не моя.
– Вы хотите, чтобы я сказала вам, что вы стары?
– Но я не стар.
– Да ведь стол или стул стар оттого, что давно сделан. Даже если им и не пользовались.
Mon amour, my love. Не хватит языков, чтобы сказать тебе, что ты для меня. Если бы хоть эта музыка сказала. В своей сдержанной меланхоличности, колеблющейся меж радостью и горечью. А может, предшествующей им. А может, наступающей потом. Слушаю музыку, погружаюсь в забытье, записка лежит на полу. Читаю сверху: «Я ушла». Явившаяся из волн, как во времена богов. И солнце. Падает на твои светлые волосы, озаряет твое ликующее тело. Явившаяся из волн – явившаяся из книг, стеной стоящих снизу доверху во всю ширину комнаты. Пятьдесят лет постижения, ты до и после, пластинка остановилась. Но ты так постарела. Машины на улице. Шум моторов нарастает. Он на пределе. Телефон. Кто звонит? Снова звучит пластинка.
II
Звонит Милинья. Я снимаю трубку – а вдруг это ты? Но это всего лишь Милинья.
– Что ты сделал матери? – спрашивает она. – Что между вами произошло на этот раз?
Но в голосе ее безразличие. Да и в вопросе тоже. По-моему, наши отношения с Эленой – один из комплексов нашей дочери; хотя у нее почти нет комплексов. У нынешней молодежи нет комплексов. Как это вы умудряетесь, у нас столько их было. По любому поводу. Один из ее комплексов – чтобы родители не развелись. Но она и сама еще не развелась, когда ты разведешься? Вышла замуж за этого кретина Тулио, литературного критика, мерзавца, которого я выпестовал и который меня же оплевал. О господи! Если бы ты внушил мне побольше ненависти к нему, чтобы разогнать горечь. Ничтожество, во всем меня копировал. Даже в почерке. Даже в том, что носит очки. Кажется, даже в имени, его зовут Тулио. Меня зовут Жулио.
– Не знаю, что случилось, дочка. Оставила записку, в записке сказано: «Я ушла». Откуда ты узнала?
– Почему бы вам не прекратить ссоры раз и навсегда? Но ты всегда был размазней.
– Откуда ты узнала, дочка?
– Она позвонила из автомата.
Вышла за подонка. Хоть бы ты наставила ему рога, дочка, – хотя среди молодежи рога теперь не в счет, все так упростилось. Он вечно вертелся у нас дома. Как-то раз я застал их за разговором и тогда же сказал ей, что… Но, может, все дело в том, что жизнь отвергает меня. Непохороненного покойника со скопившимися за все эти годы мыслями. И жар в крови, от которого все становилось правдой. Жизнь отвергает тебя, даже в лице твоей дочери, которая принадлежит уже не тебе, а себе. В чем суть моей привязанности к Милинье, хотел бы я знать. Ты родилась, это случилось в дождливую ночь, в марте. Глаза мои заволокла нежность. Музыка мягкая, прислушиваюсь, это третья часть. Земля медленно пробуждается в прохладном свечении росы. И сдержанная меланхоличность, словно избыток меня самого, – какой весомостью наделено все, – кроме бюрократизма жизни, расписанной по графам, кроме ее предсказуемой механичности. Всегда ты был размазней – я всегда был «писателем», «писатель»– вот кто я. Избыток меня самого, уходящий в голубизну пространства, в предвечерний зной. Наливаю себе виски, бутылки спрятаны на книжных полках, прикрыты культурой. Элия давала моей дочери уроки. Философии. Так оно было. Terminus esto triplex, maior, mediusque, minorque[25]25
Три термина (средний и термины в большей и меньшей посылках) (лат.). Имеется в виду первое правило формальной логики.
[Закрыть], прекрасно помню, как все началось. На юге, на пляже. Mon amour. В тот раз ты явилась из волн, на тебе была блузка, сквозь которую просвечивали, розовели груди. Может быть, ты упала в воду с борта прогулочного катера или явилась из глуби морской? Я был одет провинциалом, спросил тебя:
– Вы явились из глуби морской?
Вот дурень, ведь был уже вполне-вполне литератор, мастер на фразы тонкие, глубокие, недоговоренные, так-то. Ты так рассмеялась, белый треугольник трусов приспущен, над ним видна узкая полоска смуглой кожи. Ты так рассмеялась, господи. Я несчастлив. И внешность у меня несчастливая. И к тому же эти очки, очки, я воспарил с их помощью, но красота по ту сторону очков, а я-то – по эту. Может, от виски станет легче, выпей. Прижмуриваю глаза, что же мне делать? Гул машин в отдалении, между ними и мною – неизмеримое расстояние, отделяющее меня от всего на свете. Ты так смеялась, всю жизнь ты смеялась, ты и твои сестры, словно я – твой дефективный дядя Анжело. Твой смех слышится мне с большой фотографии, кажется, я сам ее сделал, это было, когда Эмилия уже родилась, чрево твое вечно девственно. Mon amour. И вдруг я в ярости поднимаюсь, разыщу тебя хоть в аду.
Миг победы, потому что красота – не для меня, хоть я постиг ее, постиг, хоть она живет в моем творчестве, я творю ее для других. Говорят, творю? И тогда я освобождаюсь от всего унижающего и выпускаю ее на волю, и она летит вдоль моря, и я иду, нагой, напряженный, а вдали ты, крохотная, хрупкая, и солнечный пляж безлюден.
Какой он блестящий, луч солнца, нет, я не двинусь с места. Стрелка из света, и в ней клубятся мельчайшие пылинки. Она вонзается прямо в культуру, поджигает ее, воспламеняет, трепетная предсумеречная зачинщица беспорядка. Бьет чуть наискось, сейчас запалила корешок какого-то поэта в разделе поэзии. Каждый день – книги, книги, они словно колода карт в моей жизненной игре. А что ты выиграл? Есть, пить, любить – о, господи. Хотел бы я быть животным – самообман. Не быть тебе животным. Многослойными напластованиями – музыка, поэзия, романисты, рассказчики историй для ребяческого воображения, я тоже там. И философы, ищущие ответы на все «почему», хотя если чуть спуститься с высей этих поисков, все становится безнадежным, болтуны, уже три тысячелетия упражняющие свое говорильное устройство. И ученые. Исследователи, эрудиты, долбилы: история, экономика, точные науки с теориями, готовыми к употреблению. И специалисты по всем религиям, дворняжки, роющиеся в мусорных бачках, что выставлены за вратами веков вперемежку с порожними, ожидающими, когда заполнят их тома документов вселенских соборов: луч озаряет корешок какого-то поэта – что за поэт?
Мысленно я уже у входа в кафе «Атена»[26]26
«Атена» – кафе в Лиссабоне, где собираются литераторы.
[Закрыть], в этом кафе их тьма-тьмущая, оптом и в розницу, сегодня банкет в честь одного. Там всегда банкет в честь одного из них по четвергам, начало примерно в половине седьмого – Элия. Резко вскакиваю – где ты сейчас? Телефон.
– Нет, сеньора, вы неверно набрали.
Какая нелепость, женский голос в трубке. Удивительно похожий на голос Элены. И острота отчаяния, нечего терять – все уже потеряно. Поднимаю себя на высоту своего униженного достоинства – «чего ты хочешь?». То была не она.
– Вы неверно набрали. Нет здесь никакого Адама.
Я Жулио. Жулио Невес, писатель, автор двух десятков книг, некоторые распроданы полностью, величайшая библиографическая редкость, весьма ценимая букинистами. Элена сейчас там, в кафе «Атена».
И я – мысленно – стою у входа в кафе, наблюдаю. Да нет, вовсе, не тебя я высматриваю, чего ты хочешь, вовсе не тебя. Сидишь с Непомусено, Озорио и Сабино. Я вижу тебя со спины, белокурые волосы уложены в высокую прическу, вовсе не тебя я высматриваю. Озорио увидел меня, торопливый взгляд искоса, смешок – то ли от неловкости положения, то ли в ответ на какую-то шпильку Сабино; Озорио, видимо, сказал тебе:
– Здесь Жулио.
Он-то в курсе. Но я делаю вид, что не замечаю. Делаю вид – и провожу прямую линию, соединяющую тебя с Валенте, этим чирикающим стихоплетом с его стишками – пилюльками. Он липнет к тебе до неприличия, вижу очень хорошо, ухаживает напропалую, а ты поглядываешь в сторону и поощряешь. Нет, только не ревность, смешно. После той вечеринки у нас в доме мне сразу это бросилось в глаза. Мой рост – метр шестьдесят пять, я изрядно облысел, и очки к тому же. Дай-ка погляжу для начала, кто здесь собрался – в честь кого из поэтов пиршество?
Сидят кружками – точно блоки сложного механизма, и каждый вращается там, где ему положено: празднество, видимо, еще не началось, но Элии нет – может, еще придешь? Кружки свершают обороты, точно водяные колеса; еще они напоминают мне подсолнухи. Время от времени какой-то элемент выскакивает из своего блока, блуждает неприкаянно, точно осенний листок, затем выходит на орбиту другого кружка, и все пьют. Пьют, не выпуская рюмки из рук, ибо культура вызывает жажду. Я тоже пью – здесь, среди книг. Глухой гул автомашин шестью этажами ниже, я один. Пью, алкоголь горчит, горечь разливается по телу – может, и мне уйти? Вернуться в деревню, к своим истокам – я так устал. Яркий луч солнца, прорезавший скорбную музыку, подобрался исподтишка к стене из книг, вспыхнул живым светом – кто же этот поэт? Это Максимо Валенте, он живет над портретом Элены и в данный момент беседует с какой-то особой из своей солнечной системы. Большое длинноспинное тело и шевелюра а-ля Иисус, вся в завитках. Как будто я не видел улыбки, сверкнувшей по прямой от него к тебе. Я так устал от всего. Позвонить кому-нибудь, снимаю трубку; но кому звонить, не знаю. Вернуться к истокам, к безмолвию царства мертвых, ты – мертвец. Над гнилью, в которую ты превратился, над этой зловонной гнилью – земля пластами, и на твоем могильном холме цветы красноречия – два десятка книг, но эти книги уже живут сами по себе. Они не ты сам.
– Нет, сеньора, нет здесь никакого Адама. Позвоните в аварийную службу.
Ибо книги твои прекрасны (люди так говорят) оттого, что они твоя выдумка, ты наделил их жизненной силой и гармонией, которые извлек из собственной жизни, не удавшейся, лишенной гармонии; они твои детища, внезапно замершие во всей полноте своего совершенства и ожившие в безлюдье над твоим несовершенством, а ты так некрасив. Так жалок. Почти облысел. И уже сутулость. Небольшая. Новенькие челюсти, словно у тебя в третий раз прорезались зубы. И очки. Очки. Когда мне в первый раз удалили зуб – словно нанесли увечье. Отмершая частица меня самого. Дантист был болтлив, вооружен щипцами, кровожаден, хотел вырвать все зубы сразу, может, из-за своих комплексов, у Фрейда есть про это, наверное, или у его учеников. Вернуться к истокам. И в это мгновение снова звучит пластинка, я слышу ее. Есть одно место в третьей части, совсем короткое – как мне больно от этой музыки. Голос одинокой флейты сквозь лес струн. Звучит одиноко – где? За горами, за долами, отвечает горечью на слышащуюся радость. Нежная меланхолия, открывающая дали. Голос ночи в ясном рассвете. Мгновение я слышу, как звучит она у меня в перехваченном горле, в усталых глазах. Длится. Парит над горами, в самой сокровенности скорби. Вернись к истокам – голос флейты вернет тебя к твоим истокам. Туда, где нет людей, где безмолвие мертвых, где смутно зарождаются новые жизни в недрах земли, где перемешались гниль праха и животворные соки. Флейта звучит почти за пределами жизни. Звук сильный, глубокий. Невыносимый.
III
Да, сидеть вот так, слушать музыку – не всегда это возможно. «Перебои в сердце», – сказал кто-то. И верно, если не вижу тебя, если в потоке дней – все те же бесчисленные события повседневности, самодовлеющая сила вещей. И все же хоть бы увидеться с тобой, хоть бы случайная встреча – они так редки. И тотчас снова все сначала, но еще сильнее, воображение поработало в промежутке. Хотел бы я понять, в чем тут дело. Кстати, кто-то еще говорил о «кристаллизации». Кристаллизация – нечто вроде «похлебки из камня». Один монах попросил похлебки, похлебки не было, он сказал: «Я сварю похлебку из камня», а как варить похлебку из камня? Он сказал: «Кастрюля воды, и положить в воду камушек». А потом: «Сюда бы картофелинку». А потом: «Кочешок бы капусты». А потом: «Кружок колбасы». А потом… Кристаллизация. Созидание из Ничего. Но это Ничто – все для моего воображения. Какая нелепость – но нелепость, присущая самой жизни. В жизни все – созидание, основой которому все то же изначальное Ничто, из которого все мы вышли. Голубизна твоих глаз, лед которых не тает при самых высоких температурах. Твое стройное тело, ничуть не своеобразное, своеобразно лишь то, что я о нем скажу. И все-таки… Думаю об этом, и внутри у меня что-то мучительно сжимается. Как трудно. Mon amour. Твои груди, маленькие, неприкосновенные, хрупкая линия бедра. Рисунок походки, запечатлевшийся у меня в нервах. И некрасивый рот, он у тебя некрасивый, но я украсил его пленительной улыбкой. И я сразу словно придавлен тяжестью, мучительное желание увидеть тебя – где ты? Не слышу музыки, слышу всего лишь материальность звуков, поставлю еще раз. И снова он приоткрывается, невесомый мир, прозрачный экстаз умиротворения. О, господи. Как хорошо там внутри. Волнение доводит меня до слез – или до чувства радости, которое сродни слезам. Это волнение особенное, живущее не там, где живут обычные волнения, вызванные обычными причинами. Волнение, как бы состоящее из воздушных пузырьков, вроде пузырьков от газа в газированной воде. Вернуться к истокам. Всепобеждающее желание закрыть прения – когда же вернуться? Может быть, в мае? Или в безмятежную пору осени, когда после сумерек сразу наступает ночь?
Вернись к себе домой, к себе в деревню, пора. Телефон – кому бы позвонить, кто-то здесь прикинулся мертвым передо мною. Но все живы, все еще полны жизненных сил – и мысли их, и принципы, и бедра. В квартире, словно в теплице, я снова весь в поту, может, от виски со льдом? Но когда я снимаю трубку и собираюсь позвонить Милинье, я слышу перебранку, неправильно соединили, разговор зашел довольно далеко, человек – животное общественное. Разговор был такой: шлюха, от гомика слышу, и мать твоя была шлюха, повесьте трубку, а твоя бабушка была дешевка панельная, рогоносец паршивый. Я немного послушал. Ни тот, ни другая не вешают трубку, человек – животное общественное. Смотрю, как луч солнца озаряет поэта, все та же телефонная перебранка. Иногда замолкают на миг, видимо, кончились боеприпасы. Затем начинают с начала. Тогда вешаю трубку я; подождем. Снова снимаю трубку, разговор продолжается. Продолжается следующим образом: а ты оттуда не вылезаешь – снова вешаю. Смешно – меня не смешит – а что тебя смешит? Ищу тебя изо всех сил, как трудно в одиночестве. Одиночество начинается тогда, когда с нами никого нет. Ни женщины, ни мысли, ни плана, сверлящего изнутри. Когда одно только желание – сказать смерти «да». И жизнь – словно рука умирающего, вцепившаяся в простыню. Словно вопль, и пена у рта, и слизь – а дальше безмолвие. А ты сам – словно в пароксизме отчаяния, когда веришь в бессмыслицу, которая за пределами разума. Ищу тебя в бреду, глаза шныряют в лихорадочной суете кафе «Атена» среди мириадов слов, они отскакивают бликами от говорящих – головы их лоснятся культурой и брильянтином; белые руки, жесты, ритм которых задан стаканчиком виски, зажатым в пальцах, – тебя там нет. Но, может быть, я найду тебя среди книг: науки, искусство, литература – книги, рассчитанные на массовую публику и доступные по цене – словно обеды для бедняков, стоимость вина и фруктов входит в общую сумму, – и другие книги, потруднее, исключительно для специалистов высокого класса – словно изысканные обеды, когда не едят, а только смакуют, – тебя там нет. Но, может быть, ты со мной – в усталости и скуке, оставшихся от моих восторгов, от моих завоеваний вместе с сопутствующими им лаврами, и от проблем, которые вызывают усталость и скуку не тогда, когда их разрешаешь, а в момент возникновения; они отбрасывали свой блеск на жизнь, и она блестела этим заемным блеском, ибо в существовании, как таковом, нет ничего интересного: по одну сторону – пустота, к которой сводится все, по другую – ты, Элия, красивая, стройная, твои короткие, как у мальчика, волосы, твой живой будоражащий взгляд, от которого все приходит в движение, в неистовство – тебя там нет. Я вижу лишь дону Аугусту, владелицу книжного магазина, и ее сестрицу. Дону Флавию. Силы небесные. Они моего возраста, но только на них давит сверху куда более тяжкое бремя трудов. Хотя нет, не сверху. Со всех сторон, полчищем типографских литер. Что я здесь делаю? Какой-то тип неподалеку, сидит, как на пьедестале, откуда я его знаю? Он сидит спиной ко мне. Белоснежная голова, плечи квадратные, мощные, плечи человека, привычного к тяжкому бремени, бычья шея. Руки лежат на коленях, мое виски выпито, видимо, он непричастен к культуре. В какой-то момент мне показалось, что голова его свесилась на грудь, но он сразу же спохватился и вздернул подбородок как подобает, блеснули очки в золотой оправе, – что я здесь делаю? Поеду-ка в деревню. Вернись к своим истокам, все ты исчерпал. Тем временем солнечная стрелка жестко поблескивает на полке поэтов, солнечный свет ореолом окутывает холмы, зазвучала вторая часть. Что мне здесь делать?
И я уже там: хорошо выспался в доме на вершине холма. Теперь спускаюсь вниз, в деревню – отправить письмо Милинье. Уже темно, окна распахнуты, ночь – как летняя. Мне нужно было рассказать ей все, подробно изложить все причины, не для того, чтобы объяснить следствия, но для того, чтобы у меня были причины для этих самых следствий – на тот случай, если ей захочется их узнать. Я существо мыслящее, люблю помыслить на разные темы. Любопытно, что когда у причин еще не было следствий, я не знал, что они – причины; иду пешком. Иду пешком до самой деревни, что внизу; полезно для кровообращения, у меня уже бывают застои. Дорога, впрочем, короткая, если идти пешком. На машине пришлось бы сделать большой объезд. Но пешком близко: километр по шоссе, и вниз по откосу – в деревню. Деревня внизу, а я живу наверху, на холме. Построил там дом, еще при жизни моих родителей. У меня были брат и сестра; случались семейные скандалы. Я купил участок на холме, мы построили там наше жилье. Мне это по вкусу, я всегда был бесповоротно здешний, а теперь мне больше и неоткуда быть. Так что на время отпуска… Но Элена меня не одобрила. Ее родина – юг, радость моря, блеск солнца. Солнце живет в ее молочно-белом теле, в волосах – теперь ты носишь короткие волосы, – в живых глазах, даже имя твое солнечно. Солнце – Гелиос, тебя зовут Элия. Правильнее было бы Гелия. О господи, почему ты не сотворил меня совершенным в том смысле, в каком женщины понимают мужское совершенство? Или не подзадержался немного с моим рождением? Как бы то ни было, мои брат и сестра уехали, нашли другие радости существования, а я вот – еще нет. Знаю об этом по сдержанной мелодии, которая снова звучит…
– Как? Да. Но ее нет дома. Нет, ничего не просила, передать.
Музыка снова звучит, она как твоя земля, когда возвращаешься к истокам. Родители мои умерли, оно и понятно, мне за пятьдесят, а ведь я «младшенький». Смешно сказать – «младшенький». Разве можно быть «младшеньким» в пятьдесят? Когда я спускаюсь в деревню, беру с собой ключ, чтобы проветрить дом родителей. Особенно в хорошую погоду – мне представляется, что я возвращаюсь туда в мае. Надо напрячь воображение. Память. В этом все дело. Мне приходится зажмуриться, но и с закрытыми глазами я не вижу толком. Глубоко втягиваю в себя все запахи, которыми пропитались книги. Но обоняние притуплено, должно быть, от табака. А жара снова распирает меня; чистого виски и побольше льда. Обоняние и вкус; кажется, они равнозначны, всякий вкус есть в то же время запах; но это не относится к сладкому и горькому. Или к соленому? А в остальном запах и вкус – одно и то же; делаю глубокий вдох. Светит солнце. Пространство ширится от света, вздымается до уровня голубизны, доходит до линии горизонта. И в этом развороте вширь и ввысь все сущее на земле возносится и ширится. Цвет. Запах. Приостанавливаюсь, стараюсь припомнить все деревенские впечатления во всей целостности и чистоте их абсолютного бытия. Невольно я и сам вижу себя в дали прошлого – и словно распрямляюсь внутренне, обретая совершенство, которого лишен, – волосы густы, зубы целы. И очки не нужны. По обеим сторонам шоссе зацвел дрок. Смотрю на цветы, вдыхаю их запах. Изо всех сил пытаюсь найти в них, в их реальности, самого себя, ирреального. И тут появляются лошади, откуда взялись лошади? Спускаются сверху, навьюченные дроком и сосновыми ветками.
– День добрый!
– День добрый.
Здесь дроком и хворостом топят печи. День добрый. В залитом светом пространстве справа вдали вздымается, багровея, гора. Слева и впереди – бесконечность. Отсюда хорошо видно, что это – бесконечность. Такая же бесконечность, как та, что внутри нас. А я совсем пустой, словно вытек, вылился, словно вся кровь выхлестнулась наружу, полнейшее отсутствие – как будто тебя нет. Быть может, и смерть – в том, что все наше существо переходит в микрочастицы. У поворота шоссе – мельница. У окна сидит мельник, на голове – шляпа.
– Ну как, вам лучше?
Он закрыл глаза, пожал плечами, вздернул брови. Нет, ему не стало получше. Исхудалый, бледный, кости черепа четко обозначились. Кашляет. Зеленоватая кожа. Глаза впалые, с лихорадочным блеском. Кашляет. Смотрит в бесконечность. И я говорю:
– Сегодня вам вроде бы лучше.
Он закрыл глаза, пожал плечами, вздернул брови. Внизу под мельничным колесом бурлит вода, текущая из каких-то своих тайных глубин. Слышно бульканье и кашель мельника. У него чахотка медлительная, ей потребуется время, чтобы доконать его. Я еще слышу плеск воды, вижу, как она блестит на перекате. Щебечут птицы. Воздух искрится.
IV
Море искрилось по всей поверхности, был прекрасный летний день. Начало у меня получилось, как в детской книжке – для малых и больших: «Был прекрасный летний день». Я отправился на юг, на побережье, взял с собой рукописи, «чтобы поработать». Так поступали все великие мастера слова, я уже был писателем. Писатели всегда выезжали в разные места отдыха; места, куда они едут, становятся знаменитыми, их названия мелькают в газетах. Такой-то уехал в Канны доканчивать новый роман, или на Коста-Брава, или еще куда-то, так сообщается в хронике, повествующей о великих. Даже если великие никуда не едут. Я поехал на юг, на побережье. На самом деле я мог «работать» только в привычном своем углу, где окружающие предметы уже знают меня. И настолько, что ни они не обращают на меня внимания, ни я на них, нас роднит та дружба, при которой говорить не о чем. Это книги: научные, по искусству, художественная литература, а еще у меня здесь есть порции алкоголя через определенные промежутки времени и фотография Элены, выходящей из воды. Я смотрю на нее, она шагнула вперед – и смех лучится в брызгах света. Вокруг столько народу, но на фотографии никого больше. И я один перед твоей фотографией, одетый – но моя нагота была бы неоправданной. Ты идешь мне навстречу. Взлет пены – она точно мантия, волочащаяся за тобой, а ты сама – воплощение животворной силы моря. И тут на ум мне приходят слова – они летят от меня к тебе, как луч яркого солнца, что играет сейчас над твоей фотографией; настал час поэзии:
– Вы явились из глуби морской?
Она только смеется в ответ, ибо огонь радости сжигает все, даже глупость. Но в этот момент три сестры Элены становятся рядом со мною, словно вводя меня законным образом в круг семьи, и мы, все четверо, ждем тебя. Там была Линда, собиравшаяся выкупать куклу, Кармо в черных очках, дочитывавшая детектив, и Инасия, вязавшая что-то крючком. Такая милая эта Инасия. Одна рука у нее была короче другой, ладонь вывернута, как плавник. И улыбка. Такая щедрая. Лошадиные коричневые зубы. Отец изготовил дочек в два приема. В три. Сперва произвел на свет Инасию и сделал перерыв. Инасия на десять лет старше Элены. Но поскольку Инасия растила сестер после смерти матери, умершей при рождении Линды, и поскольку она страдала описанным выше врожденным увечьем, казалось, что она старше Элены на все двадцать. Кармо родилась через четыре года после Элены, в ту пору ей было шестнадцать. И самая младшая – Линда, полное имя – Эрмелинда, родившаяся, когда, казалось, шествие уже закончено; ей в ту пору было десять. Теперь возрасты сестер рассчитать нетрудно. Элена стоит неподвижно у самого берега, волны за спиною, в воздухе клочья пены, они тоже неподвижны. Она стоит, я стою, сестры укрылись под навесом. Нам нужно сказать друг другу одно только слово, головокружительное и абсолютное, переполненное вечностью, выхлестнувшейся из нашей встречи. Я боюсь произнести это слово, она ждет. Взлет белой пены. И солнце. И я говорю… Нет, не то совершенное слово:








