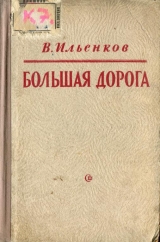
Текст книги "Большая дорога"
Автор книги: Василий Ильенков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц)
Сели за стол. Владимир разыскивал глазами Машу, придерживая рукой стоявший рядом стул, оберегая его для Маши. Она в это время помогала Анне Кузьминичне нести из кухни столик, потому что не все разместились за большим столом.
– Спасибо, – вдруг услышал Владимир голос Наташи, и она села на стул, который он придерживал рукой. – Вы для меня ведь его берегли? – спросила она с лукавой улыбкой. – Мой рыцарь еще не вернулся с кордона. Видимо, у него все еще болит голова от неудачи с медведем… Как он расстроился, если бы вы видели! Ведь он вчера торжественно поклялся, что положит к моим ногам медвежью шкуру.
Маша села напротив, и Владимир подумал, что так даже лучше, потому что он может смотреть на нее неотрывно, не обращая на себя внимания окружающих. И чем больше он любовался, тем красивей казалась она. Особенно хороши были глаза у Маши: они то сияли в веселой улыбке, то прятались за густыми ресницами, становились непроницаемыми, то вдруг широко раскрывались в радостном изумлении.
Владимиру хотелось смотреть на нее и молчать. Но нужно было отвечать на вопросы Наташи.
– Вот вы говорите, Владимир Николаевич, что у каждого должна быть большая цель в жизни. Но большинство-то живет просто маленькими интересами своей семьи: радуются, когда рождается ребенок, плачут, когда умирает близкий. Но я никогда не видела, чтобы плакали, узнавая из газет, что где-то землетрясение разрушило город и погибли тысячи людей. Вот сейчас на западе идет ужасная война, а посмотрите вокруг: все едят, пьют, смеются, говорят о пустяках, и даже генерал думает больше о соленых рыжиках, чем о войне.
– Мы же не внаем, что сейчас происходит в его душе…
– Нет, знаю. Знаю, о чем и вы думаете сейчас, – все с той же лукавой улыбкой сказала Наташа.
Академик расспрашивал Андрея Тихоновича о повадках медведей. Старик, выпив с ним несколько рюмок, проникся доверием к ученому человеку и рассказал о том, что видел он в кустах орешника.
– Рука не поднялась, Викентий Иванович. Сам в толк не возьму, что со мной сделалось, – и про ружье забыл… Думаю, мне уж помирать скоро…
– Это потому, что вы о боге вспомнили, – задумчиво проговорил академик.
– А разве вы верите в бога? – удивленно спросил Николай Андреевич.
– Видите ли… собственно говоря, конечно, нет… – смущенно пробормотал академик. – Но если даже оставаться на почве науки, то… все-таки остается непознаваемая Бесконечность… – и умолк, видя, что на него все посматривают с каким-то сожалением, как на больного.
– Чего уж тут… Даже в центральных газетах было напечатано, – сказал Тарас Кузьмич, обгладывая поросячью ножку. – Даже с большой буквой: «Патриарх почил в Бозе…»
– А где это… «в Бозе»? – спросила Маша.
– Как «где»? – поперхнувшись, переспросил Тарас Кузьмич, он испугался, что его сейчас начнут экзаменовать по политике. – Вообще…
– Вы сказали: «в Бозе». Где этот город? – спросила Маша.
И тут грохнул такой смех, что затряслись, зазвенели бутылки, а Маша смущенно оглядывалась, не понимая, почему смеются, щеки ее горели алым огнем, а все лицо было озарено наивной, детской улыбкой.
Владимир, любуясь ею, подумал: «Как она хороша!»
Владимир слышал разговор деда с академиком о том, что произошло на облаве, и с восхищением смотрел на Андрея Тихоновича, растроганный его поступком.
– Ваш дедушка напоминает мне Платона Каратаева с его всеобъемлющей любовью ко всему живому, – этакое олицетворение всего круглого, мягкого на земле, – продолжал академик немного приподнятым тоном, как будто читал стихотворение. – Свет с Востока!
Владимир удивленно взглянул на академика, пораженный сходством его мыслей с тем, что волновало его самого уже давно, и вместе с тем в душе его закипело страстное чувство протеста.
– Дедушка предпочитал жечь помещичьи амбары и даже, кажется, в имении ваших родственников…
– Теперь уж я признаюсь, Викентий Иванович, – сказал Андрей Тихонович, – пинка-то под зад тогда я вам дал за царя.
Все расхохотались, и громче всех Тарас Кузьмич, изрядно захмелевший.
– Вы неправы, – сказал Владимир, обращаясь к академику. – Свет с Востока – это свет революции, а не какой-то особой, «круглой», русской души. Вот Семен Семеныч ведет летопись местной жизни. Книгу добра. Он вам скажет, когда люди в Спас-Подмошье стали добрыми и «круглыми». Да, теперь мы можем сказать миру: с Востока свет!
Говоря это, Владимир смотрел на Машу, и ему казалось, что она излучает этот радостный свет, видимый всем. Он говорил о письмах из-за границы, которые присылают Маше люди, проклинающие свою судьбу, просят у нее совета, как найти свое счастье…
Николай Андреевич постучал ножом о стакан и торжественно сказал:
– Предлагаю выпить за Машеньку, которая прославила на весь мир наш Краснохолмский район!
– Вот видите, каждый говорит только о своем, – заметила Наташа. – Вот этим и живут люди, а не тем общим, большим, куда вы зовете их. Да и сами вы, Владимир Николаевич, тоже заняты своим маленьким счастьем.
Владимир хотел возразить ей, но в это время двери из сеней распахнулись и на пороге появился Борис. Он втаскивал вместе с Тимофеем в комнату что-то черное, косматое, огромное…
– Я убил! – крикнул он, сияя гордой улыбкой. – Вот… и медвежата у нее были…
Он вытащил из-за пазухи медвежонка и положил на пол рядом с медведицей. Тимофей достал из сумки еще двух медвежат.
– В орешнике лежала. Ощенилась и лежит, – с глуповатой улыбкой сказал он.
Все, выйдя из-за стола, молча, угрюмо глядели на медведицу и ползавших на полу медвежат; они тыкались в соски мертвой матери и чуть слышно пищали.
– Как же это вы так сумели? – спросил академик, осуждающе глядя на Протасова.
Но тот, ничего не соображая от радости, громко сказал:
– Стоит лишь захотеть – и всего можно достигнуть… Я сказал себе: медведь будет мой – и вот…
– Убери это… сейчас же! – запинаясь, глухим голосом сказал Владимир, шагнув к Борису.
– Это почему же? – раздраженно спросил Борис, с неприязнью оглядывая его.
– Потому… потому что… – задыхаясь от волнения, проговорил Владимир, – это подлость! – и он выбежал в сени, столкнувшись с прокурором и лесничим, пьяно оравшим:
– Борису Протасову ура-а-а!
Со всей деревни к дому Дегтяревых сбегались люди посмотреть медведицу. Андрей Тихонович вслед за Владимиром вышел из комнаты и, проходя мимо Тимофея, сказал:
– Сукин ты сын!
Маша выбежала на крыльцо, но Владимира там не было. Она поспешно накинула на себя полушубок, взяла пальто и шапку Владимира и пошла искать его. От огорчения, что такой веселый, чудесный вечер оборвался, и понимая, что теперь уже ничем нельзя поправить дело, Маша заплакала.
Все стояли в замешательстве вокруг туши медведицы, и у всех было такое чувство подавленности, словно в дом внесли гроб. Один лишь Тарас Кузьмич суетился, стараясь как-нибудь сгладить это неприятное чувство.
– Хищников нужно убивать без всяких философий… Медведи приносят большой вред сельскому хозяйству… – говорил он унылым голосом, и эти общеизвестные истины только усиливали чувство душевной тяжести, которое испытывали все, и никто не смотрел на него. – Одним выстрелом ты, Боря, убил четырех медведей…
– И уважение к себе, – тихо добавил Белозеров.
– Нужно снять шкуру, – как бы не слыша этих слов, сказал Борис отцу. – Наташа возьмет ее с собой в Москву.
Наташа, широко раскрыв глаза, смотрела на Бориса, испытывая жгучий стыд и страх, что этот человек будет ее мужем. Но еще более потрясло ее то, что Борис не понимал низости своего поступка, – возбужденный, красный от волнения, он наливал в стакан вино и жевал что-то, ворочая своими тяжелыми челюстями.
«За что же я могла полюбить его?» – с ужасом подумала Наташа.
Она познакомилась с Борисом в прошлом году, на студенческой вечеринке. Огромный, сильный, пышущий здоровьем, он показался ей олицетворением той силы, какой нехватало ей самой. Когда она возвращалась домой поздно ночью, Борис шел рядом, и Наташа надежно опиралась на его руку, как на дубовые перила. Потом оказалось, что Борис умеет как-то легко делать все житейские дела, которыми Наташа не любила заниматься, потому что не была приспособлена к этому. И вскоре случилось так, что Борис стал необходим в ее жизни, как бывает необходим зонтик в дождь или знойный полдень. Наташа решила, что с таким человеком будет удобно жить, – он избавит ее от мелочных забот, добудет все, что нужно для жизни.
Теперь она чувствовала раздражение против этого пышущего здоровьем и силой человека с мелкой душой мещанина. Она растерянно оглянулась, ища глазами Владимира и стыдясь встречи с ним. «Что теперь он подумает обо мне? Я должна объяснить ему все… Я скажу, что одного «зонтика» недостаточно, чтобы жизнь была счастливой… Нужно что-то еще… что-то еще».
Тимофей, кряхтя, вытащил тушу из комнаты. На полу осталось темное кровяное пятно, и Анна Кузьминична закрыла его половичком. Ирена занялась медвежатами, пытаясь напоить их молоком, медвежата жалобно и тоненько пищали, как котята. Они были еще слепые.
Анна Кузьминична со слезами на глазах перемывала посуду на кухне. Ей было обидно, что светлый день омрачился скандалом.
– Все испортил твой нервный сынок, – сказал Тарас Кузьмич, засучив рукава, и стал натачивать длинный нож на бруске; он был очень похож на мясника, толстый, краснощекий, лысый. – Это все результаты твоего свободного воспитания, – он презрительно подчеркнул слово «свободного». – Если бы даже и было основание какое-нибудь, то промолчи, не порти всем настроения. Не помню, кто сказал: «Истинное благородство не в том, чтобы не проливать суп на скатерть за общим столом, а в том, чтобы не замечать, что другой пролил суп». Такт надо иметь, а у Владимира нет такта… – Тарас Кузьмич попробовал пальцем острие ножа. – Окорока мы закоптим, а из мяса наделаем колбас… Борис убил зверя. При чем же тут подлость? Подумаешь, медвежат стало жалко!.. Толстовство!
– Не в медвежатах дело, – сказала Анна Кузьминична. – Борис обманул всех, чтобы одному взять медведя. Это нечестно…
– Он говорит, что Тимофей наткнулся на медведицу случайно и некогда было уже посылать за остальными: она могла уйти.
– Но Тимофей успел съездить за лесничим и прокурором… Твой Борис думает только о себе, – он был такой и в детстве… Да, у него здоровые нервы… слишком здоровые, чтобы тонко чувствовать, – взволнованно сказала Анна Кузьминична.
– В здоровом теле здоровый дух, говорили римляне, – поучительно сказал Тарас Кузьмич, шаркая ножом по бруску.
– Ах, мы никогда не поймем друг друга! – воскликнула Анна Кузьминична, выходя из кухни, чувствуя, как к глазам подступают слезы.
Ей было обидно, что все хлопоты ее и заботы о том, чтобы встреча Нового года прошла как можно веселей, пошли прахом, что погасло то радостное чувство удовлетворения, какое испытывала она оттого, что все хорошо зажарилось, испеклось, сварилось, все выглядело аппетитно, красиво, все было вкусно, что за столом сидели самые близкие, самые почетные гости.
А теперь, видя угрюмые лица гостей, она думала, что не только Тарас, но и другие считают ее виновной в том, что у нее такой невоспитанный, бестактный сын.
– Вы уж извините, что так вышло, – сказала она академику, приглашая его снова за стол. – Володя всегда вот так… прямо…
– У вашего сына хорошая душа, чистая, открытая. Вы можете гордиться своим сыном, – сказал академик. – Он вот прямо сказал, в лицо, а я не мог, хотя подумал так же, как и ваш сын. У меня нехватило смелости… Результат лицемерного воспитания: не говорить открыто того, что думаешь, улыбаться, когда у тебя сжимаются кулаки от гнева. В нас воспитывали двоедушие, лицемерие, уменье маскироваться. И это въелось в нашу душу навсегда, на всю жизнь. На смену нам идут чистые сердцем…
Приехал Шугаев. Третий день он разъезжал по району – поздравлял народ с Новым годом. Иван Карпович сам ввел этот обычай и строго соблюдал его уже много лет: он приезжал в селение, говорил несколько ласковых, веселых слов и, пожелав людям доброго здоровья и благополучия, ехал дальше. Людям нравилось, что сам секретарь райкома партии приезжает к ним издалека и не за тем, чтобы требовать от них чего-нибудь, а просто поздравить с наступающим Новым годом, как поздравляют своих родных и близких. Но потом, когда Иван Карпович обращался к людям с какой-нибудь просьбой: ускорить уборку хлеба или засеять побольше льна, – люди уже сами, без лишних напоминаний, с удовольствием выполняли каждую просьбу Ивана Карповича, как «своего» человека.
– Давайте выпьем за народ наш! – предложил Шугаев, поднимая стакан. – За нашего хозяина, бывшего батрака, ставшего большим человеком нашего общества…
– Разве вы были батраком? – спросил академик, чокаясь с Николаем Андреевичем.
– Пять годов. У вашего папаши, – улыбаясь, сказал Николай Андреевич.
– Вот как, – пробормотал академик, рука его дрогнула, и вино пролилось на скатерть. – Глупо умер старик… Сосулька с крыши свалилась – и по голове…
– Помню, помню этот день, – сказал Тарас Кузьмич, – Николай Андреевич снег с крыши счищал… Падали сосульки… падали!
Все умолкли, и настала такая тишина, что было слышно, как тяжело дышит Андрей Тихонович.
– Выпьем за народ наш! – повторил Шугаев, чтобы прервать эту неприятную тишину. – За вас, Викентий Иванович!
– Простите, – смущенно пробормотал академик, – вот видите, какой же я народ? Народ – это вот те, кто своими руками добывает хлеб… Вот как Николай Андреевич… А мы интеллигенция. Люди мысли…
– С этой точки зрения и Николай Андреевич такой же интеллигент, как и вы. Он ведь тоже академик, – сказал Шугаев.
– Как? Я не понимаю вас, – удивленно проговорил Викентий Иванович.
– Сегодня мне позвонили из Москвы и сказали, что Николай Андреевич за свои заслуги в области колхозного строительства избран членом Академии сельскохозяйственных наук имени Ленина. Поздравляю, Николай Андреевич! – Шугаев подошел к Дегтяреву и обнял его.
Все обступили Николая Андреевича, а он смущенно улыбался, не понимая, какой же он академик, когда не кончил никакой школы и даже в земском училище учился только одну зиму. А то, что он делал в колхозе двадцать лет, казалось ему, не имело никакого отношения к науке и было обыкновенным трудом, каким была заполнена вся его жизнь и жизнь его предков.
И Шугаев, подметив недоумение в глазах его, заговорил о том, что тысячи лет люди жили «кажон сам по себе», в своей норе, мало чем отличаясь от любого зверя, который тоже живет в своей норе, избегая себе подобных. Но в Спас-Подмошье уже двадцать лет люди живут объединенно на общей земле, и эту объединенную жизнь сотен людей организует председатель колхоза Николай Дегтярев, который нигде не учился сложному делу управления людьми на разумных началах коллективного труда, потому что нигде и никто до него такого не делал и научить Дегтярева никто не мог. Он сам проложил новый путь в жизни своим умом, своей догадкой, своим талантом руководителя. И теперь другие будут учиться у него, Николая Дегтярева, и не только шемякинцы, которые еще не научились разумно жить и трудиться, но и китайцы, и немцы, и французы, и болгары, и все, все человечество…
И когда Шугаев сказал это, все вдруг с изумлением посмотрели на Николая Андреевича, будто увидели его впервые, хотя Шугаев не сказал ничего такого, что было бы неизвестно им. Нет, все это они знали и сами, все это окружало их, но они не вдумывались в это, не вглядывались, потому что торопились все вперед и вперед, а Шугаев вдруг остановил всех и сказал: посмотрите, какое великое дело вы совершили сами!
– Мужик стал коммунистом, – продолжал он, – и это самое изумительное, что мы сделали, товарищи, за годы советской власти. Мы можем гордиться, что создали новый тип крестьянина, который научно мыслит и научно трудится на своей земле…
– Позвольте, кто это «мы»? – спросил академик, потому что Шугаев, говоря, все время смотрел на него.
– Все мы… и я… и вы, Викентий Иванович. Большевики…
– Простите, я беспартийный, – пробормотал академик.
– Это не имеет значения, Викентий Иванович, – с улыбкой сказал Белозеров. – Мы делаем одно дело: создаем новый мир… будущего человека…
– Я не люблю громких слов, – сердито сказал академик. – О будущем писали и говорили сотни лет… А человек попрежнему, как и сто лет назад, остается неизменным… Вот вы сами видели сейчас, кому достался медведь…
– В семье не без урода, – сказал Шугаев. – Но вы, Викентий Иванович, видите урода и не видите всей семьи…
– Что ж, пойдемте, посмотрим вашу «семью», – с вызовом и веселым озорством проговорил академик. – Побродим по деревне, посмотрим настоящих, живых, обыкновенных людей… Кстати, и головы проветрим.
– И я с удовольствием присоединяюсь к вам, – сказал Белозеров. – Перед отъездом я был у товарища Сталина. И он просил посмотреть, как идет жизнь на смоленской земле. Ведь здесь проходит великая дорога с Востока на Запад. По этой дороге на Москву шли все любители легкой добычи. Литовцы шли. Поляки шли. Наполеон шел…
Гости ушли в сопровождении Николая Андреевича. Молодежь принялась танцовать. Генерал и Егор сели за шахматы.
К ночи мороз сменился оттепелью. Падал редкий снег. В домах светились окна, хотя было уже заполночь.
– Это хорошо, что у вас люди живут в своих небольших домиках, – сказал академик. – Люди любят свое, пусть маленькое, не очень удобное, но свое… Вы их к коммунизму тащите, а они вот в своих избушках хотят жить. Давайте зайдем в такую семью, где много детей, – вдруг предложил он, и в голосе его послышалось плохо скрытое торжество.
– Можно зайти к Дарье Михайловне, у нее много ребятишек, – сказал Николай Андреевич.
– Вот, вот! К Дарье Михайловне, – академик подхватил под руку Шугаева.
– Дети, вероятно, спят уже, – нерешительно сказал Шугаев, – поздно ведь…
Но академик силой потащил его к дому.
– Нет уж, пойдемте, не отвертитесь.
В доме было шумно: еще в сенях слышны были детские возбужденные голоса, смех, топот. Посредине комнаты стояла высокая – до потолка – елка, украшенная золотыми и серебряными нитями, звездами, стеклянными шариками, крохотными электрическими лампочками, а вокруг елки толпились дети.
– А мы встречали Новый год, – сказала женщина лет пятидесяти с усталым лицом, но веселыми глазами. – Я за день так замоталась со своими ребятами, что на ногах еле держусь.
– Как же вы одна управляетесь с такой большой семьей? – спросил академик, разглядывая ребятишек.
Все они были чисто одеты, и лица у всех были веселые. Ребята о чем-то спорили. Здесь были и малыши, и школьники, и юноши с комсомольскими значками, и девочки-подростки.
– Трое сейчас в Москве учатся. Один в армии, а старшая девочка уже учительницей в соседнем селе, – объясняла Дарья Михайловна. – Дома осталось шестеро.
– А я не хочу поднимать руку за Павлика! – запальчиво крикнул подросток с красным галстуком. – Куклу надо отдать Карменке. Вот! Потому что она сирота…
– Карменка? – спросил академик. – Почему у нее испанское имя?
– Карменка, поди сюда, милая! – позвала Дарья Михайловна.
И девочка подбежала к ней и прижалась к коленям.
– Она действительно похожа на испанку, – сказал академик, любуясь темными глубокими глазами девочки.
– Она из самого Мадрида, – сказала Дарья Михайловна. – Отца ее убили, а мама неизвестно где… Когда их много привезли оттуда. Николай Андреевич и говорит: «Поезжай-ка, Дарья Михайловна, и возьми троих». Ну, я поехала и взяла. Вот они и живут у меня…
– Так это у вас что же… детский дом? – спросил академик, поднимаясь с таким видом, словно его обманули.
– Нет, зачем же детский дом? Они, испанцы эти, у меня живут, в семье, вместе с моими детишками, как свои, – сказала Дарья Михайловна и погладила рукой по курчавым волосам Карменки. – Оно хоть и своих порядочно, да ведь их тоже пожалеть надо… Их фашисты осиротили, – тихо сказала она.
Девочка вздрогнула, и глаза ее еще больше потемнели, а пальчики сжались в кулачок: она уловила знакомое ей, ненавистное на всех языках мира слово.
– Карменка! Карменка! – закричали дети. – Иди скорей сюда!
Девочка побежала к елке, и ей вручили большую куклу. Она прижала ее к груди и счастливо улыбнулась.
– Спасибо вам, Николай Андреевич, за игрушки. Такая уж великая радость сегодня у ребятишек, – сказала Дарья Михайловна. – Мы-то сами без игрушек росли… А они вот вырастут и нам добром отплатят за нашу ласку. – Дарья Михайловна помолчала и задумчиво добавила: – Дожить бы!
– До чего дожить? – спросил академик, изумленно глядя на нее.
– До всемирного колхоза, – ответила Дарья Михайловна и недоуменно посмотрела на него, удивляясь, что он не понимает таких простых вещей.
– Куда теперь пойдем? – спросил Николай Андреевич, когда вышли из дома Дарьи Михайловны.
– Пусть уж сам Викентий Иванович выбирает, – сказал Шугаев, – а то подумает, что вы водите нас по выставке.
– Да, я хотел бы увидеть обыкновенную… простую, нормальную жизнь, – с легким раздражением проговорил академик. – Вот в этот дом зайдем, – указал он на маленькую, завеянную снегом избушку с темными окнами.
– Ерофея-то сейчас дома нет. Придется завтра зайти, – сказал Николай Андреевич. – Он, верно, в гости ушел. Любит старик выпить.
– Нет уж, вы, пожалуйста, разыщите его. Завтра утром я уеду. Я хочу сейчас зайти к нему, – настойчиво сказал академик.
И Николай Андреевич пошел искать хозяина избушки.
Викентий Иванович сказал:
– Эта Дарья Михайловна подтверждает лишь то, что наш русский народ всегда думал о всем человечестве. Мы, русские, спасли Европу от татарского нашествия, загородили своей грудью дорогу на Запад. Мы спасли Европу от Наполеона, принеся в жертву свои деревни и села, Москву… десятки тысяч людей, павших на Бородинском поле. Русский человек всегда был чуток к чужой боли… И большевики использовали эти хорошие качества народа нашего как движущую силу революционного переворота.
Подошел Николай Андреевич в сопровождении Ерофея, который заметно покачивался, распространяя вокруг запах водки.
Он что-то сердито бормотал, отпирая большой замок, висевший на дверях, огромным ключом, похожим на топорик.
– Замок редкий, – заметил академик.
– От деда остался замок-то. Как пошел по деревне слух: от Смоленска француз идет с Наполеоном, а с ним видимо-невидимо всяких народов, голодранцев разных… Ну, запер избу на этот замок, а сам с вилами в лес… Таких замков теперь нигде больше не увидишь, – с гордостью сказал Ерофей, открывая скрипучую дверь. – Проходите. Только не обессудьте: холодновато у меня. Дровишек маловато… Не думал я, что зайдете…
– Ничего, ничего. Это даже лучше, – обрадованно заговорил академик. – Попросту, как в жизни.
– А у меня все как есть натурально, – сказал Ерофей усмехаясь.
– Ты свет засвети, Ерофей Макарыч, а то ушибется товарищ профессор: ничего не видать, – сказал Николай Андреевич. – Мы-то привычные.
– И свет сейчас будет. Все будет… Спичек вот только нет. Ну, у меня на загнетке горячие угольки завсегда. Сейчас огонюшко вздуем, – Ерофей подошел к печке и принялся шумно раздувать угли, тлевшие под золой.
Вспыхнул робкий огонек, загорелась тоненькая лучинка, которую Ерофей Макарыч пронес по избе, держа над головой.
Посредине избы стоял на треноге светец с воткнутой в него длинной лучиной, а под ним лохань с водой. Ерофей Макарыч зажег лучину в светце, она загорелась ярко, большим коптящим огнем, и сразу в избе стало светло.
– Садитесь на лавку, – пригласил Ерофей Макарыч, а сам поднес остаток горящей тоненькой лучинки к лампадке, висевшей перед иконами в углу. – Теперь все вроде в порядке… Без бога не до порога, как говорится, – проговорил он с легкой усмешкой.
Огромная печь занимала почти половину избы. Между печкой и стеной виднелись деревянные нары, застланные соломой, на которой лежала домотканная дерюжка. Две скамьи тянулись вдоль стен, темных от копоти. Низкий и тоже черный потолок висел почти над головой, и с него спускались черные нити закопченной паутины. На столике под божницей стояла миска с какой-то едой, лежали деревянная грубо выточенная ложка и темная буханка хлеба, съеденная наполовину.
На полочке стояли глиняный кувшин и жестяная кружка. У двери деревянный ушат с водой. На стене, на деревянном колышке, хомут и какая-то веревка.
Застарелой нищетой веяло от этого убогого жилья. От горящей лучины отваливались раскаленные угли и с шипением падали в лохань с водой. Изба наполнилась синим чадом, колыхавшимся от дыхания.
– Почему же вы не проведете себе электричество, как у всех? – удивленно спросил академик.
– Да ведь оно, электричество-то колхозное. А я сам по себе. Единолично существую.
– А почему же вы не вступаете в колхоз? – спросил Белозеров.
– Да ведь оно, свое-то милей… Как говорится: оно хоть и корявое, да свое.
– Не богато, – сказал академик, покашливая от дыма. – А где же семья?
– А вон, на печке, – скакал Ерофей Макарыч.
И тут все увидели детские головки, свесившиеся с края печки с каким-то тупым выражением застывших в равнодушии глаз.
– Да… вот это жизнь, – тихо проговорил Белозеров.
– Да уж у меня без прикрасы, как есть, натурально, – сказал Ерофей Макарыч, раскуривая трубку. – Все сам, своими руками делал. Никто не помог… Я все люблю свое, вот, скажем, взять хотя бы эту ложку, – Ерофей Макарыч взял со стола ложку и подал академику. – Сам выточил. Из липы… Во всей избе ни одного гвоздя железного – все на дереве держится.
– Да, да… свое… Тысячелетия живут люди для себя. И это неистребимо, – сказал академик, с укоризной глядя на Белозерова, который протирал платком слезящиеся глаза. – Вот она, страшная правда!
– Да уж куда страшней! – весело сказал Ерофей Макарыч, меняя лучину. – Все, которые ко мне заходят, ужасаются. У меня там, во дворе, – сейчас-то темень, не видать, а днем придете, покажу все свое хозяйство: и соха, и борона деревянная, и капкан…
– Капкан? – удивленно спросил академик. – Вы охотник?
– Дед охотился, и отец тоже. А капкан этот на медведя устроен был, да попал в него не зверь, а человек… Богач у нас тут был, Сигней. Ну он и попросил у отца капкан и поставил его возле своего амбара, снежком его притрусил, а утром пришли – человек попался, так ему и оттяпало ногу-то… Многие теперь этим капканом интересуются…
Академик встал и, уходя, протянул десять рублей Ерофею Макарычу.
– У меня все бесплатно, – с гордостью сказал старик.
– Возьмите… детишкам, – пробормотал академик, засовывая деньги ему в карман.
– Ну я же вам говорю: музей наш бесплатный для всех.
– Какой музей? – растерянно спросил академик.
– Да вот этот самый. Музей одноличного хозяйства. Вот Николай Андреевич на правлении предложил: оставить мою избенку в натуральном виде, чтобы дети наши видели, какова она, жизнь, была…
Белозеров фыркнул и выбежал из избушки, стукнувшись о притолоку головой.
– Позвольте, а дети? – воскликнул академик, задыхаясь от ярости. – Дети тоже?
– А как же! – все с той же веселой гордостью сказал Ерофей Макарыч. – Сам из воску лепил… А волосенки из льна. Ну, как живые!
– А теперь куда пойдем? – спросил Шугаев, сотрясаясь от смеха.
– Вы, оказывается, большой шутник, – сердито проговорил академик. – Никуда больше я не пойду.
– Клянусь вам, Викентий Иванович, я сам был уверен, что этот Ерофей Макарыч – всамделишный единоличник и все в избе настоящее, и дети… и кот, – уверял Шугаев, вытирая слезы…
– И кот был? – изумленно воскликнул Белозеров.
– Вы сами, Викентий Иванович, выбрали самую маленькую избушку, – сказал Шугаев. – Все маленькое, мелкое, жалкое, «свое-мое» уходит в прошлое, в музей, – люди хотят жить крупно, вольно, на полный размах души своей… И знаете – что? Если этого не поймешь, то легко можешь очутиться и сам в музее, в качестве вот этакого «одноличного человека», как выразился Ерофей Макарыч… Пойдемте же, Викентий Иванович, доверимся товарищу Дегтяреву. Пусть он ведет нас и дальше по кругам своего рая.
– Ну что ж, – пробурчал академик. – Ведите.
– Зайдем к самому богатому человеку в Спас-Подмошье, – сказал Николай Андреевич. – К Александру Степановичу Орлову. Это отец той девушки, Маши, которую вы видели у нас в доме. На всю деревню он славился раньше своей жадностью. Над каждой копейкой бывало трясется, все воров боялся… Из-за жадности и жену свою сгубил. В колхоз итти не захотел: жалко ему было отдавать коня, хомут, сани. Покрутился, повертелся, видит, что все пошли в колхоз, и он подал заявление, привел коня на колхозный двор. А через месяц опять назад: желаю, мол, жить по-своему, отдайте коня. Ну, конечно, коня мы ему не вернули, обозлились на него. Он и уехал куда-то искать свое счастье, а Машу бросил на наше попечение, в колхозе. Где уж он бродил, – бог его знает, только вдруг в прошлом году является. Постарел, погнулся, будто из него дугу хотели согнуть… Приходит ко мне: простите, мол, не гоните, дайте и мне место в колхозе. Стыдно ему: покуда он метался по земле, Маша-то вышла в почетные люди. Ну, взяли мы его завхозом – дело ему как раз подходящее: он везде пролезет, все высмотрит, все достанет, – а нам без такого человека тоже нельзя. А недавно он сто тысяч выиграл по займу. Мы думали, что он с ума сойдет от своего счастья.
Об этом знало все село…
Когда Александр Степанович обнаружил, что на его облигации выпал выигрыш в сто тысяч, он был так потрясен, что с полчаса сидел, не шелохнувшись, сжимая в руках облигации. Потом он увидел крючок, на который закрывалась дверь. Крючок этот разболтался в гнезде, и Александр Степанович давно собирался завинтить его в новом месте, да все забывал.
Ничего не сказав Маше, которая сидела с книгой у окна, он принялся укреплять крючок. Всю ночь Александр Степанович не спал, а рано утром, выпросив у Дегтярева лошадь, поехал в Дорогобуж, где его никто не знал. Там ему предложили оставить деньги на сберегательной книжке, но он сказал, что положит их на книжку поближе к своему селу.
Сложив деньги в мешочек, Александр Степанович спрятал его в сено, на самое дно саней. Уже смеркалось, когда он выехал из города. Дорога до Спас-Подмошья шла большаком, между старых берез. Но Александр Степанович не поехал большаком: он боялся встретиться с каким-нибудь худым человеком. И еще он подумал: если кто-нибудь видел, как он получал деньги, то лучше уж ехать проселком, чтобы запутать свои следы.
Александр Степанович лежал на сене, чувствуя всем телом тугой мешок под собой, и мечтал, как теперь пойдет его жизнь. Но сколько он ни думал, так и не мог представить себе, что будет делать с деньгами. Дом у него был; правда, колхоз построил дом не для него, а для Маши, пока он бродил по свету в поисках счастья, но все же он отец ее и, значит, хозяин дома. Корову они имели. Вот разве гусей купить еще? Но много ли на это уйдет денег? Хорошо бы, конечно, коня своего иметь, да нельзя… Раз в колхозе живет человек, то коней можно иметь только общественных. Вот надо было поехать в город – и дали коня. Это даже лучше: приехал, отвел в конюшню, а уж убирать коня будут другие, а ты прямо в теплую избу, на печь…








