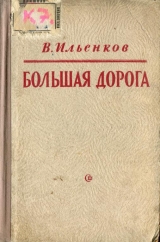
Текст книги "Большая дорога"
Автор книги: Василий Ильенков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 21 страниц)
«Эта оплошность Протасова может стоить Дегтяреву жизни, – и Шугаеву уже казалось, что Борис нарочно сделал так, что лодку унесло. – Враг… Враг… Все равно, вольный или невольный. Даже если это только небрежность, а не злой умысел, – все равно враг… Небрежность оттого, что он не думает о других. Ему важно было поскорей похвалиться, что вот никто не поймал подсадную, а он поймал. Он бросил лодку… Да ведь и я хорош! Болтал с ним столько времени и не подумал о Владимире…»
Коля пригнал лодку.
Шугаев хотел сам ехать за Владимиром, но Борис решительно отстранил его от лодки.
– Вы не знаете, где этот островок, не найдете его в темноте, – сказал он, влезая в лодку.
Коля побежал к костру. Лодка исчезла во мраке. Шугаев подбросил в костер валежнику, и яркое пламя осветило черную воду, обступившую остров.
«Надо было поехать с ним, – с недоверием к Протасову подумал Шугаев. – Скажет: темно, не нашел…»
– Вы хорошо знаете Протасова? – спросил он Колю, который прыгал, стараясь согреться. – В каких он отношениях с Владимиром?
– Тут замешана женщина… Наталья Куличкова – невеста Бориса. Влюбилась в Володю… на почве музыки…
– А Владимир?
– Он любит Машу… Но Протасов считает его виновником своего несчастья, – сказал Коля, прыгая на одной ноге и склонив набок голову, чтобы вытряхнуть воду из уха. – А вообще Протасов мне не нравится.
Послышался выстрел. Шугаев вскинул вверх ружье и выстрелил в ответ.
– Значит, еще не нашел Владимира… Пора бы уж, – с тревогой сказал Шугаев, подбрасывая сучья в костер.
Борис помнил те бугры, на которых всегда сметывали стога сена. И даже теперь, в темноте, в разгар весеннего разлива, знал, как проехать от Лебединого острова к тем буграм, где был Владимир. По уровню воды Борис сразу определил, какая опасность угрожает Владимиру, и он почувствовал злую радость, что вот теперь наступил наконец час расплаты.
«Пусть остается там, на буграх… Скажу, что не нашел… И проверить меня никто не сумеет. Ночь… тьма… вода… закрутило… Вот и все… И конец всем моим страданиям… И я прав… Я защищаю себя, свое счастье…»
Борис перестал грести, закурил и, причалив к каким-то кустам, слушал грозное дыхание днепровского разлива. Вода все поднималась, и в душе Бориса, откуда-то из темных глубин, поднималось что-то беспощадное, злое… В кустах кто-то бултыхался возле лодки, и Борис вспомнил, как бултыхался Егорушка, когда он оттолкнул его от доски… Потом кто-то заохал – это охала лягушка в весеннем страдании, а Борису казалось, что вот сейчас из кустов выплывет Егорушка. Борис испуганно оттолкнулся веслом от кустов и погнал лодку по черной воде.
Он греб изо всех сил, сам не зная, куда плывет… Опять кусты…
В изнеможении он оттолкнулся веслом и чуть не уронил его, – казалось, кто-то схватил за весло и тянет, вырывает из рук.
«Шугаев догадывается, что это я послал письмо Маше, – вдруг подумал Борис, и теперь ему стало ясно, почему Шугаев с таким гневом обвинял его в себялюбии и назвал врагом. – Если я не привезу Владимира, то Шугаев обвинит меня в его гибели… И тогда… Этот учитель с голубыми глазами страшен во гневе… Юридически он ничего не докажет… Ночь… тьма… вода… Но Шугаеву не нужно юридических доказательств… Он будет действовать так, как захочет. Он сломает мне карьеру… Добьется, что меня выкинут из аспирантуры…»
И тут Борисом овладел такой страх, что он рванул веслами воду, не чувствуя боли в растертых до крови ладонях.
– Едут, – сказал Шугаев, услышав плеск воды.
– Володька, жи-ив? – крикнул Коля.
– Жив, – отозвался Владимир каким-то незнакомым голосом.
– Скорей, скорей к огню! – сказал Шугаев, когда Владимир выпрыгнул из лодки. – Снимайте с себя все… Вот мое наденьте, – Шугаев скинул пиджак.
– Эх, водки бы сейчас стакан! – мечтательно сказал Коля. Его все еще била дрожь.
– Да, подвел нас Тимофей Андреевич, чтоб ему пусто было! – с досадой проговорил Шугаев; ему тоже хотелось выпить после такого нервного напряжения.
Владимир, переодевшись в сухое, сел близко к костру и молча смотрел на быстрые язычки огня, с наслаждением чувствуя, как возвращается в тело тепло. Только сейчас понял он, что был на краю гибели.
– Спасибо, Коля, – сказал Владимир тихо. – Еще заболеешь из-за меня…
– Ну, вот, – смущенно пробормотал Коля. – Да, я забыл отдать тебе письмо.
Владимир распечатал конверт. Наташа писала:
«Только что пришла из консерватории, слушала «Реквием» Берлиоза… Если бы он не погубил ради своей жены последнюю симфонию, какая это была бы изумительная музыка! Не забывайте этой ошибки…»
«Нет, мы никогда не поймем друг друга», – подумал Владимир и бросил письмо в костер.
Послышался хриплый кашель Тимофея. Вытащив лодку на берег, Тимофей молча положил возле костра мешок.
– Где же ты пропадал? – спросил Шугаев, сердито уставившись темными от гнева глазами в помятое лицо его.
– Заплутал, Иван Карпович… Никогда такого со мной не случалось… Кружусь, а на Лебединый никак путя не найду… – глухо сказал Тимофей, пряча глаза. – Прямо сказать, бес попутал.
– Да, верно, попутал, – с усмешкой сказал Борис, вынимая из мешка пустую бутылку. – Одна осталась на всех.
– Нет, – строго сказал Шугаев, – пить будут только Владимир и вот товарищ… Смирнов.
– Просто Коля, – с улыбкой поправил студент.
– Это почему же мы не имеем права погреться? – спросил Борис, настороженно взглянув на Шугаева.
– А потому, что ты виноват в том, что лодку унесло от берега, не привязал ее, допустил преступную халатность, как говорят юристы… Тимофей уже выпил…
– А вы почему должны быть наказаны? – спросил Владимир.
– А я… я был слишком добр к тем, кто не заслуживал этого. Правда, это было давно… давно…
«Все знает», – подавленно подумал Тимофей, не глядя на Шугаева.
– Смотрю я на тебя и удивляюсь, – сказал Шугаев, пристально вглядываясь в заросшее лицо Тимофея. – Вся ваша семья, дегтяревская, талантливая. Один ты какой-то чудной… нелюдимый, все что-то про себя думаешь, а что, – неизвестно…
«Знает все про ту осеннюю ночь», – снова подумал Тимофей, с опаской отодвигаясь подальше в тень от сарая.
– А может, и есть талант в тебе, только сам ты его задавил нечаянно…
– В каждом человеке есть талант, – убежденно сказал Коля. – Его только надо найти. Сам человек иногда хуже думает о себе, чем он есть на самом деле…
– Чаще бывает наоборот, – сказал Владимир. – Человек думает, что он лучше, чем он есть на самом деле. Ты, Коля, идеализируешь людей…
– Влюблен, признаюсь, Володенька! – с мягкой улыбкой проговорил Коля. – А как не любить, когда подумаешь: ведь человек – это самое замечательное произведение природы. Частица материи, которая вдруг осознала себя и все, что вокруг, и все поняла и преображает по своему желанию! И самое высшее проявление этого разума в том, что человек создает такие машины, которые действительно делают его царем природы. Самолеты, например, уже приближаются к скорости звука… А работы по расщеплению атомного ядра!
– Нет, Коля, простите, – сказал Шугаев, задумчиво глядя во тьму. – Высшее проявление разума не в машине, а в сознании, которое заставляет человека направлять эту машину в интересах всех людей… в том нравственном чувстве, которое повелевает человеку поступать иногда вопреки своим личным интересам ради того, чтобы другому человеку было хорошо. Это выше самолета со скоростью звука и… труднее… Володя прав.
Борис взял бутылку и стал откупоривать ее.
– Я все-таки выпью… продрог, – проговорил он, пряча глаза под козырьком кепи.
– Ну, что же, давайте, Иван Карпович, выпьем за вашу… высшую силу разума, – с улыбкой проговорил Коля. – Пожалуй, вы правы. На самолете со скоростью звука может летать и зверь… вернее, человеко-зверь…
Тимофей удивленно смотрел на очкастого, лохматого юношу и думал: «Вот диво!»
Его поразили слова Коли о том, что в каждом человеке есть талант. Он с молодых лет обижался на свою судьбу за то, что она обделила его, все отдав удачливым братьям.
– Заехал я недавно к тебе, Тимофей. Жена твоя что-то нехорошо покашливает, – сказал вдруг Шугаев, ковыряя палкой угли в костре. – Ты зайди к доктору Некрасову, я говорил ему, чтобы жену твою отправили на месяц-другой в наш районный дом отдыха.
– За это спасибо, Иван Карпович, – пробормотал Тимофей.
Когда все улеглись, а Шугаев все еще сидел в раздумье возле костра, Тимофей подсел к нему и проговорил глухим голосом, глядя в огонь:
– Ты уж прости меня, Иван Карпович… Я стрелял-то… в окно…
– Ты-ы? – сдавленно воскликнул Шугаев и даже привстал, и Тимофей понял, что Шугаев ничего не знал до этой минуты и не подозревал его. – За что же?
– Зла против тебя, Иван Карпович, не имел… За водку меня купили злые люди… Ну и по темноте своей… – бормотал Тимофей.
– А чего теперь признался?
– Десять лет таился, а все совесть мучила. От этого и водкой зашибался… Пронзил ты мою душу добротой своей к людям… А теперь казни…
Тихо плескалась вода в темноте, потрескивали сучья, томно и нежно охала утка в корзине. Шугаев молча смотрел на огонь, и лицо его, озаренное неровными вспышками пламени, то темнело, то светлело, словно и внутри у него разгорался большой трепетный огонь.
Шугаев ничего не привез домой с охоты, и Лидия Сергеевна сказала с ласковым упреком:
– Какой ты охотник!
– Если бы ты знала, Лида, какая это была изумительная охота! – восторженно воскликнул Шугаев, потирая озябшие руки.
Под окнами больницы Коля Смирнов строил какое-то сооружение. Люди с удивлением разглядывали деревянный ящик с проволочками внутри, к которому тянулся электрический провод из окна больницы, где помещался рентгеновский кабинет. Окно было открыто, виднелись сверкающие части аппаратуры. Коля повернул рукоятку рубильника, и стрелка манометра поползла слева направо и остановилась на цифре 60. Все почувствовали приятный запах, какой обычно бывает во время сильной грозы.
– Начинайте сыпать зерно! – сказал Коля.
Девушки положили мешок с пшеницей к воронке над ящиком, развязали его, и зерно потекло в воронку. Из отверстия внизу ящика сильной струей полилось чистое, отборное зерно. Маша зачерпнула полную пригоршню, пересыпала с ладони на ладонь и не увидела ни одной соринки, ни одного щуплого зернышка; на ладони лежали полновесные, тяжелые, одинаково крупные зерна пшеницы – вот такие отбирали вручную девушки всю зиму.
И Шугаев с радостным волнением разглядывал эти крупные зерна, вдыхая живительный приятный запах озона. Не было и той едкой пыли, какая обычно вылетает из веялок вместе с мякиной.
– А куда же девается пыль? – спросил он, заглядывая в ящик.
– Пыль остается в ящике, в особом бункере. Она не вылетает потому, что заряжена электричеством и оседает в отведенном ей месте. Она послушна нашей воле, дисциплинированна, – с веселой улыбкой ответил Коля.
– Спасибо вам… Спасибо! – растроганно сказал Шугаев, пожимая руку Коли.
– Это же ваша идея, товарищ Шугаев, – сказал Коля.
– Чудесная идея! – воскликнул агроном Василий Иванович. – Чудо-веялка! Теперь необходимо проследить, какое влияние на семена оказывает ток высокого напряжения. Ведь каждое зернышко получило электрический заряд, оно ионизировано, а это не может не сказаться на веществе зерна, в частности на белке… Как вы думаете, товарищ Смирнов?
– Это уж вам видней, – сказал Коля. – Я не биолог. Я инженер. Имею дело с мертвой материей.
– Несомненно, это влияние должно быть благотворно, – сказала Маша. – Ведь то, что происходит в ящике, можно сравнить с грозовым разрядом…
– Совершенно правильно, – обрадовался Коля.
– А ведь известно, что дождевая вода в грозу особенно полезна для растений, потому что она тоже наэлектризована грозовыми разрядами, насыщена ионами.
– А может, их так наэлектризовало, что они и не взойдут вовсе, – мрачно сказал Тарас Кузьмич. – Вот в Америке на электрическом стуле разбойников казнят…
– Типун тебе на язык! – сердито сказал Андрей Тихонович. – Вот ведь какой вредный ты, Тарас Кузьмич! Тут праздник ума человеческого. Видишь, чего делает электричество? А ты «разбойников казнят»… Тьфу!
– Вот доктора спросим, как она: вредная штука или пользительная? – крикнул кто-то из толпы.
Доктор Евгений Владимирович выглядывал в окно с беспокойством: ему казалось кощунством использовать благородную силу рентгеновской установки для такой грубой работы, как сортировка семян. И еще он побаивался, как бы этот изобретатель не попортил трансформатор.
Однако вопрос о том, как воздействует ток высокого напряжения на семена пшеницы, заинтересовал и доктора. Это уже было ближе к знакомой ему области. Кстати, в этот момент из второго окна, где была палата кожных больных, высунулась совершенно лысая голова. Сначала подумали, что это старик, а потом все узнали мальчугана Кирюшку, и все ахнули, потому что Кирюшка ходил всегда лохматый, а теперь голова его напоминала гусиное яйцо – на ней не торчало ни одного волоска.
– Вот, например, обратите внимание на этого парнишку, – сказал доктор. – У него я обнаружил паршу. Единственное средство – это совершенно удалить волосы, с корнями. Мы держали Кирюшку под рентгеном, пока совсем не вылезли волосы…
– Ай, мамоньки! – воскликнула длинноносая Лукерья, всплеснув руками.
– Я говорил, – зловеще сказал Тарас Кузьмич. – Так и с пшеницей может быть.
– Кончайте, девушки, – сказал Николай Андреевич. – Этак мы всю пшеницу попортим, – ему стало жаль семена, которые он дал взаймы шемякинцам.
Девушки, тащившие к электровеялке второй мешок, остановились.
– Отец, не срами себя, – тихо сказал Владимир.
– Тебе-то не жалко пшеницы… И лошадь так же вот, а потом в суд потянут, – раздраженно проговорил Николай Андреевич и, заметив, как вспыхнули глаза у сына, понял, что зря погорячился.
– Николай Андреевич, – дрогнувшим от волнения голосом сказала Маша, – напрасно вы думаете, что семена эти дороги только вам.
Дегтярев смущенно взглянул на нее: никогда Маша не говорила с ним таким независимым тоном.
В этот день Семен Семенович записал в свою «Книгу добра», что на благо людей инженером Николаем Смирновым создана новая машина, называемая электровеялкой, и что дело Владимира Дегтярева прекращено, так как Неизвестным внесено на счет колхоза «Искра» двенадцать с половиной тысяч рублей – стоимость павшей лошади.
Маша медленно шла от колодца, плавно покачиваясь под тяжестью ведер, висевших на коромысле, стараясь не пролить ни капли ключевой чистой воды.
Апрельское солнце радужно сияло в ворсинках белой поддевки из сукна, сотканного искусными материнскими руками; от красного вязаного платка на лицо Маши падал какой-то радостный отсвет.
Она щурила глаза: слишком много света было вокруг, ее ослеплял огненный кружок, сверкавший в ведре, как маленькое солнце. Она не видела, но чувствовала, что из многих окон смотрят на нее шемякинцы. Длинноносая Лукерья уже сбегала в Спас-Подмошье и принесла оттуда целый короб новостей: Машенька хотела утопиться в проруби от несчастной любви, потому что дегтяревский парень обещался жениться на ней, а сам скрутился с другой, а потом заела его совесть, и он даже рысака загнал, чтобы только спасти Машеньку…
Припав к окну, Яшка следил за каждым движением Маши, потрясенный ее красотой и недоступностью. Он весь дрожал, и мутные глаза его не могли оторваться от красного платка, который дразняще вспыхивал и горел на голубом фоне вешнего неба, как огромный цветущий мак. Впервые в жизни Яшка почувствовал могучую очищающую силу любви и понял, что Машу можно покорить только красотой души. И он со страхом перед самим собой и надеждой заглянул в свой убогий и темный мир.
Маша остановилась, поставила ведра на землю и вдруг, словно вспомнив что-то очень важное и неотложное, пошла к окну, у которого сидел Яшка. Он смотрел на нее с изумлением, еще не веря, что она идет к нему. Он хотел убежать, чувствуя, что не сможет глянуть в лицо от стыда за себя, но продолжал сидеть у окна, оцепенев, растерянно и виновато опустив глаза.
А Маша уже подошла к окну, и Яшка видел лишь какое-то багровое пламя, обжигавшее глаза.
– Яша, – тихо сказала она, – послезавтра начнем сеять. А тут, как назло, в обоих тракторах испортились конденсаторы. И в районе их нет… В Смоленск за ними нужно итти пешком. Мост на Днепре сорвало половодьем, на станцию не попадешь. Нужно на Ельню, а там – поездом.
– На Ельню кружно… Я напрямки! – выдохнул Яшка, взглянув на Машу ошалелыми от счастья глазами. Он не знал, что такое конденсаторы, и ему казалось, что он должен принести что-то огромное, тяжелое, и он готов был взвалить на свои плечи любую тяжесть.
– Двести верст туда и обратно, – сказала Маша.
– Я на край света побегу, – прошептал Яшка, надевая шапку.
На бревнах, под ласковым солнцем, сидели шемякинцы – сорок человек, вся бригада Маши, – и ждали ее слова, перед тем как итти в поле.
Земля просыхала, от горячего ее дыхания дрожал и струился воздух, как кисея, колеблемая легким ветерком. И Маша, глядя в даль полей, затянутую голубоватой дымкой испарений, с волнением думала о том, что это весна ее радости. Но когда она окинула взглядом сидящих на бревнах людей и увидела их напряженно устремленные на нее глаза, она поняла, что эта весна – самая трудная из всех весен, пережитых ею.
Прежде жизнь Маши состояла в том, что она трудилась то в поле, то на огороде колхоза, то пилила дрова в лесу, трудилась честно, то-есть отдавала все свои силы, стараясь сделать все добротно, быстро, красиво. Маша отвечала только за себя, выполняя порученную ей работу, и, выполнив ее хорошо, она испытывала радостное чувство удовлетворения, любуясь то снопами, связанными своими неутомимыми руками, то пластами земли, поднятыми плугом, то густыми валами скошенной травы.
Теперь труд ее состоял в том, чтобы научить других хорошо трудиться, и этот новый, неведомый ей труд управления другими людьми, не давая сразу ощутимых результатов, порождал беспокойство в душе Маши, – ей казалось, что она делает не так, как нужно, что люди недовольны ее указаниями, да и узнать, что думают они о своем бригадире, было трудно.
Вот они сидят на бревнах и ждут ее слова. Сорок человек. Девушки и парни, многодетные матери и мужчины, умудренные опытом жизни.
Васса Тимофеевна смотрит на Машу с ласковой материнской улыбкой, а длинноносая Лукерья нашептывает ей что-то, бросая ядовитые взгляды на бригадира. Прохор с детским любопытством уставился на Машу, ожидая от нее чего-то необыкновенного, вроде пшеничного зерна, на котором написано столько слов, сколько Прохор не может втиснуть на большом листе бумаги. Хмурый Терентий недовольно бубнит: «Дураков работа любит!» Таня не сводит с лица Маши карие большие глаза, все еще не переставая изумляться ее непонятной любви, а самой не терпится заглянуть в блокнот, лежащий на коленях пчеловода-поэта. Таня, не выдержав искушения, читает:
Я вас люблю! Но я не смею
Сказать вам этих трудных слов…
Увидев нас, молчу… немею…
И целовать ваш след готов.
Я вас люблю! А ваше имя
Я повторяю день и ночь,
И жду надеждою томимый…
А встречу – вымолвить невмочь…
Таня чувствует, что щеки ее горят и сердце замирает от счастья, – конечно же, это ее имя повторяет и день и ночь чернобровый пчеловод, не случайно оставил он открытым блокнот:
Я вас люблю! Но… безнадежно!
Другой вам дорог… И я – нем.
И в скорби сердца неутешной
Твержу одну лишь букву ЭМ…
Таня бледнеет, отвернувшись, смотрит на крышу, – там сидит ворона, чистит перышки; вот она взмахнула крыльями и превратилась в букву «М»… Таня растерянно взглянула на небо, там кружились черные «М».
«Вот он, мой «оркестр», – подумала Маша, оглядывая людей, сидевших на бревнах, и вспомнила дирижера с бледным лицом и всклокоченными волосами, стоявшего с поднятой рукой перед пюпитром. – Нет… Это трудней – управлять мыслями и чувствами сорока человек, не похожих друг на друга, ибо никто еще не написал нот для каждой человеческой души, да и не может никто написать, кроме самой этой души, потому что никто не знает, какую высокую ноту способна она взять своим неповторимым голосом…»
Сегодня нужно было выдвинуть четырех звеньевых. За зиму Маша присмотрелась к людям и многое узнала о них. Она видела, как трудились они, отбирая семена; узнала, кто с кем дружит, а кто враждует между собой; она изучила родственные связи людей, уровень их развития, интересы, привычки, предрассудки, способности. О каждом из сорока она знала даже то сокровенное, что знают в деревне лишь старожилы. Васса Тимофеевна, знавшая своих шемякинцев насквозь, все рассказала Маше, всю подноготную: кто хорошо живет со своей женой, а кто плохо и почему; кто ласков со своими детьми, а кто поколачивает их для укрепления своего родительского авторитета; кто не возьмет чужой крошки, а кто не погнушается присвоить себе даже жену друга. Маша узнавала о людях то, что, казалось, не имело никакого отношения к ее обязанностям бригадира. Но чем больше погружалась она в запутанную жизнь шемякинцев, тем больше возрастал ее интерес к своей работе, и ее охватывало горячее желание соединить этих в одиночку слабых людей в дружную семью, примирить враждующих, очистить их чувства и мысли от всего низкого, мелкого, пошлого и поднять хотя бы на свою «Кудеярову горку», откуда мир виден шире, чем из мутных окошек шемякинских изб.
И, зная все о людях, которых она должна была вести вперед, Маша предложила выделить звеньевыми Шапкина. Таню, Прохора и Вассу Тимофеевну, рассчитывая, что Шапкин сделает все, чтобы услышать ее «спасибо», а Таня будет стараться обогнать Шапкина, чтобы он увидел, какая она ловкая, неутомимая и талантливая, что Васса Тимофеевна не захочет отставать от дочери, а мужское самолюбие заставит Прохора обогнать Вассу Тимофеевну.
И всех людей по звеньям Маша распределила так, чтобы, воздействуя друг на друга, они создавали непрерывную цепь личной связи, складывая свои маленькие силы в одну могучую силу коллектива. Получалось как в сказке про репку: дедка – за репку, бабка – за дедку, внучка – за бабку.
В то утро, когда звенья должны были впервые выйти в поле, Маша проснулась затемно. Ей показалось, что кто-то грубо толкнул ее в плечо.
– Кто это? – спросила она, вглядываясь во тьму.
Никто не ответил. И тогда Маша догадалась, что ее разбудил «внутренний будильник». Обычно с вечера, ложась спать, Маша говорила себе: «Я должна встать в три часа», и «внутренний будильник» ровно в три часа обрывал ее сон. Маша удивлялась точности, с какой действовал скрытый механизм воли, и ее радовало ощущение этой власти над собой.
В окно светила луна, и Маша оделась, не зажигая огня. Она взяла с собой клеенчатую тетрадку, в которую записывала свои наблюдения за работой звеньев, и, тихо ступая по скрипучим половицам, чтобы не разбудить Вассу Тимофеевну и Таню, вышла из дому.
Звонко пели петухи, и слышно было, как они хлопают крыльями, словно аплодируя друг другу. В окнах еще не светились огни, и Маше было приятно думать, что она поднялась раньше всех.
Она любила наблюдать начало дня, когда из редеющей тьмы выходит желанный мир: вот забелел ствол березы, вчера еще были голы ее красноватые ветки, а сегодня она стоит в легкой зеленой дымке развернувшихся листьев, и плывет над землей аромат их, такой крепкий и живительный, что чувствуешь, как вливается он в легкие веселой струей, и улыбаешься без всякой причины, просто потому, что хорошо, легко на душе. А на востоке уже проступила бирюзовая лента зари, окаймленная снизу полоской малинового цвета…
Сегодня уезжал Владимир, и Маша обещала притти хотя бы на полчаса. И она встала затемно, чтобы пораньше управиться с работой и сбегать в Спас-Подмошье. Ей казалось, что она все предусмотрела, все рассчитала и подготовила, осталось лишь проверить: все ли во-время выйдут в поле.
Маша поднялась на сухой пригорок, откуда решено было начать пахоту на лошадях, потому что земля здесь уже просохла, и вдруг в кустах послышался знакомый хриплый тенорок Прохора:
– Ну, скажи, какие вредные бабы!
«Молодец, старик, раньше всех вышел в поле», – подумала Маша.
– За что же вы, Прохор Мироныч, нас, женщин, ругаете? – спросила она с улыбкой, разглядывая обескураженное лицо старика.
– Заходит она, Тимофеевна то-есть, ко мне еще с вечера, спрашивает: «Когда свое звено поднимать будешь?» – «Как развиднеется, – говорю, – так и буду поднимать». Она: «Ох и ах, не проспать бы мне, старой!» – жалуется, что ноги ноют. Выезжаем на поле – пашет уже, второй час пашет!
– Кто?
– Васса! Нечистая сила! С фонарями! – закричал Прохор, тыча кнутом в пространство. – Вон погляди!
Маша увидела вдали огоньки и пошла, изумляясь, что она не услышала, как вставала Васса Тимофеевна.
– С кем это вы беседуете? – спросила она, подходя к Вассе Тимофеевне, которая шагала за плугом, приговаривая: «Весь свой век прожила молча. Может, под старость крикну».
– А это я, Машенька, с лошадкой разговариваю. Муж мой, покойник, бывало все молчит, может, раз в неделю только и скажет: «Курица – не птица, баба – не человек…» И весь его разговор со мной за сорок лет! Вот я и привыкла с конями да с коровами разговаривать… А ты мне целое звено доверила, девять человек. И все меня спрашивают, как да что, и всем я должна ответ дать. Будто на высокую-превысокую гору возвела ты меня, окрылила. Ночь не спала от радости.
– А где Таня?
– Вместе со мной поднялась, да вот долго что-то нет. Уж не стряслось ли чего? – тревожно сказала Васса Тимофеевна, поглядывая на дорогу. – Тоже всю ночь металась… Э-эх, дела девичьи! А вчера слышу – возле колодца с Шапкиным разговаривает: «Вот вы, Павел Иванович, сочинили стишки: «Я вас люблю. И ваше имя я повторяю день и ночь». Как это – вы так написали?» А он ей: «Обыкновенной ямбой!» А она ему: «А мне больше нравится амфибракий…»Стало быть, намек ему дает насчет свадьбы… Ну, думаю, дай-то господи, может, и у меня скоро внуки будут…
Солнце поднялось уже над лесом, а ни Тани, ни Шапкина все еще не было, и Маша торопливо зашагала в деревню, чувствуя, что она еще не все разглядела в своем «оркестре».
Не все сорок человек бригады были довольны тем, как Маша распределила обязанности. Терентий считал, что Маша не поставила его во главе звена только потому, что она послушалась советов Вассы Тимофеевны, которая издавна питала к нему неприязнь.
«Напела про меня, а сама напросилась в звеньевые и дочку свою надо мной поставила в насмешку», – думал он, ворочаясь ночью на кровати, не в силах уснуть от великой обиды. Терентию было поручено заботиться об упряжи и лошадях звена Тани, следить, чтобы хомуты не натирали им плечи, а кони были бы накормлены. Все это умел и любил делать Терентий. Но теперь эта работа казалось ему унизительной: быть в подчинении у бабы!
Терентий вышел на крылечко, чтобы прохладиться и покурить. На крылечке у соседа Игната Кошкина кто-то сидел, и там тоже вспыхивал красный огонь папироски.
– Ты, Игнат? – спросил Терентий, обрадовавшись, что не один он не спит в эту трудную ночь, и пошел к соседу, чтобы отвести душу.
Конюх Игнат Кошкин не мог уснуть в эту ночь потому, что прочитал в стенной газете частушки, написанные Шапкиным:
Ах, подружка моя Маша,
Конь бежит не резво,
Весь овес поел Игнаша —
Конюх наш нетрезвый.
Ах, подружка моя Таня,
Я вполне уверена:
Он от этого питанья
Превратится в мерина…
Игнат и Терентий долго сидели молча, курили, кряхтели, а потом пошли в избу и уселись за стол, на котором зеленым огнем светилась бутылка водки…
Когда Таня пришла на конный двор, чтобы запрягать лошадей, они оказались запертыми на большой висячий замок. Она побежала искать Терентия, но дома его не нашла. На улице она столкнулась с Шапкиным, он искал Игната, у которого был ключ от кладовки, где хранилась упряжь.
Игнат и Терентий пропали бесследно. Уже рассветало, и Таня в отчаянии прошептала:
– Срам какой! В хвосте остались… Мама и Прохор давно уже пашут. А знаете что, Павел Иванович! – вдруг воскликнула Таня. – Берите мою упряжь… Все равно ведь я не могу выехать: заперты лошади… Я уж на себя весь позор приму… А вы запрягайте!
Шапкин изумленно посмотрел на нее и растроганно проговорил:
– Какая вы хорошая, Таня!
Он как будто впервые увидел, что у Тани чудесные большие глаза, излучающие ласковый свет.
И когда Шапкин выехал со своим звеном в поле, Таня проводила его долгим взглядом открытой любви.
Солнце стояло уже высоко, а Терентия все еще не могли найти. Наконец он выполз откуда-то с красными глазами и соломинками в бороде. Таня подбежала к нему и, теряя рассудок от гнева, ударила рукой по его колючей щеке…
Маша нашла ее дома в слезах. Таня сквозь рыдания просила освободить ее от звена, потому что она недостойна руководить другими: опозорилась перед всеми людьми, что она вообще несчастная и скверная. Маша долго утешала ее и уговаривала не отчаиваться.
– Не ты виновата Таня, а я… Я должна была все это предвидеть.
Только в полдень звено Тани выехало в поле.
«Ну вот, все пошло вверх ногами, – удрученно подумала Маша, взглянув на часы: было поздно итти в Спас-Подмошье – Владимир должен был выехать в полдень. – Значит, не судьба увидеться нам до лета…»
Под вечер на другой день прибежал Яшка. Он был весь забрызган грязью, лицо его осунулось, почернело. Тяжело дыша, положил он на стол перед Машей сверток с конденсаторами и хрипло проговорил:
– Видишь теперь, какой я…
И он посмотрел на Машу таким взглядом, от которого ей стало не по себе. В мутных глазах Яшки светилось злое торжество: «Я все сделал для тебя. Теперь ты должна сделать все для меня».
Владимир, не дождавшись Маши, решил отложить отъезд еще на один день. Взволнованный мыслями о Маше, он долго не мог уснуть. Он слышал, что и отец все ходит по дому, словно ищет и не может найти какую-то вещь. Потом открылась дверь, и Николай Андреевич сказал:
– Спички никак не найду…
– У меня в пиджаке есть, в кармане, – ответил Владимир, чувствуя, что отцу просто нужен какой-нибудь повод, чтобы начать разговор.
Закурив, Николай Андреевич присел на стул, помолчал. В стекла застучал дождь.
– Дождик пошел, – проговорил Николай Андреевич, обрадовавшись, что есть о чем говорить. – Это хорошо… Всю плесень зимнюю смоет с зеленей… И дорога окрепнет…
– От дождя? – удивленно спросил Владимир.
– От дождя. Осенью дорога от дождя размокает, киснет, а весной становится крепче. Нынче по всем приметам урожай будет… Весна затяжная, свежая. Хлеба много будет…
– А не боишься, что пшеница, отсортированная на электровеялке, не взойдет? – с усмешкой спросил Владимир.
– Ты над этим не смейся, Владимир, – строго сказал Николай Андреевич. – Я ведь не для себя стараюсь, а для всех… Дело новое, неиспытанное. И тыне думай, что это у меня из-за жадности. Я вот тебе о лошади напомнил. Не укорить тебя хотел… Знаю, сердцем ты чистый. А ты, Владимир, меня тоже понять должен. Я – председатель колхоза. Хорошо сделаю – и всем хорошо. Плохо сделаю – и всем плохо. Ты думаешь легко мне общественным добром распоряжаться? Люди мне доверились, надеются на меня и спросят с меня. Ответчик я перед людьми за все. Не помню, когда хоть одну ночь спал спокойно. Лежишь и думаешь: «А как оно лучше-то для людей? Может, так, а может, этак?»








