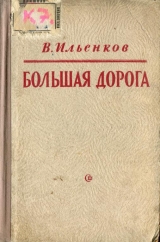
Текст книги "Большая дорога"
Автор книги: Василий Ильенков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 21 страниц)
– Подби-ил! Подби-ил!
Он не знал, что никто не слышит и не может слышать его крика, потому что рвались снаряды и гранаты, и кричал исступленно:
– Подби-ил! Подби-ил!
Дегтяреву хотелось, чтобы все видели этот подбитый вражеский танк, и ему казалось, что где-то недалеко Маша и она видит это железное чудовище в две тысячи пудов весом, бессильное перед всемогуществом человека.
– Ложись! – закричал кто-то над ухом и ударил его по ногам.
Дегтярев упал на дно окопа, над ним прогремело что-то темное, посыпалась земля на лицо, и он закрыл глаза, проваливаясь в какую-то бездну.
Очнувшись, Дегтярев увидел над собой тревожное лицо академика.
– Если бы я не толкнул вас, Владимир Николаевич, танк раздавил бы вас, как огурец, – сказал академик, вычищая землю из ушей. – Увлеклись вы… А вообще все хорошо дрались, черт возьми! Русская интеллигенция оказалась на высоте. Мы устояли. Танки не прошли… Дайте, я поцелую вас, как сына, – проговорил растроганно академик и обнял Дегтярева.
Потеряв три танка, немцы повернули назад и закрепились в Шемякине. Вечером в березовой роще хоронили профессора Незнамова. Он бросился с гранатой под танк.
– Вот и кончился его оптимизм, – угрюмо проговорил Протасов, когда над могилой Незнамова вырос небольшой холмик.
– Я вас не понимаю, – сказал академик, вскинув на Протасова строгий взгляд.
– Он утверждал, что в схватке со старым миром всегда побеждает новый…
– Да, он ушел с поля боя победителем.
– Если мы будем так «побеждать», то от нас скоро никого не останется.
– И все же мы – даже мертвые! – победим! – со страстной убежденностью проговорил академик. – Будет день! К этой могиле придут благодарные соотечественники наши и поклонятся праху героических своих граждан. Они назовут наши имена с гордостью за советскую интеллигенцию, которая вместе с народом своим билась за Родину.
«Нет, ничего нет выше счастья жизни, – подумал Протасов. – Все это ложь, самоутешение, красивые слова… Жить, жить! Дышать, есть, двигаться, любить… Какая мне радость сознавать, что после меня будут жить счастливо другие? Они даже не вспомнят обо мне. А если и вспомнят, поднимая рюмку с вином на веселой пирушке, улыбаясь красивым своим женам, то что это для меня, когда я буду валяться вот в такой ямке?»
С того момента, когда он увидел движущиеся на него танки, Протасов думал только об одном: как бы остаться в живых. Правда, он стрелял, бросал гранаты, но делал это механически, лишь бы поскорей выполнить свои обязанности. Бросив последнюю гранату, он опустился на дно окопа и просидел на корточках до тех пор, пока не ушли танки. Он видел, как профессор Незнамов поправил очки, слышал, как он сказал самому себе: «Да, Викентий Иванович прав». Потом Незнамов взял гранату, вылез из окопа и пошел ровным, неторопливым шагом навстречу танку. Руки у него дрожали, и он боялся, что граната сорвется и не долетит. И тогда внезапно ему пришла мысль, что танк непременно подорвется, если лечь на его пути с гранатой, и он лег на траву: так было совсем не страшно. Он вытянул вперед руку с гранатой и подсунул ее под гремящую гусеницу…
И когда к могиле пронесли на носилках куски окровавленного тела – все, что осталось от профессора истории, – Протасов подумал, что нужно что-то сделать, чтобы уйти от смерти. Но, стремясь сохранить свою жизнь, Протасов, сам не сознавая того, ускорял свою смерть. Он уже умирал той страшной и неотвратимой смертью, которая поражает всякого, кто решил жить только для себя и ради себя. Сосредоточившись на одной мысли, которую он не мог никому открыть, Протасов обрек себя на мучительное одиночество: оно и было началом смерти. И хотя всем было тяжело, вернее, именно потому, что было тяжело, все доверяли друг другу свои сокровенные мысли, читали другим письма из дому, не стесняясь мелочей жизни и интимных признаний, которыми были полны эти письма; люди тянулись друг к другу инстинктивно, чтобы объединение противостоять беде и страданиям; они смеялись и шутили – и это была жизнь. Все с восторгом рассказывали о том, как Владимир Дегтярев подбил танк, и все единодушно называли бессмертным подвиг профессора Незнамова; хохотали, вспоминая, как вытаскивали из танка ошалевшего от страха немца.
А Протасов молчал, не принимая участия в этой взволнованной жизни. Он умирал, выключив себя из окружающего мира, порвав все связи с людьми, ничем не интересуясь, кроме своей судьбы. Он ел, двигался, дышал, но это не была жизнь, а лишь ожидание чего-то страшного. Он перестал умываться, чистить зубы, бриться – для чего? Обросший бородой, со спутанными, нерасчесанными волосами, с пустыми глазами, он производил впечатление человека, лишенного разума, и все сторонились его.
Академик заставлял его умываться, чистить обмундирование, оружие, – Протасов вяло исполнял приказание, а на другой день все начиналось снова. Политрук Гаранский не раз старался вызвать Протасова на откровенный разговор, но Протасов отмалчивался.
«Да он мертвый», – подумал Гаранский, вглядываясь в его изжелта-серое лицо.
Маша пришла в Спас-Подмошье к генералу Михаилу Андреевичу Дегтяреву, но не застала его.
– Уехал встревоженный, – сказала Анна Кузьминична.
Она была обрадована приходом Маши и умоляла ее поподробнее рассказать о встрече с Владимиром. Ее интересовало и то, как одет он, не похудел ли, как питается, и то, что он делает, не назначен ли в разведку, и то, получил ли он посылочку, которую она посылала ему с академиком. Но Маша знала так мало о Владимире, так коротка была их встреча, что она ничего не могла рассказать Анне Кузьминичне. Она промолчала и о том, что Владимир ранен. Но об одном она не могла не сказать – о женщине, которая омрачила ее счастье.
– Лишь бы он остался жить! – шептала Анна Кузьминична.
Она жила в непрестанной тревоге, ей казалось, что вот-вот кто-то войдет в дом и скажет, что Володи больше нет на свете. От этой мысли она вся цепенела, и тогда из рук ее валилась посуда, пригорало что-то на сковородах.
Они просидели с Машей всю ночь и говорили только о Владимире. На рассвете совсем близко разорвался снаряд, и вдруг загрохотало, завыло, заухало. Анна Кузьминична и Маша выбежали на улицу. Люди растерянно смотрели на запад, откуда доносился грохот сражения. Кто-то сказал, что немцы внезапно прорвали нашу оборону и заняли Шемякино.
Вскоре прискакал верхом Николай Андреевич и подтвердил эту весть. Он спешно отправлял в лес людей, туда же погнали и скот. Коровы мычали, встревоженные взрывами. Анна Кузьминична должна была отправиться в лес поварихой партизанского отряда. Николай Андреевич торопил ее. Она со слезами на глазах попрощалась с Машей, повторяя:
– Лишь бы был жив!.. Если его не станет, зачем мне жить? Лишь бы был жив!..
Маша осталась одна в доме. Когда генерал приехал, усталый, запыленный, с красными от бессонной ночи глазами, она не решилась сказать ему о своей просьбе и спросила:
– Михаил Андреевич, вы будете пить чай или обедать? Теперь я здесь за хозяйку.
Генерал попросил чаю, но когда Маша принесла самовар, молоденький адъютант Ваня сказал, что генерал уснул. От адъютанта Маша узнала, что немцы, занявшие Шемякино, остановлены дивизией и она прочно удерживает рубеж вдоль речки Косьмы.
– Я там рыла окопы, – сказала Маша.
– Если бы не эти окопы, они заняли бы и Спас-Подмошье. Наша дивизия встретила их хорошо… Перед окопами груды трупов.
– А у нас много раненых, убитых? – с тревогой спросила Маша.
Адъютант улыбнулся.
– Тот, кто вас интересует, жив и здоров. Я видел Дегтярева час тому назад. Он просил генерала принять вас в дивизию. Михаил Андреевич обещал.
Проснувшись, генерал попросил чаю. Маша принесла.
– А что же вы можете делать у нас в дивизии? Воевать? – спросил он.
– Все, что прикажете, буду делать. Стрелять, готовить обед, стирать белье… Я знаю немецкий язык, могу переводить.
– Вы знаете немецкий язык? Вот это важно… Очень важно, – сказал генерал, глядя в окно. – А местность вокруг тоже знаете?
– Да. На десять километров кругом я знаю каждую тропинку, знаю все деревни, многих людей.
– Это очень важно, очень, – повторил генерал и вдруг, резко повернувшись к Маше, глядя на нее в упор, спросил: – Смерти боитесь? Только говорите прямо, честно.
– Думаю, что не испугаюсь.
– А если вас будут мучить, истязать, пытать? Сумеете выдержать?
– Выдержу, – тихо, но твердо произнесла Маша.
– Нам нужно разведать силы врага в Шемякине. Вы согласны пойти туда?
– В Шемякино? – спросила Маша, ощущая неясную тревогу. – Да, согласна, – ответила она подумав.
– Ваня свяжет вас с человеком, от которого получите подробные инструкции, – сказал генерал и, выждав с минуту, добавил: – Но вы еще можете подумать. Я не хочу подвергать вас опасности… Вы так молоды.
– Я твердо решила, Михаил Андреевич, – сказала Маша, испугавшись, что он подметил ее минутное колебание и теперь не решится послать. – Я верю, что все будет хорошо.
– Ну, желаю успеха, – генерал поклонился, проследил, как Маша твердой походкой вышла из комнаты, и протяжно вздохнул. – Карту! – сказал он.
И Ваня быстро развернул на столе карту.
Знакомые названия замелькали перед глазами генерала. Он видел деревни, рощи, где он собирал грибы, речки, где ловил раков, поля, по которым ходил в лаптях из лык, надранных тайком в барском лесу. И вот теперь он – генерал, командир дивизии, которая на этих же полях сражается против немцев… Немцы на смоленской родной земле. В пяти километрах от Спас-Подмошья… Отсюда около трехсот километров до Москвы… А в дивизии – художники, литераторы, скульпторы, астрономы, математики, историки, актеры. Справа и слева действуют регулярные дивизии, но они утомлены непрерывными боями, а немцы все наседают, и нужно затормозить их движение во что бы то ни стало.
Вчера дивизия потеряла четверть своего состава. Но она не пропустила врага. Теперь нужно закрепиться на этом рубеже и стоять до тех пор, пока…
Скрипнула дверь, и через порог медленно переступил Андрей Тихонович. Генерал изумленно посмотрел на отца:
– А я думал, что и ты ушел в лес со всеми, отец.
Андрей Тихонович снял картуз, поправил руками волосы, остриженные в кружок, и сел на скамью.
– А мне уходить некуда, Михаил, – сказал он спокойно. – Я свой век прожил.
– А если нам придется отсюда уходить?
– Запалю дом, скотный двор… Все запалю, чтоб ничего немцу поганому не досталось, – тихо проговорил старик.
– Тебя для этого и оставили?
– Сам я остался. У Николая рука не запалит: жалко. А я сказал: беру грех на себя, мне все равно помирать. А уходить – совестно… Уж на что грач – птица смирная, а попробуй – тронь гнездо, глаза по выклюет. Ты вот приказы от начальства своего выполняешь, и мне надо приказ выполнить.
– Чей приказ? – с улыбкой спросил Михаил Андреевич.
– Сталина. Он чего сказал? Все запалить. Ничего врагу не давать: ни зернышка, ни клочка сена. Пущай идет по голой земле, – Андрей Тихонович усмехнулся, видимо, представив себе, как вражеские войска бредут по совершенно голой земле. – Это в ту еще войну бывало как немца в плен возьмешь, то первым делом ему на портках все пуговицы обрежешь. Вот он держится за портки руками, а бежать не может… Так и теперь обрезать ему все пуговицы…
– Сжечь недолго, а как потом жить будем? – сказал адъютант Ваня.
– Живы будем, опять всего понастроим, – убежденно ответил старик. – А жалко, верно. Так вить терпеть надо… Наш народ терпением силен. Приходит это раз к доктору француз, криком кричит: зуб болит, скорей, мол, рвать надо, помираю. Ну, вырвал ему доктор больной зуб, полегчало. Приходит тем разом и наш мужичок. И у мужичка зуб разболелся. Ну, доктор посадил его, рванул. А мужичок выплюнул зуб, да и говорит: «Эх, ты, доктор, рви уж и тот, который рядом». – «А зачем?» – спрашивает доктор. «А затем, – смеется мужичок, – что ты мне здоровый зуб выдернул. А теперь уж тащи больной…»
Адъютант Ваня рассмеялся беззвучно, щеки его налились кровью и стали похожи на два помидора.
– Немцы выдернули мне здоровый зуб, – помолчав, сказал старик, – а ты, Михаил, рви больной.
– О чем ты, отец? – удивленно спросил генерал, отрываясь от карты.
– Я про Тимофея говорю. Осрамил он наш род дегтяревский. Не было в нашем роду подлых людей…
– Расследуют, допросят, а там видно будет, – неопределенно сказал генерал, проводя карандашом красную зигзагообразную черту между Шемякиным и Спас-Подмошьем.
– Ты меня допусти к нему, Михаил. Я его по-своему допрошу, сукинова сына, – старик задышал часто, нервно тиская картуз в руках. – Я из него душу вытрясу подлую!
– Ну что же, поговори, отец, – сказал генерал, проводя новую черту красным карандашом, параллельную первой, зигзагообразной, линии, потом провел вторую такую же линию ближе к Спас-Подмошыо, третью – еще ближе, четвертую – через сад «Искры», и, наконец, пятую – по «садибам», как на Смоленщине называют приусадебные участки и огороды; проведя черту на «садибах», генерал сказал себе: «Вот наш последний рубеж!»
Андрей Тихонович подошел к трансформаторной будке, возле которой стоял часовой, боец комендантского взвода, сталепрокатчик Турлычкин, передал ему записку от Михаила Андреевича и сказал:
– Мне генерал, сын, стало быть, мой, дозволил с человеком поговорить, который тут, в будке, сидит, сын, стало быть.
– Да кто сын тебе? – удивленно спросил Турлычкин. – Генерал или арестованный?
– И генерал – сын, и этот, Тимофей, – сын. У меня четверо сынов, да только один вот этот… – старик огорченно махнул рукой. – Все мои сыны в люди вышли. Егор вон какой машиной управляет в Москве на заводе, где железо делают.
– Егор Андреевич, стало быть, ваш сынок? – спросил Турлычкин, широко улыбаясь.
– Нешто знакомый ему?
– Да я у него на прокатном стане работаю. Он у нас старшим мастером. Вроде инженера, хоть и неученый. Редкий человек – Егор Андреевич. Он в большой чести на заводе, и по всей Москве его знают… Стало быть, вы ихний папаша, – с уважением проговорил Турлычкин. – Ну что же, поговорите, раз такое дело.
Андрей Тихонович подошел к будке; на железных дверях ее были нарисованы череп и перекрещенные кости, а сверху крупно написано: «Смертельно! Не прикасаться!» В дверях было крохотное окошечко с решеткой.
Андрей Тихонович заглянул в окошечко и увидел Тимофея: он сидел на корточках и курил.
– Достукался? – сказал Андрей Тихонович дрожащим голосом. – Как пса, заперли в будку… Гитлеру хотел предаться?
– Я, батя, ни душой ни телом… – начал было Тимофей.
Но старик гневно продолжал:
– Изменщиком стал? Против своей власти руку поднял? На гитлеровой дочке жениться хотел? А?
– Да я, батя, весь век со своей Маврой… Шестеро детей!.. Господи! – натужно выкрикнул Тимофей.
– Знаю я тебя, шелапут! Ты сызмальства такой… И родился ты не в добрый час…
– Ну я ж не виноват в том, батя!
– Виноват! – крикнул старик и, подумав, что сказал не то, смутился, умолк.
Живо представился ему тот июльский, горячий день, когда его вызвал к себе приходский священник отец Серапион. Строго взглянув на Андрея Дегтярева, он сказал: «Вчера крестил твоего младенца Тимофея. Отсчитал девять месяцев – и выходит, что зачат он в филипповский пост. Во грехе зачат сын твой. Налагаю на тебя, Андрей, епитимию. Сто поклонов поутру на паперти храма каждый день будешь класть, может, бог и простит тебе грех». На другой день утром Андрей Тихонович пришел на паперть и начал отсчитывать поклоны. Но так как ему нужно было итти на покос, то в раздражении на Серапиона и на Тимофея он приговаривал: «Чтоб черти вас подрали!» С тех пор он не взлюбил Тимофея и часто поколачивал его. Тимофей рос злым и непослушным мальчишкой, а потом и вовсе отбился от рук, стал зашибать вино, бросил ходить в школу. И только сейчас Андрей Тихонович подумал, что он сам виновник пагубного Тимофеева характера, потому что озлобил сына еще в раннем детстве.
И уже мягче старик сказал:
– Счастье твое, что Михаил тут за главного, а то убили бы тебя, как собаку. Говори, чего с тобой теперь делать нам?
– Да я, батя, хоть головой в воду за советскую власть, вот хоть провалиться мне на этом месте! – жалобно заговорил Тимофей. – По дурости все вышло… Споил он меня, немец этот, чтобы ему сдохнуть! Я все могу сделать, батя, чего прикажет Михаил… Я самому Гитлеру голову оторву, а не то што… – Тимофей приблизил к решетке серое лицо свое с ввалившимися глазами. – Мне теперь нету жизни, покуда не заслужу перед советской властью прощение… А ежели надо, то пусть стреляют меня, – тихо проговорил он и заплакал.
Немцы, заняв Шемякино, не возобновляли атак, лишь изредка оттуда прилетал шальной снаряд да по ночам непрестанно вспыхивали ракеты.
Генерал Дегтярев сам допрашивал пленного танкиста. Пленный назвал себя Паулем Тринкером, при этом пощелкал пальцем по горлу и подмигнул с глуповатой улыбкой – это должно было означать, что он, как показывает его фамилия, любит выпить в любое время дня и ночи. Он сказал, что побился об заклад с приятелем Шульцем, который служит в танковой дивизии «Германия», что первым въедет на своем танке в Москву.
– Судьба! – с такой же глупой улыбкой проговорил немец. – Я проиграл пари. Это мне будет стоить две бутылки советского шампанского «Абрау-Дюрсо».
– Нет, немножко дороже, – оборвал его генерал. – Откуда вы прибыли на этот фронт?
– Я воевал в Польше, в Голландии, во Франции. Я проехал на своем танке всю Европу! – гордо вскинув голову, ответил пленный. – Вино в Польше никуда негодное – краска. В Голландии великолепный сыр к закуске… В Париже я пил чудесное бургундское… и еще какое-то, черт его… забыл названье, но восхитительно! Но еще восхитительней – женщины… – Тринкер причмокнул и щелкнул пальцами, подмигнув Маше.
Генерал закричал:
– Говори, подлец, сколько ваших войск в Шемякине! Какие части? Какое задание получила ваша танковая бригада?
Маша перевела, но пленный сказал, что ничем, кроме вина, не интересовался и знает из разговоров лишь о том, что грузовики, на которых везли за ними вина, использованы для вывоза раненых в Смоленск, что, по совершенно непонятным причинам, движение войск на Москву приостановилось, идут затяжные бои на всем протяжении фронта от Ельни до Ярцева и что их танковая бригада должна была сломить сопротивление русских и первой прибыть в Москву, но, к сожалению он, Пауль Тринкер, проиграл пари, и теперь первым въедет в Москву его приятель Карл Шульц из танковой дивизии «Германия».
– Можете не беспокоиться, он не въедет в Москву, – сказал генерал.
Потом он вызвал коменданта и сказал:
– Расстреляйте этого мерзавца! В записной книжке его сорок пять женских имен. Это все жертвы его насилия… Убить!
Расстрелять насильника велено было Турлычкину. Он повел немца в сад. Руки у него дрожали: он растерялся оттого, что ему предстояло убить человека. Правда, перед ним был враг, осквернивший его родную землю, и он ненавидел его. Турлычкин понимал, что нужно убить этого мерзавца, и все же он испытывал чувство отвращения к тому, что должен был сделать. Он привык думать, что человек – самое великое из всех творений природы.
– Нет, ты не человек, – говорил Турлычкин, шагая позади немца, забыв о том, что тот не понимает его, – и я убью тебя. Ты опоганил мою душу… И я ненавижу тебя вдвойне за то, что ты обесчестил высокое и гордое имя – Человек…
Турлычкин выстрелил и, не глядя на то, что лежало у ног его на траве, быстро, почти бегом, пошел прочь, задыхаясь от острого запаха гниющих яблок, усеявших землю.
Турлычкин попросил у Маши воды и долго мыл руки. Он как-то сразу постарел и стал не похож на того могучего парня, который ворочал возле прокатного стана раскаленные болванки. И Маша поняла, что он взял на плечи свои более тяжкий груз, чем железо.
Теперь сама Маша ощутила всем своим существом тяжесть душевной ноши, которую возложила на нее судьба.
Маша отправилась в Шемякино в дождливую августовскую ночь. В сопровождении военного с одним кубиком на петлицах она дошла до переднего края дивизии. Они долго искали землянку командира роты Комарикова. Военный с кубиком на петлице сказал Комарикову, указывая на Машу, что эту женщину нужно пропустить через линию обороны, а через два дня ждать ее возвращения.
– Дегтярев! – крикнул Комариков в темноту.
Послышались быстрые шаги, и Маша, замирая от радости, услышала знакомый голос:
– Боец Дегтярев явился по вашему приказанию, товарищ комроты!
Было темно, фигура Дегтярева смутно чернела в трех шагах, и Маше хотелось прикоснуться к нему рукой.
– Доведете женщину… вот тут она стоит, – сказал Комариков зевая, – до нашего боевого охранения, и пусть идет, куда ей надо.
Дегтярев удивленно взглянул на неясную женскую фигуру и сказал:
– Идите за мной.
Под ногами попадались какие-то кочки, Маша споткнулась и невольно схватилась за руку Владимира.
– Осторожней, здесь ямы, – сказал Владимир и вдруг почувствовал необъяснимое волнение.
– Это я, – тихо прошептала Маша, сжимая его руку.
– Куда же ты? – спросил Владимир и, уже задавая этот вопрос, догадался, куда и зачем идет Маша.
– Я скоро вернусь… Через два дня… Жди меня. Я буду переходить здесь, – шептала Маша.
Держась за руки, они дошли до кустов, где их кто-то окликнул. Скоро Маша скрылась в густой тьме, но Владимир еще долго стоял и смотрел в том направлении, куда она пошла. Там, вдали, вспыхивали яркие звезды ракет и время от времени раздавался тревожный прерывистый стук пулемета, напоминавший захлебывающийся лай злого цепного пса.
И, глядя на эти вспышки, Маша уверенно шла по овражку, который тянулся до самого Шемякина. Этим овражком она не раз ходила, сокращая путь из Шемякина в Спас-Подмошье. Она не испытывала страха, может быть, потому, что не представляла себе всей опасности порученного ей дела: она видела пока только одного фашистского солдата, которого допрашивал генерал. Но этот жалкий человечек не мог внушить ей страха.
В Шемякино она пришла на рассвете и постучалась в окно. Татьяна открыла дверь и ахнула, увидев Машу.
– Машенька! – шепотом воскликнула она.
И Маше показалось, что Татьяна не рада ее приходу: такая тревога была на лице подруги.
Татьяна обняла Машу и увела в маленькую каморку, где не было окон.
– А я так порадовалась, что ты в Подмошье и тебе не пришлось еще хлебнуть горя, – сказала она, прижимаясь дрожащим телом к Маше. – А мы-то уж натерпелись тут… – на глазах ее выступили слезы. – Павлика убили…
– Шапкина убили? За что? – вся холодея, спросила Маша.
– Стали выгонять на окопы, а он и говорит: «Не стану я рыть окопы для врага моей Родины…»
«Какой смелый… герой!» – воскликнула про себя Маша, с ужасом думая, что вот она – слабый, обыкновенный человек, не способный на подвиг.
Татьяна рассказала, что весь народ немцы выгоняют с утра рыть окопы и заставляют работать без отдыха весь день. Она показала руки свои в кровоточащих ранах от лопнувших мозолей.
– Один только Яшка ничего не делает, ходит да посмеивается. Слыхать, он на немцев согласился работать, мерзавец… Напрасно ты пришла, Машенька. Увидит он тебя и опять начнет приставать. Теперь от него не избавишься, – сказала Татьяна, с жалостью глядя на Машу.
Отправляясь в Шемякино, Маша так поглощена была думами о том, как лучше всего выполнить задание генерала, что совершенно забыла о Яшке. Она намеревалась жить в Шемякине так, как жила раньше, открыто, чтобы видеть все, что делается вокруг. Теперь этот план рушился из-за Яшки. Конечно, показываться ему на глаза нельзя: он начнет приставать. Но и сидеть в этой каморке бессмысленно: она ничего не узнает и не выполнит задания.
– И зачем ты только пришла, несчастная ты, Машенька! – с болью проговорила Татьяна. – Ну зачем, скажи?
– Тоска одолела, Таня… Сжилась я с вами, – сказала Маша, помня, что даже Татьяне, своему лучшему другу, она не может открыть тайну. Нужно было лгать, а лгать Маша не умела: в этом не было раньше нужды. Она привыкла жить с открытой для всех душой. У нее было одно общее со всеми шемякинцами дело. И вся жизнь ее протекала среди людей, от которых не нужно было таиться. Теперь она пришла в другой, чужой мир и должна обманывать всех: и немцев, и Татьяну, и Яшку…
«Да да… и Яшку обману», – вдруг подумала она с радостью.
– Ничего плохого мне не сделает Яшка, – сказала Маша. – Все-таки любит он меня… – Она помолчала, собираясь с силами, чтобы сказать самое страшное. – А потом, может быть, и я была неправа. Гнала его от себя, озлобила. Ведь он тоже человек…
– Гад он! – с возмущением сказала Татьяна. – Не успели немцы ввалиться в деревню, он к ним, хвостом виляет, как пес… Предатель!
– Вот я и попробую объяснить Яшке, что он скверно поступает, что это предательство…
– Ой, Машенька, да неужто ты не знаешь его? Он же зверь бешеный! – прошептала Татьяна.
В окно застучали громко, грубо.
– Выходи скорей на работу! Живо! – раздался властный голос под окном.
– Это он… Яшка, – сказала Татьяна, торопливо набрасывая на себя платок. – Не ходи, куда ты! Послушай моего совета, Машенька! – зашептала она, увидев, что Маша тоже идет к двери. – Погубит он тебя. Уходи в Подмошье, родная!
Но Маша вышла с ней на крыльцо и, не успел изумленный Яшка вымолвить слова, весело сказала, протягивая руку:
– Здравствуй, Яша.
Яшка, не отпуская ее руку, спросил настороженно:
– Где же ты пропадала?
– Пошла к отцу, проведать, а тут вот что случилось… Ну, я потом, Яша, все расскажу, а сейчас надо на работы итти, окопы рыть…
– Я скажу немецкому начальнику, и он освободит тебя от работы, – важно проговорил Яшка, закуривая немецкую сигаретку.
– Мне перед людьми неудобно. Всех ведь выгоняют. Вот и Таня идет.
– Твое дело особое, Маша, – многозначительно проговорил Яшка. – Устрою. Не ходи. Дожидайся меня тут.
Яшка ушел. Он шагал по улице, заложив руки в карманы, дымя сигареткой, сдвинув кепи на ухо. Ушла и Таня.
Маша осталась вдвоем с больной Вассой Тимофеевной. Старуха простудилась и не вставала с постели уже второй месяц.
– Голубушка ты моя, Машенька, уходи ты, покуда можно. Затиранят они тебя тут, – сказала старуха охая. – Мне-то уж помирать не страшно, век свой отжила, а твоя жизнь, Машенька, в самом цвету… И с Таней вдвоем уходите… Не будет вам тут жизни… А я уж как-нибудь перетерплю одна… Вы мне только нож вострый оставьте…
– А зачем вам нож?
– Хоть одного заколю перед смертью… Он подойдет, а я ножом… За тебя, за Таню… за пшеничку нашу! По зернышку мы перебирали руками… А пшеничка-то, сказывала Таня, взялась такая высокая, такая колосистая, что век такой не видали в Шемякине… Все твое доброе сердце, Машенька. Ты научила нас уму-разуму. Зажили бы мы счастливо, не будь этого поганого немца… По самой пшеничке окопы роют, – проговорила Васса Тимофеевна, вытирая слезы.
Пришел Яшка и с торжествующей улыбкой объявил:
– Комендант сказал: «Пусть гуляет, раз она твоя невеста».
– Как… невеста? – протестующе воскликнула Маша.
– Иначе не освободил бы от окопов, – сказал Яшка, пристально вглядываясь в лицо Маши.
– А почему же они, немцы, так внимательны к тебе? – уже спокойно спросила Маша, превозмогая чувство отвращения к этому ничтожному человеку.
– Узнали, что я был под судом, – глядя в землю, ответил Яшка. – А мне наплевать на всех! Пойдем гулять. Комендант велел, чтобы я показал ему тебя. Спрашивал, когда свадьба…
– И что же ты ответил ему? – спросила Маша.
– А это уж ты мне должна ответить, – с усмешкой промолвил Яшка. – Я долго ждал твоего слова.
Он взял ее под руку, и они пошли по улице.
– А может, ты к этому… к Дегтяреву бегала? – вдруг спросил Яшка, заглядывая Маше в глаза.
– Нет, Яша… У него есть другая… красивей… Та, что приходила за ним к костру, помнишь? Он ушел с ней, – сказала Маша, удивляясь тому, что все, что она говорит, очень похоже на правду.
– Нет, ты красивей ее, – сказал Яшка, стискивая ее руку. – Эх, Маша! И помучила же ты меня! А я отчаянный, убить могу.
– Кого? – вздрогнув, спросила Маша.
– Тебя… чтоб никому не досталась, – жестко проговорил Яшка.
И Маша подумала: «Да, Таня права, зверь… Это фашистские людоеды разбудили в нем зверя. – Она вспомнила, как Яшка положил перед ней сверток с конденсаторами, за которыми ходил в Смоленск, и лицо его, просветленное сознанием совершенного впервые доброго дела. – Да, и Яшка мог быть человеком».
Они шли по улице, и Маша все запоминала: танки, укрытые между домами, и орудия, замаскированные березовыми ветвями, и то, что к дому бывшего председателя Сорокина прошел немецкий офицер.
– У них там штаб, – сказал Яшка: его распирало от желания показать Маше, что он все знает. – Сорочиху выселили с ребятами в овин, а тут сам командир танкистов. Важный такой… А вина у них!..
«Как хорошо я поступила, обманув Яшку!» – подумала Маша, довольная, что пока все складывается в ее пользу.
– Что же ты молчишь? – вдруг спросил Яшка. – Насчет свадьбы?
– Почему ты так торопишься с этим, Яша? Видишь, какое сейчас время…
– А чего ждать? Будешь ждать, так, не ровен час, и к коменданту назначат.
– Как назначат… Зачем?
– Ну, зачем… Не знаешь, зачем? – криво усмехаясь, проговорил Яшка. – Таньку уже назначили.
– Таню? – воскликнула Маша, чувствуя, что ею овладевает ужас. – Ты не должен допустить до этого, Яша! Ты подумай, что будет с Вассой Тимофеевной… Нет, нет! Ты должен ее защитить!
– А я чего могу сделать? Скажут: мы твою невесту не трогаем, а до прочих тебя не касается. Я за тебя и то должен отслужить им, – Яшка как-то сразу умолк.
Комендант Штумм, затянутый в серо-зеленый мундир, напоминал капустную гусеницу.
– Это моя невеста, – сказал Яшка, снимая кепи и кланяясь.
– Sehr gut! Sehr gut![1]1
Очень хорошо! Очень хорошо!
[Закрыть] – прорычал Штумм и, подмигнув писарю в очках, сидевшему у окна, сказал такое слово по-немецки, что у Маши запылали щеки, и Маша, опасаясь, что комендант может догадаться, что она знает немецкий язык, поправила галстук Яшки, сбившийся набок.
Когда вышли на улицу, Яшка тревожно сказал:
– Про свадьбу ничего не спросил. Может, и тебя, как Таньку… Давай, Маша, завтра сыграем свадьбу.
– Ты говоришь о свадьбе, Яша, но даже не спросил: люблю ли я тебя, – с обидой сказала Маша. – Давай пройдем за деревню, к соснам… Там посидим, поговорим.
Она издали заметила, что там, между деревьями, желтеют какие-то ящики; ящиков было много, и солдаты складывали их в штабели.
– Что ты! Что ты! – испуганно воскликнул Яшка. – Там снаряды складывают. Сейчас застрелят, как Шапкина…
На другой день они снова гуляли вдвоем, пока все шемякинцы рыли окопы. И эти прогулки были для Маши самой тяжкой из пыток. Яшка настаивал на немедленной свадьбе. И Маша вынуждена была сказать, что она согласна на свадьбу в конце сентября, потому что сейчас все люди заняты на работах для немцев и никто не сможет притти на свадьбу, а ей хочется, чтобы все видели ее счастье.








