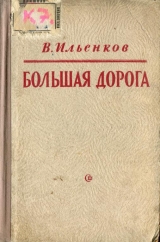
Текст книги "Большая дорога"
Автор книги: Василий Ильенков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 21 страниц)
Николай Андреевич с минуту молчал, шумно дыша.
– Ты ведь не помнишь, мал тогда был, как мы с Кузьминичной на одной жидкой ржаной болтушке жили, и ничего – и пахали, и косили, и молотили… Бывало закружится в голове, водички хлебнешь, полежишь – и опять за косу… Все вытерпели. Не хлебом питались, а одной голой верой, что дальше лучше будет… Бывало праздник Октябрьской революции, на митинг соберу людей, речь им говорю… о коммунизме. А кругом крыши раскрытые, солому-то скотина поела… и люди стоят черные от ржаной болтушки, и злые… А ты им о коммунизме. Большая вера нужна была, чтобы все это вытерпеть и не отчаяться… А ты на готовое пришел. На станцию ты теперь в машине едешь по мостику, а я тот мостик ставил, по грудь вводе ледяной сваи вколачивал. Не в упрек тебе говорю это и не для славы своей. Так и быть должно, что ты по моему мостику едешь на свою высокую гору… Только и мою «Кудеярову гору» не высмеивай. Уважай мою гору…
– Я не высмеиваю, уважаю и горжусь тобой, отец! – взволнованно сказал Владимир. – Только ты из-за своей горы не видишь всего большого мира… Посмотри, что творится вокруг. Сколько уже государств подмяли под себя фашисты, почти всю Европу… К нам подбираются. И если случится беда, то танки через твою Кудеярову гору переползут, как через кротовище. Только через великую гору нашего государства им не переползти… Значит, надо всеми силами крепить могущество нашего государства, с его горы высокой глядеть на мир…
– Да ведь я сознаю это, – тихо проговорил Николай Андреевич, разглядывая большую свою руку с обломанными ногтями, в желтых буграх мозолей, точно и в самом деле собирался карабкаться на какую-то высокую гору. – А ребят, которых Егор для завода просил, после посевной отправим. Второй раз на правлении обсуждали, признали свою ошибку. Са-мо-кри-ти-ка!
Донесся хриплый крик петуха. Начинался рассвет.
Владимир схватил руку отца и прильнул к ней губами. Николай Андреевич, смущенный и растроганный неожиданной лаской, задышал часто, прерывисто и, чувствуя подступающее удушье, распахнул окно.
Послышались мягкие гулкие звуки, как будто где-то вдали булькала и переливалась вода. Они то затихали, то становились громче, и снова наступала короткая пауза; потом звуки полились непрерывно, то повышаясь, то понижаясь, и теперь казалось, что кто-то нетерпеливый задает один и тот же недоуменный вопрос, а другой отвечает ему невнятным бормотанием.
– На Чистой поляне играют… Километра полтора, а как слышно! – восторженно сказал Николай Андреевич, снимая со стены ружье. – Пошли?
Владимир быстро оделся. И оба они, движимые одним чувством радостного волнения оттого, что разговор привел их к сердечному сближению, и оттого, что голос весны вызвал в них острую жажду движения, деятельности, схватили ружья и тихонечко, чтобы никого не разбудить, вышли из дому.
Небо на востоке чуть-чуть позеленело. Гулкое бормотание доносилось все отчетливей и громче.
– На Чистой играет, – уверенно сказал Николай Андреевич. – Каждый год поет на этом месте.
И они пошли между еще голых кустов, среди тоненьких, белеющих в утреннем сумраке, березок туда, где пел опьяневший от весны тетерев, – на Чистую поляну.
– Два косача играют… А знаешь, о чем они бормочут? – сказал Николай Андреевич улыбаясь. – Один говорит другому, – тут Николай Андреевич надул щеки и, подражая токующему тетереву, забормотал сердитой скороговоркой: – «Твой брррат моего бррра-т-т-та-та топоррром… топорром!» А другой ему отвечает: «Твой бррат моего брра-та-та топоррром… топоррром!» Вот так и спорят от сотворения мира…
И оба они, отец и сын, громко расхохотались, – уж очень похоже получилось на то, как бормочут тетерева.
И вот снова восходит солнце, и снова Владимир идет на Чистую поляну, где гулко, отрывисто, злобной скороговоркой бормочет тетерев: «Мой бррат твоего бррат-та-та топоррром… топоррром!»
Но кто-то сбоку говорит, что это стучит немецкий пулемет. Немецкий десант на Чистой поляне! Это кажется Владимиру так же невероятно, как невероятно и то, что рядом с ним шагает академик Викентий Иванович Куличков в гимнастерке с четырьмя красными эмалевыми треугольниками на петлицах, с длинным охотничьим ножом у пояса, с винтовкой в руках… Действительный член Академии наук в звании старшины! Конечно же, все это – скверный сон, и стоит лишь встряхнуться, протереть глаза – и все это наваждение исчезнет.
Владимир поднимает отяжелевшую руку, чтобы протереть глаза, останавливается.
– Вперед! Вперед, Дегтярев! Не отставай! – кричит академик-старшина, и теперь Владимир уже не сомневается, что все это – сон, потому что академик прокричал это каким-то неестественным, не своим – визгливым тенорком.
Настоящий Викентий Иванович никогда никому не говорил «ты», кроме Наташи. И Наташа тоже здесь… Она шагает в тяжелых кирзовых сапогах, и через плечо ее висит сумка с красным крестом.
– Назад! Куда ты лезешь? – кричит ей Викентий Иванович. Наташа испуганно останавливается, лицо ее заливает румянец стыда: она не привыкла, чтобы на нее кричали…
Рядом с ней шагает Борис Протасов, и тоже с винтовкой. Он тяжело волочит ноги, и за ним, словно змея, извивается развязавшаяся обмотка.
– Боец Протасов! Завяжите обмотку! – кричит старшина-академик. – Когда вы научитесь следить за собой?
– Есть завязать обмотку, – покорно отвечает Борис.
Все невероятно, нелепо, как в кошмарном сне. Какие-то серенькие птички прыгают на земле впереди. Слева артиллеристы тащат на руках пушку, вкатывают ее в густую пшеницу, посеянную Машей, топчут ее ногами, колесами, топчет пшеницу и командир орудия Коля Смирнов, изобретший электровеялку, чтобы отсортировать семена, давшие эти чудесные всходы!
…Впереди Дегтярева бежит Турлычкин; поблескивают гвозди на его каблуках. Вдруг серенькие птички запорхали под его ногами, и, словно боясь наступить на них, Турлычкин упал.
– Ложись! – надрывно кричит старшина-академик и падает животом на землю. – Окопаться!
Падает на землю и Владимир. В трех шагах впереди тускло поблескивают гвозди на каблуках Турлычкина, и теперь Владимир уже знает, что серенькие птички, прыгающие по земле, – это клубочки пыли от пуль немецкого пулемета и нужно как можно скорей набросать впереди себя лопаткой бугорок земли, чтобы укрыть за ним голову. И Владимир, лежа на животе, начинает долбить лопаткой землю, уже ясно сознавая, что это не сон, а страшная жизнь, начавшаяся двадцать второго июня.
И теперь Владимиру казалось сном уже то, что было до этого вот здесь, на этой Чистой поляне, в апреле: и то, что он на заре шел с отцом вон к той елочке, за которой влюбленный косач пел свою весеннюю песню; и то, что вон там, за кустом можжевельника, стояла Маша, а он положил к ногам ее краснобрового косача; и то, что они потом сидели вон там, на Кудеяровой горке, и смотрели на далекий, затянутый дымкой цветения лиловый бор…
Да было ли все это? Были ли так близко ее глаза, ее руки, ее светлые волосы, позолоченные восходящим солнцем, губы ее, раскрытые в обжигающем, трепетном дыхании?
– Вперед! Вперед, Дегтярев! – снова кричит старшина-академик, быстро вскакивая, закладывая в винтовку обойму.
И Владимир встает с земли и тоже щелкает затвором винтовки, уже отчетливо сознавая, что все, что было здесь, на Чистой поляне, в апреле, – лишь далекий прекрасный сон, а реально только вот это злобное бормотание железного тетерева, который твердит извечное: «Мой бррат твоего брра-та-та… топоррром… топоррром!»
Двадцать второго июня возле военных комиссариатов Москвы выстроились длинные очереди тех, кто должен был явиться в первый день войны. Здесь же стоили и те, которые не были обязаны являться в этот день, но не могли оставаться дома, как не может оставаться дома человек, увидевший из окна пожар на своей улице.
В одной из таких очередей стоял и Владимир Дегтярев, хотя он имел отсрочку до особого распоряжения. Вглядываясь в лица стоявших в очереди и проходивших мимо по улице, он подметил, что все были задумчиво-грустны, встревожены, никто не улыбался, и то, что улыбка исчезла с лица людей, было самое страшное. Говорили тихо, почти шепотом, как говорят в доме, где лежит опасно больной. Владимир жадно вглядывался в незнакомые лица, и все казались ему красивыми, милыми, близкими, «своими», и ему хотелось запомнить эти лица, потому что он знал, что большинство из них он никогда больше не увидит, и сердце его дрогнуло от жалости ко всем этим людям, и все существо его затрепетало от гнева против злой, темной силы, царящей над миром.
«Запад с его империалистическими людоедами превратился в очаг тьмы и рабства», – вдруг вспомнил он слова из эпиграфа к своей книге и с горечью подумал, что так и не удалось выполнить задуманное дело. «Нужно отдать рукопись на хранение Викентию Ивановичу… Вернусь, – и тотчас же поправил себя, – если вернусь… закончу».
Дежурный по военкомату, просмотрев воинские документы Владимира, сказал:
– Что вы здесь мешаете? Когда вы будете нужны, вызовем… Следующий!
Владимир вышел, красный от смущения и досады, и столкнулся в дверях с академиком.
– А вы зачем, Викентий Иванович? – удивился Владимир, вглядываясь в торжественное лицо академика.
– А я… видите ли… тут одно дело, – пробормотал Викентий Иванович, отводя взгляд в сторону, и у него был такой растерянный вид, словно у мальчишки, которого застали на месте преступления. – Собственно говоря, этот вопрос я мог бы задать и вам…
И они оба улыбнулись.
…Каждое утро Владимир просыпался с надеждой, что немецкие полчища уже остановлены и обращены в бегство. Он непоколебимо верил в могущество государства. Но, прочитав газету, Владимир с разочарованием убеждался, что события идут совсем не так, как он предполагал. Советские войска отступали, сдерживая яростный натиск врага. Горели города и села, леса и заводы на всем огромном пространстве от границы до Смоленска.
Но Владимир все еще думал, что страшного в этом ничего нет, что наши войска совершают заранее продуманный отход до какого-то рубежа, где враг будет опрокинут и разбит наголову.
– Что же будет дальше? Как ты думаешь? – спросил Борис Протасов однажды, когда они, встретившись у Куличковых, засиделись до утра.
– Думаю, что все будет хорошо, – сказал Владимир, пристально глядя в глаза Протасову, стараясь отгадать, что же думает об этом сам, задающий этот вопрос.
– Почему же ты так уверен в этом? – спросил Протасов, отводя глаза в сторону.
– Потому, что у нас самое лучшее государство, и еще потому, что во главе этого государства стоит самый мудрый человек из всех людей, живущих на земле… Наконец еще и потому, что миллионы наших советских людей нельзя сделать рабами…
– Народ собирается на площади, – сказала Наташа, глянув в окно, и включила репродуктор.
В репродукторе что-то зашуршало, словно ветер перебирал шелестящие листья. Потом звякнуло стекло и послышалось тихое бульканье воды, с каким она выливается из горлышка графина.
– Товарищи! Граждане! Братья и сестры!.. – раздался негромкий, неторопливый голос, в котором чувствовалось скрытое волнение. – Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!
– Сталин! – тихо сказал Владимир, узнав грудной знакомый голос, который он мог бы отличить из миллионов голосов.
Эти простые и в то же время необыкновенные слова обращения – «друзья мои» – до глубины души взволновали Владимира своей сердечной теплотой. И он невольно встал. Глядя на Владимира, встали и академик с дочерью. Только Борис Протасов приподнялся и снова опустился на стул.
– Вероломное военное нападение гитлеровской Германии на нашу Родину, начатое 22 июня, – продолжается. Несмотря на героическое сопротивление Красной Армии, несмотря на то, что лучшие дивизии врага и лучшие части его авиации уже разбиты и нашли себе могилу на полях сражения, враг продолжает лезть вперед, бросая на фронт новые силы…
«Значит, правда, горькая правда», – думал Владимир, опустив голову.
– Дело идет, таким образом, о жизни и смерти Советского государства, о жизни и смерти народов СССР, о том – быть народам Советского Союза свободными, или впасть в порабощение…
Это говорил самый бесстрашный из всех людей. Только теперь Владимир почувствовал всю серьезность обстановки. Он ощутил на себе торжествующий взгляд Протасова.
– Необходимо, далее, чтобы в наших рядах не было места нытикам и трусам, паникерам и дезертирам, – уже деловито, спокойно звучал голос, – чтобы наши люди не знали страха в борьбе и самоотверженно шли на нашу Отечественную освободительную войну против фашистских поработителей…
«Вот… вот и ответ тебе, слушай! – взглядом сказал Владимир Протасову. – Ты испугался, жалкий трус!»
Протасов отвернулся к окну.
– …и все граждане Советского Союза должны отстаивать каждую пядь советской земли, драться до последней капли крови…
И когда голос в репродукторе умолк, академик сказал торжественно:
– Да, да… до последней капли!
– Уже бомбят Смоленск… А от Смоленска до Москвы всего четыреста километров, – перебил его Протасов.
– Нет, не четыреста, ошибаешься, – спокойно сказал Владимир.
– Могу поспорить: точно четыреста!
– Нет. Расстояние между Смоленском и Москвой бесконечно…
– Ну, это уже философия, – с презрительной усмешкой сказал Протасов. – А у них танки…
– Философия свободных людей более могуча, чем танки, управляемые рабами.
– Позвольте пожать вашу руку, Владимир Николаевич, – взволнованно сказал академик. – Ну что ж, друзья, пойдемте записываться в народное ополчение.
– Позвольте, Викентий Иванович, ведь вам уже шестьдесят два, – с улыбкой проговорил Протасов.
Но академик сердито прервал его:
– Это не имеет никакого значения, когда идет речь о жизни и смерти всего государства… всего народа… Идемте, Владимир Николаевич?
– Да, Викентий Иванович, – просто сказал Владимир и пошел вслед за академиком в прихожую, где висело его пальто.
– И я с вами, – сказала Наташа, надевая шляпу перед зеркалом.
– Хочешь проводить нас? – спросил академик.
– Нет. С вами, в ополчение…
– Вы? В опол-че-ние? – воскликнул Протасов с насмешливым удивлением.
– Что же в этом смешного? – обиженно сказала Наташа, прикалывая шляпку к волосам длинной шпилькой.
Тоненькая, изящная, в легкой шелковой накидке, она, казалось, только что сошла с витрины ателье мод на Кузнецком Мосту. И академик и Владимир смотрели на нее с изумлением и восторгом.
– Вы же слышали, что он сказал? «Все граждане должны… до последней капли…» А вы? Вы разве не пойдете с нами?
Протасов побледнел. Этот вопрос застал его врасплох. Конечно, он уже в первый день войны подумал о том, что его могут взять в армию, и эта мысль тревожила его до тех пор, пока он не узнал, что аспиранты его института пользуются отсрочкой. И в тот момент, когда Владимир вышел в прихожую вслед за академиком, Протасов пережил чувство бурной радости: наконец-то он останется вдвоем с Наташей! Он в это мгновение был рад, что началась война: она устраняла с его пути самое главное препятствие к счастью – Владимира Дегтярева. И вдруг он увидел, что Наташа, даже не взглянув на него, тоже вышла из комнаты. Он бросился за ней… И вот она стоит перед ним – такая прекрасная – и говорит ему какие-то чудовищные слова об ополчении, о том, что туда должны итти все.
– Видите ли, я состою на специальном учете… Это зависит не от меня, – забормотал он, опуская глаза.
По улице шли молча. На перекрестке колонна военных грузовиков, шедшая на полном ходу, отделила академика и Дегтярева от Протасова и Наташи, – они остались вдвоем.
– Наталья Викентьевна, вы сейчас действуете под влиянием минуты, но эта минута порыва пройдет, и вы будете горько сожалеть о своем решении, – заговорил Протасов. – Вы обрекаете себя на лишения и ужасы смерти. Подумайте, пока не поздно…
– Я решила твердо и обдуманно, – спокойно сказала Наташа и, раскрыв на ходу сумочку, заглянула в зеркальце. Губы были кричаще яркие для такого сурового дня, и она стерла краску платочком. – Я жила до сих пор очень мелко… себялюбиво, по-мещански. А жизнь есть подвиг! – торжественно произнесла она.
И Протасов с раздражением подумал: «Это его мысли… Владимира».
Только теперь осознал он, что произошло непоправимое, что Наташа готова на все ради Дегтярева.
Здание школы, где шла запись в народное ополчение, было уже полно народу. Очередь добровольцев терялась во дворе. Здесь стояли люди разных возрастов и профессий: человек в мягкой фетровой шляпе и коверкотовом пальто, похожий на актера; худощавый рабочий в замасленном комбинезоне и с мешком; молодой человек в блузе из коричневого вельвета с голубым значком парашютиста; толстяк с багровым лицом, вытиравший потные щеки платком; человек в очках, с портфелем, по виду профессор; седоусый мужчина в полувоенном костюме защитного цвета, с орденом Красного Знамени; девушка с голубыми ясными глазами и с такой взволнованной улыбкой, словно она пришла на свиданье.
Знакомые приветствовали друг друга громкими, возбужденными голосами:
– И вы, Петр Петрович?
– А как же, Дмитрий Матвеевич!
– Годы-то, годы ваши, Афанасий Васильевич!
– Старый конь борозды не испортит, Никифор Савельевич!
К академику подошел, сверкая большой лысиной, кругленький, толстенький человечек в очках.
– Голубчик, Викентий Иванович! Да неужто и вы?
– А чем же я хуже вас, Сергей Петрович? – с шутливой обидой проговорил академик. – Знакомьтесь, товарищи. Это профессор истории Незнамов Сергей Петрович… Моя дочь. Тоже идет на войну…
– «Друзья мои…» – воскликнул Незнамов, растроганно оглядывая стоявших вокруг. – А как это было сказано!
– Говорят, будто не всех будут брать, а только здоровых. Верно или нет? Не слыхали? – спросил седоусый с орденом Красного Знамени.
– А вы что же, боитесь, не возьмут? – спросил толстяк. – У вас что?
– Язва желудка, – тихо сказал седоусый.
– Ну, это ерунда. У меня вон гипертония – и то думаю, проскочу, – улыбаясь, сказал толстяк. – И еще одышка… проклятая.
– Там все пройдет – и язвы и одышки, – убежденно сказал рабочий с мешком. – Воздух свежий… Питание хорошее. Человек все время в ходу, кровь у него не застаивается… Все болезни от застою крови, – говорил он серьезно, поучительным тоном.
– Там-то кровь не застоится, она там льется рекой. – мрачно проговорил Протасов.
И на минуту все умолкли, но девушка с голубыми глазами вдруг рассмеялась, глядя на Протасова.
– Что вы? – спросил он, невольно проводя рукой по лицу.
– Да уж очень вы напуганный какой-то! Крови испугались.
– Нет… Но я просто трезво смотрю на вещи. А для вас война – это увеселительная прогулка? Я помню, что на войне умирают…
– А зачем же вы тогда пришли сюда? – недоуменно спросила девушка. – Провожаете кого-нибудь?
– Я? – Протасов замялся. – Тоже записываться, – вдруг проговорил он, чувствуя, что иначе не может ответить девушке с ясными глазами, потому что рядом стоит Наташа.
На другой день во дворе школы маршировали профессора, учителя, строгальщики, печатники, студенты, писатели, повара, актеры, бухгалтеры, музыканты и парикмахеры.
Командиром роты, в которую попали Дегтярев, академик и Протасов, был назначен некто Комариков – человек лет тридцати пяти, с темными строгими глазами и звонким голосом. Выстроив роту, он прошел вдоль шеренги, вглядываясь каждому в лицо, как бы определяя, на что годен человек. Остановившись против академика, он удивленно посмотрел на длинный охотничий нож, висевший у пояса, потом оглядел всю его плотную крепкую фигуру, от начищенных ботинок до гимнастерки, туго стянутой поясом.
– Фамилия?
– Куличков.
– Профессия?
– Астроном.
– Гм… Должность по службе?
– Действительный член Академии наук.
– Возраст?
– Шестьдесят два.
– В армии служили?
– В первую русско-германскую войну. Имел даже георгиевский крест.
– Та-ак, – с уважением протянул Комариков; этот крест окончательно покорил его. – Будете старшиной роты, товарищ Куличков.
Академик деятельно принялся вводить порядок и дисциплину в роте. Заметив, что на вороте гимнастерки профессора Незнамова нехватает пуговицы, он снял пилотку, в подкладке которой торчала игла с ниткой.
– Пришьете пуговицу, а иглу вернете, – сказал он.
– Спасибо, Викентий Иванович, – с поклоном ответил профессор.
– Теперь для вас я не Викентий Иванович и ни академик, а старшина роты. Прошу этого не забывать и обращаться ко мне согласно уставу, – строго проговорил академик.
Весь день Комариков гонял роту по двору, добиваясь четкости поворотов и перестроения на ходу. В сумерки ополченцы улеглись на соломе, разостланной на полу в классах школы.
– Комариков думает, что мы на фронте будем заниматься шагистикой, – раздраженно сказал Протасов. – По-моему, он недалекий человек… Ему больше подходит фамилия Кошмариков…
– Боец Протасов! – раздался вдруг громкий голос академика.
– Да, я слушаю вас, Викентий Иванович, – вяло проговорил Протасов.
– Встаньте, когда с вами говорит командир! – сказал академик, сердито раздувая ноздри; Протасов медленно поднялся. – Во-первых, я для вас теперь не Викентий Иванович, а старшина роты. Во-вторых, товарищ Комариков является вашим командиром, и вы не имеете права умалять его авторитет в глазах бойцов…
– Но ведь мы же не мальчики какие-нибудь, чтобы нас гонять по двору… – начал было возражать Протасов.
Но в это время раскрылась дверь и на пороге появился генерал Дегтярев.
– Встать! Смирно! – крикнул академик и пошел навстречу генералу; остановившись в трех шагах с вытянутыми по швам руками, он громко отрапортовал:
– Товарищ генерал! Первая рота народного ополчения на отдыхе. Никаких происшествий не случилось.
– Здравствуйте, Викентий Иванович, – сказал генерал, протягивая руку. – Вот где нам довелось встретиться…
– Да. Я тоже не предполагал, Михаил Андреевич, – тихо проговорил академик.
– Лежите, товарищи, отдыхайте, – сказал генерал Дегтярев ополченцам. – Не очень, верно, удобно на соломе? Ничего не поделаешь… Все придется испытать… Все… – Он заметил Владимира, с улыбкой кивнул ему. – Что ж, так и должно быть: Дегтяревы не могут сидеть дома в такой час…
– А что нового на фронте, Михаил Андреевич? – спросил Протасов, которому хотелось, чтобы генерал обратил на него внимание и чтобы все знали, что он знаком с генералом.
– А… и ты здесь? – удивленно проговорил Михаил Андреевич и долго молча разглядывал Протасова, как бы стараясь понять, почему этот человек оказался в числе ополченцев. – А я вот назначен к вам командиром дивизии, – проговорил он, не ответив на вопрос Протасова. – Будем сражаться, товарищи, за нашу советскую землю.
В комнату ввалился Тарас Кузьмич с огромным мешком за плечами, согнувшись под тяжестью его, красный, потный.
– Вот где я, наконец-то, застал вас, Михаил Андреевич, – проговорил он, отдуваясь и снимая с плеча мешок. – Весь день ищу… Я тут на курсах был!.. Все учат и учат, на старости лет… А тут хряп – война! Говорят, поезжайте по домам, а как же я поеду, когда ни билетов, ни поездов пассажирских, все забито войсками!.. Боренька вот в ополчение поступил, а Варенька одна теперь дома…
– Что же я могу для вас сделать, Тарас Кузьмич? – генерал развел руками. – Что это вы так нагрузились?
– Да вот купил кое-что домой, не бросать же, – сказал Тарас Кузьмич, садясь на мешок. – Я уж так решил: берите и меня в ополчение… У вас обоз свой будет, лошаденки, а я за ними присматривать буду, в случае какая ветеринарная помощь потребуется – пожалуйста… Вот я и доеду домой.
– Да ведь неизвестно, куда нас отправят. Может быть, совсем в другую сторону, а не к Смоленску…
– На Смоленск, Михаил Андреевич! Точно знаю, на Смоленск… Все войска туда гонят… Самая-то главная сила немецкая оттуда прет… Минск-то сдали… И Оршу сдали мы… К Смоленску немец подходит…
– Ну, раз вам все известно лучше, чем мне, – с усмешкой сказал генерал, – то уж ничего сказать вам не могу. Но советую все-таки не собирать всякие вздорные слухи, а слушать то, что говорят по радио, – сухо проговорил он и, обращаясь к академику, сказал:
– Занесите его в списки роты до особого распоряжения.
Генерал Дегтярев ушел, а Тарас Кузьмич, облюбовав себе местечко в углу, разлегся на соломе, блаженно улыбаясь.
– Боренька, может, калачика свеженького хочешь? – спросил он нежным голосом.
– Нет, не хочется, – пробурчал Борис краснея.
В комнату вошла Наташа с брезентовой сумкой через плечо, на которой был нашит красный крест. Она была в гимнастерке и в темносиней юбке; прозрачные чулки обтягивали ее стройные ноги. Она казалась еще красивей в этом полувоенном костюме; к ней очень шли пилотка, кокетливо сдвинутая набок, чтобы все видели тщательную прическу. Она вошла, громко отстукивая высокими каблучками.
– Все здоровы? – спросила она улыбаясь. – Никто не нуждается в моей помощи?
– Раненых пока нет, – сказал кто-то.
– Нет, есть! – весело подмигнув, воскликнул Тарас Кузьмич. – Есть среди нас раненные в сердце. Хе-хе-хе!
– От этих ран у меня нет никакого лекарства, – с шутливым вздохом ответила Наташа. – Но в одном из классов я обнаружила рояль, и если есть среди вас любители музыки, то я могу помочь вам скоротать время.
Торжественные звуки бетховенской сонаты раздались в сумеречной тишине. Ополченцы лежали на соломе, положив под голову тощие мешки, и слушали, погрузившись в раздумье. И только Борис Протасов знал, что Наташа играет лишь для одного Владимира, на которого она даже не взглянула, войдя в комнату, чтобы никто не догадался о ее чувствах. И он с ненавистью посмотрел на Дегтярева, лежавшего с закрытыми глазами.
«Неужели же сдадим и Смоленск?» – думал Владимир, припоминая, что от Смоленска до Спас-Подмошья всего восемьдесят километров, и ему хотелось, чтобы дивизию направили к Смоленску: только это давало надежду на встречу с Машей.
В ночь под 14 июля дивизия выступила на фронт. Грузовики прошли через центр столицы и повернули на Можайское шоссе.
«Значит, Тарас Кузьмич прав, – с радостным волнением подумал Владимир. – Едем к дому, на Смоленск. Я увижу Машу!»
Перед рассветом колонна остановилась в лесочке, передали приказ замаскировать зеленью машины. Ополченцы дружно принялись за работу, и когда колонна тронулась, актер Волжский воскликнул:
– Смотрите, как красиво! Движется лес! Это как у Шекспира!.. Помните?
Не раньше может быть Макбет сражен,
Чем двинется на Дунсинанский склон
Бирнамский лес…
– Что ж, московский лес двинулся на Гитлера-убийцу. И это добрый знак, – в тон ему сказал академик.
За Можайском, возле деревни Горки, колонна остановилась. Многие побежали к памятнику Кутузову, возвышавшемуся над Бородинским полем: бронзовый орел распростер могучие крылья, блестевшие от росы. Викентий Иванович подошел к подножию памятника, снял пилотку и опустился на колено, склонив седую голову.
– Чудит старик, – сказал кто-то.
Владимир оглянулся и увидел Колю Смирнова.
– И ты в нашем батальоне? – обрадованно воскликнул Владимир.
– Да, в артиллерии. Правда, пушек у нас еще нет, но… будут. И лошади будут. А типы какие у меня в батарее! Наводчиком мастер-зеркальщик из какой-то промартели. Зеркала делал всю жизнь. Всегда навеселе, непонятно, где он только достает водку. А закусывает только луком. У него всегда головка лука в кармане… Но парень замечательный! А еще инженер-аристократ Чернолуцкий. Курит какие-то ароматические папиросы и процеживает воду через вату… А еще есть два брата Лавровы – ездовые. Они извозчики московские, ломовики. Лошадей любят, страсть! И все время друг с другом переругиваются… Но талантливые извозчики!
Коля рассказывал с увлечением; он любил оригинальных людей и был убежден, что в каждом человеке есть талант, только не все умеют пользоваться этой чудесной силой. И у него самого был прекраснейший из всех талантов – уменье открывать в человеке возвышающую его силу.
– А я познакомлю тебя, Коля, с чудеснейшим нашим парторгом, Николаем Николаевичем Гаранским, – сказал Владимир. – Какой же это красивый человек!
– Не люблю красивых, люблю курносых, – шутливо проговорил Коля. – Красивые – редкость, а курносые – массовидный тип.
– Нет, он красив душой, а так даже несуразен: высок, как жираф, а сапоги носит сорок седьмой номер. Старшина наш, академик, совсем замучился, никак не может достать ему сапоги по ноге. И рукава гимнастерки ему только по локоть. Но если существует на земле человеческая совесть, то это она парторгом у нас. А недавно преподавал географию в университете.
– Позволь, да ведь политэкономию мы все изучали по учебнику Гаранского.
– То его отец, тоже Николай Николаевич. Старый большевик, ученый… История этой семьи очень любопытная. Прадед – протоиерей. Дед – народник. Отец – большевик. Гаранские – из тех прекрасных русских интеллигентов, из среды которых вышли Чернышевский, Добролюбов, Чехов… Да вот он сам, Николай Николаевич.
К ним подошел очень высокий ополченец с красной звездой на рукаве, с задумчивыми черными глазами. В выражении его худощавого лица было что-то аскетическое.
– Дегтярев, – сказал он, кивнув в сторону академика, который все еще стоял коленопреклоненно у памятника, – надо сделать так, чтобы никто над этим не смеялся. Не знаю, может, и всем нам нужно было бы последовать его примеру. Ведь, в сущности, мы тоже стоим перед своим Бородинским полем…
– Неужели вы думаете, что и мы оставим Москву? – сердито взглянув на него, сказал Коля Смирнов.
– Нет, я не в этом смысле, а в том упомянул о Бородине, что и нам предстоит сражаться и, может быть, умереть, не увидев победы, хотя именно мы должны сделать ее неизбежной. Ведь те, что похоронены на этом поле, – Гаранский повел рукой вокруг, – принесли победу России, а не те, что вошли потом в Париж.
– Конец венчает дело, – с улыбкой сказал Коля.
– Но есть и другая пословица: «Лиха беда – начало». На нашу долю и выпала эта «лиха беда»… И мы должны хорошо начать. Мы должны стоять насмерть на своем Бородинском поле.
Подошли, о чем-то тихо разговаривая, Борис Протасов и Наташа.
– И вы здесь? – удивленно воскликнул Коля. – Получается, как в плохом романе: все герои собрались вместе…
– Да, «роман» действительно скверный, – сказала Наташа, сдвигая пилотку набок, охорашиваясь с задорной улыбкой. – Вот боец Протасов никак не научится завязывать обмотки. Товарищ старшина уже наряд дал ему вне очереди…
– Просто удивительно, Протасов, что и вы здесь, – проговорил Коля.
– Что же удивительного в том, что мы все, – подчеркнул Борис, – собрались здесь? Во-первых, в ополчение записывались порайонно, а мы все из одного района Москвы…
– Было бы удивительней, если бы мы все не собрались сюда, чтобы защищать свою столицу, – сурово произнес Николай Николаевич. – Здесь сейчас вся Советская Россия…
Немцы вошли в Смоленск, их передовые части были уже возле Ярцева; завязались тяжелые бои у Соловьева перевоза, на Днепре. Ополченская дивизия генерала Дегтярева получила задание как можно быстрей выдвинуться на запад, к Днепру, занять оборонительный рубеж и защищать его, невзирая ни на какие потери.








