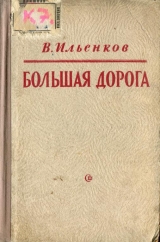
Текст книги "Большая дорога"
Автор книги: Василий Ильенков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 21 страниц)
Вошли в березовую рощу, и Владимир вспомнил весенние вечера, когда он стоял на тяге и чувствовал, что где-то рядом бродит Маша. Пролетал вальдшнеп, и Владимир запоздало, второпях, стрелял, зная, что промахнулся. Маша, встретив его, спрашивала с улыбкой: «Опять ничего не убил?» И Владимир молчал, не смея признаться, что промахнулся потому, что думал в это время о ней… Так ни он, ни она не сказали друг другу того самого трудного и самого великого слова, с которого начинается первая весна в жизни каждого человека.
Вспомнилось Владимиру и то, как ходили они вдвоем в Красный Холм, когда учились в десятилетке. Почти весь путь – шесть километров – проходил через бор узенькими тропинками, проложенными в один след. Вдвоем нельзя было итти рядом по такой тропинке, и Владимир уступал тропинку Маше, а сам шел сбоку, по траве, по корням; итти было неудобно, но Владимиру было приятно сознавать, что Маше итти легко. Маша тоже не хотела одна пользоваться узенькой тропкой, она уступала ее Владимиру, и получалось так, что оба они шли по траве, по корням, а тропинка оставалась свободной и лежала между ними, как граница, через которую они ни разу не переступали, хотя они шли так близко друг от друга, что иногда касались плечом.
Однажды, в конце марта, торопясь в школу, они вдруг остановились в лесном овражке: дорогу им пересекал широкий зажор – подснежная вода. Владимир оглянулся, разыскивая что-нибудь, бревно или обломок сушняка, чтобы сделать настил, но вокруг ничего не было.
– Я-то в сапогах перейду, а вот ты… – сказал Владимир, взглянув на ноги Маши, обутые в туфли. – Я… я перенесу тебя, – запинаясь от внезапного волнения, проговорил Владимир, и не успела Маша даже подумать, каким образом может он это сделать и следует ли соглашаться на это, как Владимир уже подхватил ее на руки и понес.
Он ощущал в себе приток новой, неведомой до сих пор силы, и ему казалось, что он в состоянии поднять на своих плечах весь мир.
Теперь они шли по лесу той же самой дорогой, по которой ходили вместе в школу, но теперь здесь была уже не узенькая тропинка, а хорошая зимняя дорога, укатанная санями, и с теми ступеньками на подъемах, какие вырубают копытами лошади, поднимаясь в гору с тяжелым возом, – здесь возили бревна: спасподмошинцы и окружные колхозники строили дома, сараи, амбары – старые постройки не вмещали ни людей, ни богатства.
Так они дошли до того лесного овражка, где когда-то дорогу им преградила подснежная вода. И, вспомнив, как все это тогда произошло, они остановились, и Маша, улыбаясь, сказала:
– А теперь вот здесь лед…
– Но в марте он снова растает, – тихо проговорил Владимир.
Как хотелось ему, чтобы сейчас хлынула из лесной чащи вода и затопила этот овражек!
Незаметно они дошли до Красного Холма. Поровнявшись с домиком, над которым торчал шест со скворечником, Владимир сказал:
– Мне нужно повидать Семена Семеныча. Зайдем на минуту.
Персональный пенсионер Семен Семенович Гусев, член партии с 1898 года, доживал свои дни в тиши родных смоленских лесов. Семен Семенович видел, что вокруг совершаются великие исторические события, но никто их не записывает и добрые дела исчезают из памяти людей. И он стал из года в год записывать все хорошее, что делали люди.
Семен Семенович радушно встретил гостей. Маленького роста, с пышными седыми волосами, в очках-пенсне старинного фасона – с дугообразной пружиной и черным шелковым шнурком, – он напоминал земского доктора.
– Чем могу служить? – спросил он, внимательно разглядывая гостей поверх очков, которые висели криво и придавали его лицу выражение добродушия.
Владимир сказал, что он хотел бы познакомиться с «Книгой добра».
– Что ж, полюбопытствуйте, – с гордостью сказал Семен Семенович, поправляя пенсне, которое, однако, снова повисло криво. – Учителя могли бы почерпнуть из моей книги поучительные примеры жизни для воспитания в детях добрых чувств и стремлений, секретарь райкома партии мог бы извлечь из моей книги факты для доказательства торжества коммунизма в нашем районе… Но, к сожалению, мы не любопытны…
Семен Семенович взял толстую конторскую книгу, лежавшую на столе, с надписью на переплете: «Книга добра».
Раскрыв книгу наугад, Владимир стал читать:
«…В деревне Новоселки не осталось ни одного неграмотного.
В Отрадном для детского сада колхозники построили голубой дом. В саду вокруг дома деревянные раскрашенные фигуры: волк и Красная Шапочка, осел, козел, мартышка да косолапый мишка.
Во время пожара в Белавке пламя охватило дом, в котором лежала больная старуха. Проезжавший на велосипеде через деревню молодой человек бросился в огонь и вынес старуху.
Колхозники из «Искры» осушили Горелое болото площадью в двести сорок гектаров и засеяли его льном.
Градом выбило всю рожь в колхозе «Вольный труд». Соседний колхоз «Заря социализма» дал пострадавшим семена в безвозвратную ссуду.
На облаве возле Красноболотова убиты два старых волка и три переярка.
В Заполье построили мост через реку, раньше ездили вброд и не раз тонули.
Возле школы в Демехине посадили сорок яблонь.
В Иванове замостили камнем улицу.
В Смоленске, возле вокзала, стояла пересыльная тюрьма. В одной из ее камер в 1902 году молодой искровец-ленинец Семен Гусев ожидал отправки партии ссыльных в Сибирь… Теперь это страшное здание переделали под гостиницу.
…В деревне Усвятье крестьянка Матрена Саврасова, имеющая двенадцать детей, получает ежегодно от государства четыре тысячи шестьсот рублей пособия.
…Граждане села Отрадное вынесли постановление закрыть церковь ввиду того, что в селе осталась одна верующая в бога старушка. По предложению учительницы-комсомолки Ольги Дегтяревой в церкви будет подвешен маятник Фуко, дабы посредством этого маятника наглядно показывать людям, что Земля действительно вращается…»
– Молодец Ольга! – сказал Владимир с радостным волнением, живо представив себе, как в церкви раскачивается маятник, подвешенный к куполу, и чертит своим острием на песке, насыпанном на полу, бороздки, отмечая извечное движение Земли.
«…Февраль. В районную милицию доставлен кошелек, найденный на дороге возле Соловьева перевоза. В кошельке обнаружено сто сорок четыре рубля двенадцать копеек.
Март. Жители села Красноболотово вызвали жителей Спас-Подмошья на соревнование: чьи парни и девушки лучше пляшут и поют песни? Соревнование состоится в октябре, на празднике урожая.
Август. Колхозница из Спас-Подмошья Мария Орлова связала пять тысяч снопов в день при норме пятьсот снопов…»
Владимир прочитал это вслух.
– Ну вот… Зачем же вы, Семен Семенович, написали об этом? – сказала Маша, смущенно краснея.
– Я записал этот факт потому, Мария Александровна, что вы совершили поступок, достойный восхищения, – торжественно проговорил Семен Семенович. – На протяжении многих веков человечество смотрело на труд, как на проклятие за грехи прародителей. В библии сказано, что бог, изгоняя из рая Адама и Еву, заявил: в поте лица будете есть хлеб свой… Вот с тех пор и пошло! В тяжком труде добывал человек хлеб свой и ненавидел труд, старался избежать его… жить полегче, без труда… И заметьте, Мария Александровна, самое счастье представлялось людям как избавление от труда, и блаженство в раю рисовалось как ничегонеделанье, как созерцание и вечный покой… Вы же, Мария Александровна, так сказать, совершили переворот. Вы несете миру великую весть: «Люди! Труд – радость!»
Семен Семенович низко поклонился Маше, и пенсне слетело с переносицы.
Смущенная и счастливая, стояла перед ним Маша. Ей было радостно, что Семен Семенович сказал столько хорошего о ней и что это слышал Владимир, и в то же время она сгорала от стыда, и ей хотелось убежать.
Дорогой Маша рассказывала, как ей удалось связать так много снопов. Девушка из ее звена выравнивала валки скошенной ржи. Другая раскладывала перевясла из мягкой соломы. Маша брала перевясло в правую руку, быстрым движением просовывала его под охапку ржи и скручивала перевясло, прижимая коленом хрустящий сноп.
Девушки, помогавшие Маше, пели, но она не могла присоединиться к ним: ничем нельзя было нарушать ритм дыхания. Она наклонялась, обнимала руками горячую от солнца солому, скручивала перевясло и, связав сноп, передвигалась на коленях по жесткой, колючей стерне с новым перевяслом в руке.
Владимир видел этот жаркий августовский день, неутомимые руки, мелькающие над снопами, строгое лицо Маши, полураскрытый в напряженном дыхании рот…
В районе была созвана конференция, на которой Маша выступила с докладом о своем методе сноповязания. Она стала известной не только по всему району, но и по всей области, ее снимали кинооператоры, интервьюировали корреспонденты, расспрашивали писатели, рисовали художники, и она почувствовала, что жить на земле необыкновенно интересно…
Владимир слушал ее взволнованный рассказ и думал:
«Да, она нашла свое место на земле и никуда не уйдет отсюда, как никуда не уйдет вот та береза, что стоит на пригорке», – и он с грустью подумал, что дороги их разошлись в разные стороны и никогда не сойдутся.
Анна Кузьминична в десятый раз подогревала самовар, а сына все не было. Давно остыли пирожки. Анне Кузьминичне было обидно, что все ее труды остались незамеченными, неоцененными, что она одна в доме.
Белая курица со связанными лапками лежала на полу и, не ведая своей участи, спокойно посматривала рубиновыми глазами на Анну Кузьминичну, в ожидании, что она возьмет ее в свои ласковые руки, проверит, есть ли яйцо, и снова отнесет в теплый курятник. Анна Кузьминична отвернулась: ей было тяжело смотреть на обреченную птицу.
Можно было бы подождать Владимира, но Анна Кузьминична не хотела обременять сына неприятным для него делом. Владимир и на охоту ходил не ради того, чтобы убить тетерева или вальдшнепа, а ради того, чтобы постоять в лесу на закате, послушать вечернюю благостную тишину: в такие минуты приходили большие и волнующие мысли.
Николая Андреевича не было дома: он рано уходил в правление колхоза. Анна Кузьминична решила пойти к брату, Тарасу Кузьмичу, оделась и взяла курицу, и птица, почувствовав прикосновение ласковых ее рук, весело забормотала что-то.
С неохотой шла Анна Кузьминична к брату. Она не любила его и бывала в его доме только в случае неотложной нужды. Были в ее жизни трудные дни, нужда заставляла напомнить Тарасу, что, когда он учился в ветеринарном институте, она часто помогала ему, выкраивая несколько рублей из своего скудного учительского жалованья. Но Тарас Кузьмич, уже ставший ветеринарным врачом, говорил, что ему самому трудно жить: нужно купить ботинки Бореньке, сделать пальто Вареньке, что и рад бы помочь, да уж как-нибудь в другой раз… Тарас Кузьмич жил только для себя – для своей Вареньки, для своего Бореньки. У него было все подсчитано и взвешено, распределено по полочкам: он ограничил даже свой инстинкт к продолжению жизни, после Бореньки не пожелал иметь больше детей. Вдвоем с располневшей Варенькой они питали, растили, оберегали Бореньку, и он вырос здоровый, упитанный, розовый, и Тарас Кузьмич всем хвалился, что Боренька в шестнадцать лет весил семьдесят пять килограммов и съедал за обедом почти килограмм мяса.
Тарас Кузьмич зажал курицу между колен и, медленно, аккуратно перепиливая ей горло, сказал раздраженно:
– Вот вырастила сынка: курицу зарезать не может!.. Идейность не позволяет! Нервы! Рефлексия!
– Нет, может, но не любит и не умеет так, как ты, – сказала Анна Кузьминична.
Курица билась, разбрызгивая перья и кровь, а Тарас Кузьмич, наклоняя ее над миской, собирал кровь, чтобы потом зажарить ее с луком.
Варенька лениво месила тесто.
– Боренька женится, – сказала она таким тоном, будто этого события давно уже ожидало все человечество, – на дочери академика Дуличкова. У них своя легковая машина и дача под Москвой. Он известен даже за границей… А Наташа его учится в консерватории, будет знаменитая пианистка… И у них квартира из шести комнат возле Кремля… Сейчас Владимира вашего видела, очень уж он худой. Не болен ли? Его непременно нужно послать на рентген, легкие просветить, помилуй бог… Нутряное сало натощак надо ему пить и рыбий жир. Я Бореньку только и спасла рыбьим жиром, вы же помните, какой он родился слабенький… А Владимир с Машей Орловой к лесу пошел… Старая любовь! Только что она ему теперь – деревенская девушка, у нее и руки-то, словно грабли… Ни манер, ни образования! Если уж жениться, то надо выбрать такую жену, чтобы не с ней возиться, а чтобы она сама помогла мужу выбиться в люди…
Анна Кузьминична молчала, ей было все неприятно в этом доме – и то, как Тарас возился с курицей, и философия Вареньки, и тяжелое, располневшее от беззаботной жизни ее тело, похожее на кусок теста, которое она мяла в своих ленивых руках.
«Нет, нет, эти люди ужасны в своем самодовольстве!» – подумала Анна Кузьминична, радуясь, что Владимир не похож на этих людей.
Жажда родственного тепла и общения с близкими становилась все сильней после того, как жизнь перевалила за пятьдесят, и Анна Кузьминична иногда думала, что пора уж ей помириться с Тарасом и все ему простить, помириться и с другими родственниками, которые считали ее гордой и заглаза осуждали, и последние дни на земле прожить в согласии и мире.
И она с еще большей энергией стала готовиться к приезду гостей из Москвы, чтобы все остались довольны ее гостеприимством, чтобы эта редкая встреча почти всех Дегтяревых прошла в сердечной радости.
Она хлопотала по дому, а сама то и дело заглядывала в окно: ей хотелось увидеть Владимира с Машей, и где-то, в глубине сердца, теплилась надежда, что Владимир женится, семья привяжет его к дому, и начнется оседлая, счастливая жизнь.
Наконец пришел Владимир. Анна Кузьминична, вглядываясь в его лицо, пыталась догадаться, чем кончилось его свидание с Машей. Ей очень хотелось, чтобы Маша стала женой сына. Хотя Анна Кузьминична знала, что существуют девушки более красивые, она не могла допустить, чтобы женой Владимира стала неизвестная ей женщина. Анна Кузьминична больше всего ценила в Маше не то, что она хорошая труженица, красивая, добрая, а то, что Маша относится с уважением к ней, доверяет ей свои тайны, спрашивает совета. Анна Кузьминична думала о том, что, живя с Машей под одной кровлей, она останется полноправной хозяйкой в доме; больше всего страшилась она, что в доме будет жить чужой человек, со своими особыми привычками, вкусами, взглядами на жизнь, и ей придется поступаться своими привычками и вкусами, ограничивать себя и переделывать свою жизнь.
– Ну как, нравится дома? – спросила Анна Кузьминична, подавая завтрак. – В Москве-то, верно, все время шум. А вот у нас тихо…
– Да, здесь хорошо, – сказал Владимир. – Снег такой необыкновенно чистый, настоящий. А вот у нас там – черный.
– Черный снег? – изумленно переспросила Анна Кузьминична, не представляя себе, как это снег может быть черным. – Почему же это, Володя? Почему черный?
– Тысячи тонн золы и копоти вылетают из множества труб, от этого и снег черный.
– Ну, зато у вас там все лучшие люди собраны, со всей страны. Чистые душой, образованные, самые умные… Это как вода в котле: когда закипает, нагретые частицы стремятся вверх, правда?
– Да нет, не все хорошие люди туда уехали, – с ласковой улыбкой сказал Владимир. – Вот ты осталась здесь, мама… И еще есть чудесные люди…
Он обнял мать и, ощущая острые плечи ее, вдруг подумал, что ей уже пошел шестой десяток, что жизнь ее прожита в труде и заботах, а он так мало заботится о ней, погрузившись в свои дела и думы.
– Ну, что я сделала такого в жизни! – проговорила Анна Кузьминична, растроганная неожиданной лаской сына; большего счастья она и не желала, и в эту минуту вся жизнь ее получила оправдание и великий смысл: жить для него – самого родного, самого близкого, радоваться его радостью, думать его думами и гордиться перед всеми матерями мира, что у нее такой хороший, такой ласковый сын.
Гости приехали под вечер на трех машинах. На большом «зисе» приехал генерал Михаил Андреевич с женой, адъютантом и гостем в полувоенном костюме, которого он назвал членом правительства, Дмитрием Петровичем Белозеровым. На второй машине – Егор Андреевич с женой и ребятами, а на третьей – Борис Протасов со своей невестой и ее отцом академиком Куличковым.
– У нас квартира тесная, так уж ты, Аня, прими академика, – сказал Тарас Кузьмич сестре, испугавшись, что такой именитый гость обойдется ему недешево.
Дом Дегтяревых наполнился громкими голосами, смехом, запахом духов, который внесла, с собой жена генерала; у нее были неестественно светлые волосы и прекрасная чернобурая лиса на плечах; капризным, похожим на детский, голоском она жаловалась, что у нее затекла нога, и ждала, когда кто-нибудь снимет боты с ее красивых ног.
– Помогите же, молодой человек, – сказала она, обращаясь к Владимиру.
Но он стоял неподвижно и смотрел на нее с презрительной усмешкой.
– А ты, Ирена, сама потрудись, сама, – густым басом пророкотал Михаил Андреевич, оправляя китель с орденом Красного Знамени; жену звали Прасковьей, но она переименовала себя в Ирену.
В это время вбежала Маша, помогавшая Анне Кузьминичне накрывать стол, и, увидев ее, Ирена сказала:
– Девушка, снимите мне боты.
Маша остановилась, с недоумением глядя на нее, потом вдруг побледнела, поняв, что ее приняли за прислугу, но лишь на мгновение растерянность овладела ею, она почувствовала, что рядом стоит Владимир, и, став на колено, сняла боты с ног генеральши. И когда она встала, Владимир сказал генералу:
– Вот, дядя, познакомьтесь с Марией Александровной Орловой. Знатный человек нашего села. Чтобы послушать ее рассказ о своей работе, осенью съехалось двести человек из всей Смоленской области.
– Вот вы какая! – удивленно воскликнул Михаил Андреевич. – Прасковья, извинись! – сердито сказал он; генерал всегда в минуту раздражения против жены называл ее не Иреной, а Прасковьей.
– Извините, я не знала, – смущенно сказала Ирена, с завистью разглядывая пышные белокурые волосы Маши.
Вносили чемоданы, ружья, охотничьи сумки. Все приехавшие жались к печке, в которой весело трещали еловые дрова.
– Ну, вот наконец-то собрались вместе, – сказал Андрей Тихонович, радостно вглядываясь то в Михаила, то в Егора, как бы сравнивая их друг с другом.
Егор казался мешковатым, неповоротливым. И по жизни Егор двигался неторопливо, но упорно. Когда стал вальцовщиком, он вдруг удивил всех, заявив, что прокатный стан работает не так хорошо, как мог бы, если бы он, Егор Дегтярев, стал управлять станом, а не старый мастер Ганек, не то чех, не то немец, служивший еще у дореволюционного владельца завода. И Егор стал мастером прокатного стана, через который проходила вся продукция огромного металлургического завода столицы. Внешне Егор Дегтярев мало изменился: он был все такой же кряжистый, налитый могучей силой, только добрые наивные глаза его сделались строгими. Он управлял теперь работой двухсот рабочих, запятых в трех сменах, и, кроме трех клетей, обжимавших горячие слитки, он ведал и нагревательными печами и агрегатом для резки прокатанного металла. Одновременно он учился на вечерних курсах, успевал выступить на партийном собрании, посмотреть новую пьесу в театре, побывать в кино, провести беседу со своими рабочими. И он не старел, только чуть-чуть выцвели возле раскаленной стали его темнокарие глаза, светившиеся дегтяревской неугомонной силой.
«Вот и у Егора талант оказался, – думал Андрей Тихонович, любуясь сыном, и вспомнил, как Егор, уходя из дому на поиски счастья, схватил его и закинул на крышу овчарни. – И сейчас, видно, здоров… Труд, он человеку здоровья не убавляет, ежели желанный, по сердцу… И у Михаила ни одной плешинки на голове… Это у него от чистой жизни. Вот жена ему не подстать, из барынь.
Андрей Тихонович, разглядывал сыновей, и сердце его наполнялось радостью. Но взгляд старика потускнел, когда он увидел Тимофея, стоявшего у двери. Он казался старым со своей дремучей бородой, которая захватила не только подбородок, но и щеки, и толстую шею, и уши, – из темной и жесткой шерсти торчала лишь луковичка носа да светились угрюмые глаза. Тимофей служил лесником. Он не любил братьев и завидовал им: все они на хороших должностях, живут в полном довольстве – на своих машинах вот приехали медведей стрелять! А он обречен бродить день и ночь по трущобам, ловить самовольных порубщиков, составлять на них протоколы… Тимофей обвинял братьев в том, что сами стоят у власти, а не хотят дать ему легкую должность. Он был убежден, что братья завладели и его долей счастья. Темный, нелюдимый, он, казалось, жил на земле для того, чтобы люди видели, что было бы с ними, если бы старая жизнь осталась непотревоженной.
Когда Андрей Тихонович нашел берлогу, он завернул на кордон, к сыну, и, объяснив, где лежит зверь, сказал, чтобы Тимофей не пускал туда лесорубов.
– Зверя как бы не потревожили… Уйдет медведь, тогда сраму не оберешься перед гостями.
– Зверь не уйдет, – угрюмо сказал Тимофей. – Только я меньше как за двести рублей не согласен.
– Зверя-то я нашел, – удивляясь жадности сына, сказал Андрей Тихонович. – И опять же не для заработка, не для чужих искал, а для братьев же твоих… чтоб приехали проведать меня.
– А мне все равно. Они, братья-то, много зарабатывают. С кого и взять, как не с генерала… Да и двести маловато. Триста рублей – тогда стеречь буду.
Зная упорство Тимофея, старик сказал:
– Ладно, я заплачу.
– Только чтоб деньги наперед, а то чего не так получится, пропадут деньги.
Теперь, увидев, что братья приехали на своих автомобилях, с дорогими ружьями, в хорошей городской одежде, с красивыми женами и детьми, Тимофей подумал, что он продешевил медведя, и сказал отцу:
– Пятьсот целковых… И скажи, чтоб деньги непременно наперед.
– Да ты что? Ошалел, что ль? – проговорил старик, очумело глядя на заросшее темной шерстью лицо его и думая о том, что вот такими же звероподобными могли остаться на всю жизнь и Михаил, и Егор, и Николай, если бы животворная сила революции не разбудила их разум. – Братьев бы своих постыдился, что ль! Гости-то какие приехали… от правительства, ученый.
– У них денег много, – равнодушно проговорил Тимофей.
– Вот уж истинно зачат ты мной постом, – вконец обозлившись, сказал старик и плюнул.
Больше всех была взволнована приездом гостей Анна Кузьминична. Такое волнение испытывала она только перед экзаменами, когда в школу приезжал инспектор народных училищ. И теперь ей предстояло выдержать трудный экзамен: принять и угостить такое множество людей, приехавших из столицы.
Академик долго и шумно снимал шубу, разматывал длинный пушистый шарф. Высокий, худой, с острой бородкой и сердитыми темными глазами, с длинным охотничьим ножом у пояса, он был похож на Дон-Кихота. Он долго и тщательно вытирал ноги о половичок у порога.
– Ничего, проходите, пожалуйста, – сказала Анна Кузьминична, вглядываясь в красное, обветренное лицо гостя и узнавая в нем старшего из братьев Куличковых, которые до революции жили в имении Отрадном. Младший из них, Константин, или попросту Кешка, даже ухаживал за ней и часто появлялся в ее школе, пока революция не заставила его бежать за границу. Викентий Иванович же передал ревкому имение беспрекословно и погрузился в науку.
Анне Кузьминичне было особенно приятно принимать у себя академика Куличкова, потому что сама она происходила из обедневшей дворянской семьи и в детстве, проезжая мимо Отрадного, с завистью смотрела на большой каменный дом с колоннами, в котором, как ей казалось, люди жили весело и счастливо.
– Не беспокойтесь, пожалуйста, Викентий Иванович, проходите в комнату, – повторила она, все еще находясь во власти воспоминаний. – Не беда, если и наследите.
– Нет, наследить на таком чистом полу – все равно что в душу войти в грязных сапогах, – сказал академик. – В этом самом Спас-Подмошье меня однажды избили. Студентом я был тогда и стал говорить, что не нужно царя, а меня так отлупили, что потом с месяц бока болели…
Все расхохотались, а Андрей Тихонович смущенно подумал: «Неужто это тот самый «стюдент», которому я дал тогда здорового пинка под зад?»
– Так я с той поры и перестал заниматься политикой, – продолжал академик, – стал изучать звезды: спокойней.
– И что же вы – за чистую науку? Без политики? – спросил Белозеров, гревшийся возле печи.
– Политика – вещь преходящая, простите, не знаю вашего имени-отчества…
– Дмитрий Петрович.
– Так вот, дорогой Дмитрий Петрович, партии, политические страсти, революции – все преходяще. Вечен лишь бесконечный мир, и вечно лишь стремление человека постигнуть великую его тайну. Я изучаю осколки этого великого, прилетающие к нам на землю в виде метеоритов, чтобы понять хотя бы миллионную долю правды об этом великом. Я тридцать лет ищу свой метеорит, упавший в Якутской тайге, и не могу найти…
– Это говорит лишь о том, что наука еще не совершенна, а несовершенна она потому, что плохо была устроена жизнь людей на земле. Людям было не до метеоритов и тайн мироздания: им нужен был черный хлеб, – строго сказал Белозеров. – И нужна политика, нужен социализм, чтобы вы нашли наконец свой метеорит на благо всем людям.
– Всю жизнь искать какой-то метеорит! Это, должно быть, ужасно скучно, – капризно улыбаясь, проговорила Ирена.
Академик взглянул на нее с тем величественным презрением, с каким слон смотрит на моську, и отвернулся.
– У каждого должен быть свой «метеорит», – строго сказал Белозеров. – И без этого «метеорита» жизнь не имеет оправдания…
– Опять про политику, – уныло сказал Тарас Кузьмич. – Давайте об охоте лучше – да и за стол, погреться надо гостям с дороги.
– Большой медведь-то? – спросил генерал, усаживая отца на почетное место за стол.
– Пудов на восемнадцать, – уверенно сказал Тимофей.
И старик от гнева даже поперхнулся.
«Ведь и следов-то в глаза не видел, не то что зверя, – подумал он. – Это чтоб подороже взять». Он хотел пристыдить Тимофея, но постеснялся это сделать при остальных сыновьях и лишь сердито сказал:
– Кто же его знает, какого он весу, а только след крупный, словно кто в валенках прошел… Так что ежели кто первый раз на медведя или плохо стреляет, то нечего и на номер становиться… Тут уже учиться некогда. Наверняка бить надо, без промаху.
– Ты, Боренька, первый раз ведь? – с беспокойством спросил Тарас Кузьмич, обращаясь к сыну. – Лучше уж сперва приглядеться…
Борис беспечно улыбнулся и встал во весь рост. Он был высок, широк в плечах, но чувствовалось, что массивное тело его малоподвижно и тяжело.
– Сорок шестой номер ботинки носит, – с гордостью сказал Тарас Кузьмич, любуясь сыном и искоса наблюдая за будущей невесткой, которая разговаривала с Владимиром.
– Это уж у Наташи нужно спросить: разрешит ли она тебе итти на облаву, – сказала Варенька; ей хотелось поскорей поведать всем, что ее Боренька женится и вот какую красавицу выбрал в жены. – Правда ведь, Наташа?
И все посмотрели на дочь академика, которая с увлечением рассказывала что-то Владимиру. Она выделялась среди присутствующих подчеркнуто тонким изяществом своей фигурки, своего костюма, прически, каждого жеста. Чувствовалось, что и самой Наташей и ее родителями затрачено много труда, чтобы довести до такого совершенства и без того красивое женское тело. Чувство изящного было врожденным у Наташи, оно передавалось из поколения в поколение в семье Куличковых, любивших все красивое: красивую мебель, красивые костюмы, слова. Из рода Куличковых выходили художники, артисты, поэты, музыканты. Сам академик Куличков с любовью разводил у себя на даче цветы, удивлявшие всех своей красотой, и Наташа казалась тоже каким-то редким цветком, выросшим на радость и удивление миру.
– Можно мне пойти на медведя, Наташа? – спросил Борис, влюбленно глядя на нее. – Я хочу, чтоб у нас в квартире, возле дивана, лежала медвежья шкура.
– Да, это будет очень красиво, – сказала Наташа. – Вы тоже пойдете? – спросила она Владимира.
– Нет.
– Почему? – удивилась Наташа. – Вы не любите охоту?
– Я люблю живых медведей, – ответил Владимир.
– Это уж ты испортила его своим толстовством, – сказал Тарас Кузьмич, укоризненно глянув на сестру.
– А времена теперь такие: к крови привыкать нужно, – поучительно проговорил молоденький адъютант генерала. – Война стучится в двери.
– Ну, уж и стучится. Много ты знаешь, – сердито сказал генерал. – Ты лучше, брат, патроны хорошенько проверь. Есть у нас «жеканы»? На медведя без «жекана» нельзя итти. Обязательно разрывная пуля нужна.
– Медведь жирный, – вставил Тимофей. – Зальет салом рану и уйдет. Он теперь, медведь-то, в полном соку…
– А мне кажется, Владимир Николаевич, что вы просто боитесь итти на облаву, – с усмешкой сказала генеральша, покачивая ногой, обтянутой чулком какой-то золотисто-змеиной расцветки.
– Храбрость не в том, чтобы убить медведя, – сказала Маша, бледнея от обиды за Владимира и от прилива неприязни к этой женщине с неестественно светлыми волосами.
– А в чем же? – иронически, прищурившись, спросила Ирена.
– В том, чтобы убить зверя в самом себе, – тихо сказала Маша, глядя в упор в блестящие, холодные, как у змеи, глаза Ирены.
– Опять пошла политика! – воскликнул Тарас Кузьмич. – Давайте лучше жребий бросать, кому где становиться. Я уже и номерки приготовил…
Он взял с вешалки чью-то шапку, бросил в нее бумажки, свернутые в трубочки, и долго встряхивал шапку, чтобы бумажки лучше перемешались.
Зазвенел телефон. Николай Андреевич снял трубку, послушал и сказал:
– Ну что же, приезжайте. – Он повесил трубку и, раздраженно глядя на Тараса Кузьмича, спросил: – Разболтали в районе насчет облавы? Эх, и язык у вас, Тарас Кузьмич!
– Да ведь как же промолчать-то, Николай Андреевич? Обиделись бы. Я и то не всем сказал. Секретарю райкома, первому только, а уж второго как-нибудь на зайчишек позовем… Ну, без председателя райисполкома как можно? Все кредиты у него, Николай Андреевич… Заведующий нефтебазой нужен? Нужен. Без горючего летом пропадем.
– Да молчите вы уж, – с досадой проговорил Николай Андреевич, конфузливо оглядываясь на Белозерова.
Но тот беззвучно хохотал, краснея от напряжения.
– Второму секретарю, значит… зайчишку? – переспросил он, сотрясаясь от смеха. – А третьему-то что же? Третьему? Заячий хвост?
И все захохотали. Белозеров заразил всех своим бурным, подмывающим смехом, нельзя было не смеяться, глядя, как он вытирает слезы, как трясутся его плечи, – так смеются лишь дети, отдаваясь смеху всем своим существом.
– Я вот чего скажу про медведей, – заговорил Андрей Тихонович, когда установилась тишина и слышно было лишь веселое потрескивание еловых дров. – По осени, как приспеет ему время ложиться, выберет он себе тихое местечко в чащобе, в ямке, а то под выворотнем, чтоб ветром не задувало. Он хоть и зверь, а тепло тоже любит… И сразу не ляжет, нет. Все кругом обглядит, обнюхает, обследствует, а как снег станет ложиться, то и он идет на покой. Но не так, чтоб без всякого соображения. Он к дому-то своему беспременно с юга заходит, и идет не головой, а задом вперед. Это он для чего? А чтоб охотника сбить с толку: мол, я ушел с этого места. Ну и ложится, а как по весне встанет, то опять же идет своим следом, так и говорится: «В пяту идет». Ну, стало быть, и охотникам становиться надо тоже с соображением, а на самую пяту ставить надо самого надежного: на него зверь пойдет…








