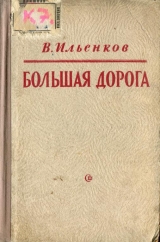
Текст книги "Большая дорога"
Автор книги: Василий Ильенков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 21 страниц)
Только Борис Протасов был мрачен и не верил ни во что. Все сильней болела рука, и от боли он уже не мог не стонать.
– Тебе нужно в госпиталь, Борис. Рана твоя опасная, – сказал Владимир.
– Кто тебе сказал, что она… опасная? – тревожно спросил Протасов.
– Наталья Викентьевна.
– Ничего… заживет, – с наигранной беспечностью промолвил Протасов, испытывая страх оттого, что не знал, как нужно понимать слова Наташи – буквально или в переносном смысле: действительно рана серьезная или Наташа намекает, что его рана, с ожогом, может заинтересовать не только врачей?
Но Дегтярев советовал Протасову итти в госпиталь не потому, что у него зародилось какое-нибудь подозрение, а потому, что ему казалось, что Протасов бравирует, хочет показать, что он не такой уж плохой человек, как о нем думают.
Ночью Протасов бредил, метался по нарам. Утром Владимир пошел к Наташе и сказал, что Протасова обязательно нужно отправить в госпиталь.
– С такой раной нельзя ему итти в госпиталь, – сказала она.
Владимир удивленно посмотрел на нее и вдруг по выражению отвращения и боли на лице ее понял все.
– Мы будем судить его своим судом… судом чести, – гневно сказал Владимир. – Он опозорил чистое знамя нашего ополчения.
– Не нужно этого… Я прошу вас, – тихо сказала Наташа. – Да, это ужасно, но то, что вы хотите сделать, еще ужасней… Я прошу вас, Владимир Николаевич, – повторила она, заглядывая ему в глаза. – Обещайте мне… И потом это же будет неблагородно с вашей стороны, жестоко…
– Почему?
– Ведь он спас вам жизнь тогда… весной, на охоте.
Владимир в гневе забыл о том, что было весной, и теперь, когда Наташа напомнила ему об этом, смущенно замолчал.
Да, Борис спас ему жизнь. Правда, для этого Борису не пришлось совершать подвига, – спасая Владимира, он не рисковал жизнью.
«Но все же только ему я обязан жизнью. Если бы не Борис, я утонул бы… А вот теперь хочу утопить его самого», – растерянно думал Владимир, глядя в землю. А в сердце его кипела злоба против Бориса за то, что он разжалобил Наташу, и в то же время Владимир испытывал раздражение против Наташи за то, что она поколебала его решимость.
«Ну что же из того, что он спас меня? – возражал себе Владимир. – Да, он спас меня. Но сейчас он предает миллионы людей… Родину! И нет ничего отвратительней этого преступления… Я не имею права молчать. Пусть, с точки зрения Наташи, это неблагородно и жестоко… Нет, нет! Неблагородно и жестоко по отношению к людям было бы молчать об этом преступлении из чувства личной признательности… Нет, благородно и не жестоко все то, что несет жизнь и счастье для всех!»
И, снова утвердившись в своей ненависти к Борису, сурово сказал:
– Но как вы, Наташа, можете просить об этом… после смерти Викентия Ивановича? Может быть, он не погиб бы, если бы не эти… Протасовы…
Колхозники рыли окопы на «садибах» – на последней черте. Дивизия пока держалась на третьей линии, но силы ее иссякали. Оставалось уже меньше половины состава. Да и те, кто уцелел, были так утомлены непрерывными боями, что почти совсем утеряли воинский вид: обросли бородами, почернели от грязи; одежда коробилась от пота и присохшей к ней глины; ботинки у многих были уже перевязаны телефонным проводом, а обмотки превратились в узкие и твердые жгуты, сползавшие с ног. Удары немецкой авиации по железной дороге нарушили снабжение дивизии.
Пошли дожди, дороги сделались непроезжими; всюду ревели грузовики, выдираясь из вязкой грязи. Колхозники вышли с топорами, пилами и лопатами. Они рубили лес и настилали бревна; строили деревянные мостовые и устраивали площадки, чтобы могли разъехаться встречные машины. Колеса грохотали по настилу, бревна подпрыгивали и звенели, как цымбалы; из-под бревен фонтаном вылетала жидкая грязь.
Налетали вражеские самолеты, сбрасывали бомбы, и кверху взлетали бревна, люди, грузовики, лошади, глыбы тяжелой смоленской земли. И снова на дорогу выходили колхозники с топорами, пилами и лопатами, заваливали воронки землей и хворостом, устилали бревнами, и снова с ревом и воем ползли грузовики и орудия, тащились походные кухни, дымя на ходу; везли раненых.
– Му́ка-то какая свалилась на нас, – жаловалась Дарья Михайловна, тащившая тяжелое бревно для мостика, раскиданного взрывом бомбы.
– Нам еще жаловаться нечего, – сказал Ерофей Макарович, помогавший ей. – А вот шемякинцам, верно, тяжело. Уже сколько народу погубил там немец. А теперь, слыхать, и помещик вернулся в Отрадное. Колхоз разогнал и снова имение объявил. Это вот уже истинно му́ка…
И люди заговорили о том, как хорошо жилось перед войной. Правда, не всего еще достигли, чего хотелось, но было главное – дружная жизнь. Теперь, когда над этой жизнью нависла опасность, все казалось прекрасным в том мире, который рушился на глазах: и теплые, просторные избы, от которых остались лишь задымленные печи; и шумные, длившиеся иной раз до рассвета, собрания; и песни у костров на днепровских широких лугах во время покоса; и смолистый настой лесной чащи; и запах рыжиков, выскочивших стаями на поляны среди редких молодых елочек; и яркая зелень отавы, устланная золотыми дорожками льна; и аромат конопли на «садибах», и даже, кажется, сладкой была боль в пояснице и на ладонях, порезанных жесткими стеблями льна.
А главное, иди, куда хочешь, и делай, что тебе любо. И никому не кланяйся униженно, никто над тобой не господин, и ты никому не слуга, а вольный человек на вольной земле, сам себе хозяин и власть. Дарья Михайловна – депутат сельского совета. Она надевала нагольную шубу яркооранжевого цвета, со сборками в талии, с опушкой из меха по рукавам, и медленно шагала по улице в новых теплых чесанках, и ей кланялись не потому, что она власть, а потому, что она самая уважаемая женщина на селе, неутомимая в труде, строгая нравом, сердечная к людям – мать своим детям и маленьким испанцам, лишенным крова и родительской ласки.
Дарья Михайловна хорошо помнила, как по деревне бывало проезжал молодой помещик из Отрадного, Кешка, и все спасподмошинцы кланялись ему, хотя знали, что он беспутный и глупый, но кланяться нужно было, потому что спасподмошинцы арендовали у Куличковых луга по Днепру. Теперь все казалось Дарье Михайловне нелепым и диким: и то, что арендовали луга у помещика, и то, что один человек мог владеть сотнями десятин земли и леса, и то, что она сама кланялась Кешке, считая его дураком. И еще нелепее было то, что этот Кешка существует на свете и расхаживает по колхозной земле, как по своей собственной, и что завтра он придет в Спас-Подмошье, и она, член правления колхоза «Искра» Дарья Михайловна, должна будет поклониться ему в ноги, чтобы он оставил ей жизнь.
– Ах ты, сука! – вдруг тонко, пронзительно закричала Дарья Михайловна, не выдержав, переполненная чувством омерзения и гнева – Сука! Сука!
Она кричала только одно это слово, и все люди смотрели на ее побелевшее, искаженное ненавистью лицо без удивления: они понимали крик этот, идущий из сердца.
«Что ж это так ослабла наша советская власть… наша армия? – подумала она, потрясенная надвигающейся на нее черной силой, и вдруг спохватилась и даже прижала рукой рот, покраснев от стыда. – Что же это я думаю? Да я же сама советская власть! Кешки испугалась! Вот дура-то, прости господи!»
Дарья Михайловна воткнула топор в бревно и пошла к Шугаеву.
– Иван Карпович, – сказала она, – чего же это творится на земле?
– А что, Дарья Михайловна? – спросил Шугаев, с любопытством разглядывая женщину, славившуюся своим добрым и ласковым сердцем.
– Да как же! На территории нашего Спасподмошинского сельсовета появился помещик. Колхоз в Отрадном разогнал и сызнова свое имение объявил…
– Приходится пока терпеть, Дарья Михайловна. Сама видишь: у немцев вон какая силища!.. Вернемся в Отрадное, опять свои порядки наведем. А пока ничего не поделаешь…
– Это как же так? С меня же потом товарищ Сталин спросит: «Ты что ж это, Дарья Михайловна, помещика на свою землю пустила?» Да мне лучше сейчас провалиться от стыда сквозь землю! Какая же я советская власть после этого сраму?
С серпом на плече Дарья Михайловна обходила уцелевшие избы и, кланяясь в пояс, приговаривала:
– Простите, граждане, если что худое от меня видели.
– А серп зачем же? – спросил Николай Андреевич.
– Да ведь Кешка-то, барин отрадненский, слыхать, баб сгоняет рожь убирать. Вот я и приду… рожь жать, – с хитрой улыбкой ответила Дарья Михайловна.
Генерал вызвал Шугаева и сказал:
– Снабжение дивизии нарушено. Придется вам, Иван Карпович, кормить дивизию. Давайте все: хлеб, мясо, жиры, картошку, сено… Потом сочтемся… Свои люди…
И колхозники повезли зерно на мельницы – они стали работать круглые сутки, – вели скот, копали картофель.
Иван Карпович в течение многих лет не знал покоя, стараясь, чтобы его район вышел на первое место по урожаю, по выполнению государственных поставок. Он начинал свой день с чтения сводок о количестве вспаханной земли, удобрений, скота, машин, поступлений по налогам, по страхованию, о количестве сданных государству яиц, масла, молока, мяса, меду, льна – он во всем хотел быть первым секретарем в области. И район вышел перед войной на первое место и по количеству ягнят, полученных от каждой сотни овец, и по числу читателей художественной и политической литературы, и по бегу на десять километров, и по жирности молока, и по общей сумме накоплений в сберкассах, и по рождаемости на тысячу жителей. Но уже тогда, в тяжелой будничной суете, он видел главный итог своих усилий своей мечты – коммунизм. Вот так бывает на рассвете: солнце еще не взошло, а на востоке уже все небо озарено его радостными лучами.
Шугаев стоял возле траншеи, которую рыли искровцы, на коноплянике, – последней, пятой, линии обороны дегтяревской дивизии. Люди работали без отдыха и день и ночь. С потрескавшихся ладоней их текла кровь, но в глазах людей сиял тот же неугасимый свет, каким было озарено лицо Дарьи Михайловны, когда она говорила с ним последний раз.
«Значит, солнце взойдет… взойдет», – думал Шугаев, глядя на черные, задымленные печи, стоявшие длинной мрачной шеренгой там, где недавно сверкали веселые электрические огни.
Много раз делал он отчеты о своей работе и в области и даже в Москве, много раз его работу обследовали и проверяли. Но только теперь, в огне великого бедствия, происходила настоящая проверка людей – их совести, воли и политической зрелости.
Хотя Красный Холм был занят немцами, районный комитет партии продолжал руководить жизнью не только в тех селениях, которые оставались не занятыми противником, но и в тех, которые очутились по ту сторону фронта. Шугаев понимал, что жители селений, занятых немцами, больше нуждаются в этом руководстве, чем те, кто не испытал великой беды. И Шугаев прилагал все усилия к тому, чтобы жители, оказавшиеся под властью захватчиков, непрерывно чувствовали направляющую волю коммунистической партии. Нужно было разъяснить им создавшееся положение и организовать на борьбу с захватчиками.
Типография районной газеты, вывезенная в лес, отпечатала воззвание районного комитета партии к населению. Теперь нужно было доставить листовки с воззванием в села, лежавшие по ту сторону фронта. Шугаев вызвал Машу и, передавая ей пачку листовок, сказал:
– Вы должны обойти все селения, захваченные фашистами, и передать эти листовки нашим людям. Имена их я назову сейчас. Помните, что вы не просто курьер райкома. В этих листочках наша правда. И вы несете эту великую правду людям, чтобы зажечь в их сердцах неугасимый огонь ненависти к врагу. Знайте, что вы идете на опасное дело…
– Да, я знаю, – сказала Маша, испытывая какое-то необыкновенное волнение: ее тревожила опасность предстоящего путешествия и в то же время ее радовало, что Шугаев доверяет ей эти листочки.
– Вы понесете людям свет нашей правды… Берегите его, Маша, – тихо сказал Шугаев, ласково взглянув на нее; он не сомневался, что она сделает все, чтобы донести этот свет. – Пароль, по которому вас узнают наши люди, такой: «С Востока свет!» Вы знаете чьи это слова?
– Да, знаю, – сказала Маша, вспомнив мгновенно и зимний вечер, и шумно кипящий самовар на столе, и черную руку Тома на белой скатерти, и взволнованное лицо Владимира.
Чтобы не привлекать к себе внимание немцев, Маша оделась как можно бедней: надела материнский сарафан, паневу, поддевку из белого домотканного сукна, лапти; обернула ноги белыми онучами, спеленала туго их пеньковыми веревочками. Она повязала голову материнским повойником, расшитым стеклярусом, какие прежде носили все замужние крестьянки на Смоленщине, а под повойник спрятала листовки.
Разглядывая себя в зеркало, Маша вдруг обнаружила, что в этом простом и бедном платье она выглядит еще краше. Повойник придал ее лицу то выражение физической и духовной зрелости, какое бывает у женщин, готовящихся к материнству, когда приходит ощущение близкого счастья и страх предстоящих мук.
С огорчением и радостью Маша вглядывалась в свое лицо, и ей хотелось, чтобы в этом наряде ее увидел Владимир. Но это было невозможно, хотя Владимир и находился недалеко: последние дни шли непрерывные бои. Доносился слитный гул орудий, и землю встряхивало от взрыва тяжелых бомб.
– Куда это так нарядилась? – спросил Александр Степанович, войдя в комнату и испуганно посмотрев на дочь: она была очень похожа на свою мать.
– Так просто… захотелось посмотреть, какая была в молодости мама, – ответила Маша, повязывая голову ситцевым платком.
– Опять собралась куда-нибудь… Уходишь, а отцу ни слова, будто я тебе чужой, – с обидой проговорил Александр Степанович, садясь на скамью. – Я ведь вижу… Все вижу, Маша. Я не из любопытства спрашиваю. Может все случиться с тобой. Так вот чтоб знать мне, где ты и что… Может, и я чем-нибудь помог бы тебе… Ты скажи… Дай знать, ежели что…
Маша промолчала и потому, что не могла ничего сказать отцу, и потому, что была растрогана его заботой и тревогой.
Переходить линию фронта она решила не возле Шемякина, как раньше, а левей Смоленского большака, по лесным тропам и болотам. Она вышла в сумерки из дому и пошла по деревне, среди дымящихся пепелищ, опираясь на палочку, сгорбившись, с мешком за плечами, похожая на нищенку. Вскоре у нее заболела спина от неудобной позы, Маше захотелось выпрямиться и итти, как она привыкла ходить, – высоко подняв голову, развернув плечи. Но нужно было тренироваться, привыкать к новой роли, и она заставила себя итти по-старушечьи, медленно, волоча ноги, согнувшись, словно мешок был наполнен камнями.
Шел дождь, и Маша боялась, что листовки под повойником промокнут. Она укутала голову шалью и, войдя в лес, быстро зашагала по знакомой тропе, хотя вокруг стало еще темней и лишь вверху смутно белела полоска неба. Маша не испытывала ни тревоги, ни страха. Здесь, в лесу, ей ничего не угрожало. Дорогу она знала хорошо, но было неудобно шагать в лаптях, и она часто спотыкалась на корнях, пересекавших узкую лесную тропу. В лесу стояла тишина, лишь издалека доносился порой тревожный звон пулемета да что-то ухало, как гигантская выпь, на болоте. Когда Маша прошла километра три, звуки редких выстрелов переместились правей; она вышла на линию окопов, где-то совсем близко, на поле, примыкавшем к лесу, был Владимир, и в той стороне часто вспыхивали белые огни ракет. Но Маша шла лесной чащей все дальше на запад, в обход линии фронта, которая обрывалась у кромки леса. Она увидела лесную сторожку, где прежде жил Тимофей, и воспоминания о зимней облаве нахлынули с потрясающей силой.
Да, вот здесь, на этой тропе, стояла она с Владимиром в ожидании сигнала к облаве, и он улыбался ей, махал руками, делая ей какие-то таинственные знаки, писал что-то палкой на сверкающей снежной пелене… И это был день счастья, того огромного, всепоглощающего чувства радости и восторга, перед которым меркнет весь мир. И в тот день Маша забыла о том, что существует злая, черная сила, распростершая над миром свои зловещие крылья, угрожающая ее счастью.
Счастье… Его можно было бы унести куда-нибудь далеко на восток, где сейчас тишина, где горят огни в окнах, затаиться и ждать, пока не утихнет грохот войны. Но как же можно пройти мимо горящего дома, где гибнут дети и старики?
Маша вспомнила, как накануне везли с передовых позиций раненых и машина застряла в грязи, а тут налетели вражеские истребители и стали стрелять из пулеметов. Маша схватила топор и, не раздумывая, срубила молодую березку, которую она пять лет назад сама посадила возле дома. Срубила деревцо и бросила его под колеса машины, и они, получив опору, стронулись с места, и машина ушла, а, раненые долго махали пилотками, благодарно улыбаясь.
«Ну, что ж, – подумала Маша, – теперь и я должна пострадать ради них, как они пострадали ради меня».
В предрассветном сумраке она перешла мелкое болотце и очутилась на огородах колхоза «Свободный труд». Она осторожно постучала в окно небольшого, но аккуратного домика под зеленой железной крышей, и когда пожилой мужчина с темными строгими глазами открыл дверь, Маша тихо сказала:
– С Востока свет!
Мужчина вздрогнул, лицо на мгновение озарила радостная улыбка, и он прошептал:
– Входите скорее, товарищ!
Так шла Маша из селения в селение, и всюду, где она произносила слова Сталина, перед ней открывались двери и люди принимали ее с сердечной лаской, как родного человека. Люди читали воззвания райкома партии и узнавали, что советская власть и коммунистическая партия существуют в районе, как и раньше, что Красная Армия уже полтора месяца сдерживает натиск врага на Смоленской земле, не давая ему двинуться к Москве, что немецких фашистов можно победить, если все советские люди выполнят сталинский наказ бить врага беспощадно везде, всеми средствами, не щадя своих сил. Люди узнавали о подвиге Тимофея Дегтярева, Тани Барсуковой, о мужестве поэта Шапкина, и в этот тяжелый час испытания никто не хотел отстать от спасподмошинцев и шемякинцев.
Маша обошла четырнадцать селений и на пятый день уже подходила к околице села Отрадного. Еще издали она услышала выстрелы в деревне и остановилась, не решаясь входить в ворота, возле которых стояли немецкие солдаты. Она почувствовала, что в Отрадном творится что-то нехорошее, и хотела свернуть в кусты, чтобы обойти село, но солдаты заметили ее и закричали:
– Хальт! Здесь ходить!
Маша, сгорбившись, волоча ноги, пошла к ним, прикрыв лицо платком. Солдаты ощупали ее мешок, и, толкнув в спину прикладом, старший из немцев приказал ей итти за ним. Ее привели в дом, где раньше помещалось правление колхоза, а теперь, видимо, был какой-то штаб. Машу еще раз обыскали, грубо шаря руками по телу, и она, брезгливо вздрагивая, думала лишь о том, чтобы немцы не сняли с головы ее повойник, под которым лежала последняя листовка.
На допросе она поняла, что ищут какую-то женщину, убившую помещика Куличкова и что именно ее и подозревают в совершении убийства. Маша сказала, что она в Отрадном первый раз, а идет из Смоленска, где лежала в больнице, к себе домой, в Дорогобуж, что зовут ее Таней. Назвала она себя так потому, что это имя она часто повторяла, вспоминая свою верную подругу.
Машу втолкнули в какой-то амбар и закрыли дверь на засов. Оглядевшись, она увидела в полумраке нескольких женщин, сидевших на полу, прислонившись спиной к стене.
– И тебя за Кешку? – спросила женщина, возле которой присела Маша.
– За какого Кешку? – удивленно переспросила Маша.
– За барина, который с немцами приехал… Вот и нас схватили, заперли сюда, а мы ни душой, ни телом. – Женщина помолчала, тяжко вздохнула, и другие женщины вздохнули с глухим, подавленным стоном. – А ты сама откуда будешь, милая? Как звать-то?
Маша сказала то, что говорила на допросе. Но, рассказывая о себе, она уже не чувствовала уверенности, что поступила правильно, выдав себя за какую-то Таню. Она не раз бывала в Отрадном, выступала здесь на собрании колхозников, когда «Искра» соревновалась с ними. Конечно, ее узнают.
А женщина, начавшая с ней разговор и, судя по напевному голосу, любившая поговорить, сказала:
– Хорошее имя – Таня… Слыхать, ходит по деревням девушка, тоже Таня. Листочки раздает, а в тех листочках все сказано, чего надо делать людям… Немцы ее все ловят, а поймать никак не могут. Прямо на глазах скрозь землю проваливается, и нет ее, а там опять слыхать: в другой деревне появилась. В Шемякино приходила, все разглядела, что у немцев, где какое оружие, а потом как ударили по немцу наши пушки, все начисто разбили… И проходит она невредимо скрозь огонь и железо, скрозь стены каменные. Закрыли раз ее немцы в подвал каменный, а наутро пришли – замок висит на дверях, а ее и след простыл…
Маша с улыбкой слушала рассказ, удивляясь, как быстро узнают обо всем люди. Действительность переплеталась с вымыслом – складывали легенду о чудесной девушке, – и Маше было приятно, что сказочная Таня и есть она, Маша, но живет своей, независимой от нее жизнью и будет жить, потому что людям нужна вера в сильного человека, презирающего смерть.
– Ее, Таню, немцы уже и казнили в Шемякине… А она опять ходит по деревням невредимая, – рассказывала женщина, и голос ее замирал от восхищения перед неуловимой девушкой. – И Кешку… это она… Таня, – прошептала женщина, пораженная своей внезапной догадкой. – Задремал Кешка пьяный в саду, а она его и полоснула серпом по шее. Так напрочь голову и отхватила… Силища-то какая!
Всю ночь женщина рассказывала необыкновенные истории, и все слушали, только Маша спала, положив голову на колени и обхватив их руками.
На восходе солнечный луч проник в амбар через крохотное оконце и позолотил длинные ресницы Маши. Женщина-рассказчица пристально вгляделась в лицо Маши и таинственно прошептала:
– Бабоньки! Она… Таня!
Вскоре загрохотал засов, дверь с визгом распахнулась, и на пороге появился немец с черепом и скрещенными костями на рукаве, за ним вошел Яшка. Он повел красными от пьянства глазами по лицам женщин, сидевших у стены, и вдруг порывисто шагнул вперед, вглядываясь в женскую фигуру в простом крестьянском платье и лаптях.
Яшка узнал Машу. Он злорадно усмехнулся и, сделав еще шаг к ней, вынул из карманов руки, как бы намереваясь ударить.
– Она! – сказал он и, не выдержав пристального взгляда Маши, опустил голову.
Немец ударил Машу ногой и крикнул, чтобы она шла впереди. Маша поднялась и, гордо вскинув голову, пошла из полутемного амбара на улицу, где сияло скупое осеннее солнце. На пороге остановилась и, обернувшись к женщинам, низко поклонилась им.
– Прощайте! И не забудьте этого злодея, – тихо сказала она, указывая на Яшку. – И вот это мне теперь не нужно, – она сняла повойник и бросила к ногам женщин.
Они стояли молча, любуясь ее красотой и вспоминая свою молодость, а когда Машу увели, женщина-рассказчица взволнованно воскликнула:
– Видали, какая она? Свет… свет несказанный в глазах! – она опустилась на колени, подняла повойник и поцеловала его.
Из повойника выпала бумажка, свернутая в трубочку. Женщина подняла ее и спрятала за пазуху, поближе к сердцу.
– Она и нас спасла. Двери открыла нам, – сказала она, и тут все увидели, что дверь осталась раскрытой и никто уже не охраняет амбар. – Всю му́ку нашу взяла на себя, – сказала женщина, пряча в карман повойник, и слезы потекли по ее морщинистому лицу.
Машу привели в красивый голубой домик, построенный для колхозного детсада. Вокруг домика еще стояли деревянные медведи, жирафы, лошади, а под елью большой серый волк смотрел на девочку в красной шапочке. В этого волка и в девочку стрелял из револьвера немецкий солдат, а другие, стоявшие возле, всякий раз, когда солдат попадал в цель, громко кричали пьяными голосами:
– Gut! Sehr gut![5]5
Хорошо! Очень хорошо!
[Закрыть]
И комната, в которую втолкнули Машу, была выкрашена в светлоголубой цвет весеннего неба, а на окнах еще стояли банки с цветами. За столом, положив ноги на крохотный детский стул, сидел немец в зеленовато-серой куртке с черепом и скрещенными костями на рукаве и курил сигару.
Маше показалось, что она где-то видела этого человека с холеным холодно-равнодушным лицом и жирным подбородком, но особенно знакомыми казались маленькие жестокие глаза.
– Вы не ожидали, конечно, что нам придется встретиться еще раз, – проговорил он, лениво выталкивая из себя слова вместе с табачным дымом. – Правда, тогда вы были одеты получше и чувствовали себя веселей… Вы даже декламировали что-то.
Маша вспомнила яркие огни в фойе консерватории. Корреспондент немецкого телеграфного агентства… Фукс!
– Ну, что ж, продолжим наш разговор, – откинувшись на спинку кресла, с насмешливой улыбкой проговорил Фукс. – До Москвы отсюда ровно двести восемьдесят километров. Надеюсь, вы теперь убедились, кто сильней: фашизм или коммунизм?
– Победит коммунизм! – громко сказала Маша.
– Это почему же? – все с той же усмешкой спросил Фукс.
– Потому что Запад со своими империалистическими людоедами, которых вы здесь представляете, превратился в очаг тьмы и рабства… Потому что только мы, советские люди, несем миру великий свет правды! И этот свет не погасить никому! Нет такой силы на земле! Да, мы, коммунисты, уверенно смотрим вперед, потому что законы жизни за нас… С Востока свет!
– Но вы-то этого света не увидите! – крикнул взбешенный Фукс и, отшвырнув детский стул ногой, встал, тяжело дыша.
В саду, возле голубого домика, стояла круглая железная клетка, в которой одно время жил медвежонок, подаренный детскому саду Андреем Тихоновичем Дегтяревым. Потом медвежонка отправили в зоологический парк, а в клетку поместили птицу с невыразительным названием – «сиворонка», но с таким великолепным, небесно-голубым оперением, что казалось, в клетку попал кусочек весеннего неба. Голова, шея, брюшко и кроющие перья крыльев были нежного голубого цвета с зеленоватым отливом. Сверкали яркие ультрамариновые перышки вдоль предплечья и светло-голубой хвост. Дети называли ее «синяя птица». Именно такой, казалось им, была та синяя птица, которую искали Тильтиль и Митиль. Об этом детям рассказала руководительница детского сада, видевшая пьесу Метерлинка в Художественном театре, в Москве.
Когда немецкие танки ворвались в Отрадное, матери унесли детей по домам, а синяя птица осталась в клетке и тоскливо кричала: «Крэк! Крэк!» Она привыкла к детским голосам и смеху, напоминавшему ей птичий гам в лесу в ясный весенний день. Потом синяя птица увидела перед клеткой какое-то чудовище с палкой в руках, которое приближалось к клетке, и гневно закричала: «Рррак! Рррак!» Чудовище просунуло палку в клетку и ударило по сухому деревцу, которое стояло в клетке, чтобы птица могла чувствовать себя, как в лесу. Синяя птица испуганно билась о прутья клетки, увертываясь от палки, но чудовище не оставило ее в покое до тех пор, пока птица не упала с распростертыми голубыми крыльями.
И вот Фукс придумал забаву и был очень доволен своей выдумкой: в эту клетку заперли Машу. От синей птицы осталось на полу лишь одно перо нежного небесно-голубого цвета. Маша подняла его, вспомнила, что синяя птица была для людей символом недостижимого счастья, и горько улыбнулась.
Маша должна была возвратиться в Спас-Подмошье двадцатого сентября. Но вот уже наступило двадцать пятое, а ее все не было. Шугаев испытывал томительное чувство тревоги и раздражения против самого себя за то, что послал Машу на такое опасное дело. Ухудшилось и положение на фронте. Дивизия Дегтярева отошла на четвертую линию обороны, которая проходила в полукилометре от Спас-Подмошья. С Кудеяровой горы уже били немецкие пушки.
Вечером двадцать пятого Владимир прибыл к генералу с личным докладом о результатах глубокой разведки, которую он возглавлял. У генерала сидели Шугаев и Белозеров.
Владимир доложил, что немцы накопили большие силы и, видимо, готовятся к наступлению: всюду множество танков и транспортеров, все время прибывает на автомашинах пехота…
– Вы очень промерзли? – спросил Белозеров, заметив, что руки Владимира посинели и весь он дрожит, сотрясаемый ознобом.
– Да… пришлось четыре часа пролежать в воде под носом у немцев.
– Иди-ка вот сюда, за перегородку, и ложись, согрейся, – сказал генерал и приказал Ване, чтобы Владимиру дали водки.
Владимир с тревогой взглянул на Шугаева, и тот понял, что означает этот взгляд.
– Пока не пришла, – тихо сказал он.
И Владимир ушел, скорбно опустив голову.
– Сколько осталось людей в дивизии? – спросил Белозеров, устало приподняв отяжелевшие веки.
– Третья часть… Да и те, видите сами, какие стали, – тихо ответил генерал.
– Нам еще бы несколько дней продержаться… Каждый день имеет сейчас огромное значение. Решающее, – подчеркнул Белозеров. – Я был вчера у Булганина в штабе. Он сказал: Сталин просит… да, просит, – повторил он громче и, стряхивая с себя оцепенение сна, встал, – продержаться еще с неделю… И тогда победа! Под Москвой уже накапливаются силы… Враг не пройдет к столице, если… если мы дадим товарищу Сталину еще несколько дней.
– Дадим, – тихо сказал генерал. – У меня есть еще пятая линия окопов… Последняя.
Адъютант доложил, что генерала и Шугаева хочет видеть Дарья Михайловна по срочному делу.
– Зовите, – сказал генерал.
Дарья Михайловна вошла и тяжело опустилась на скамью. Ее лицо было темного, почти черного цвета, как у людей, обожженных молнией. Она сидела неподвижно и сухими, глубоко запавшими в синие ямки глазами смотрела в землю. И все молчали, понимая, что то, что пришлось совершить ей, выше сил ее доброй души.
– В железную клетку заперли Машеньку, звери лютые, – проговорила она наконец и заплакала. – И мой грех взяла на свою душеньку… А выдал ее врагам Яшка шемякинский… И сидит она в клетке, как птица, несчастная. Ни пить, ни есть ей не дают. Придет какой-то с черепом на рукаве, положит кусок хлеба возле клетки и кричит: «Отрекись от советской власти – тогда дам хлеба!» Пятый день голодом морят ее…
Вдруг дверь, ведущая за перегородку, распахнулась, и вошел Владимир. Он шагнул к генералу и глухо, прерывистым голосом, сказал:
– Я пойду туда… Разрешите!
Минуту назад, лежа за перегородкой, он вдруг припомнил, что нужно непременно сказать генералу о преступлении Бориса Протасова. Но услышав голос Дарьи Михайловны, Владимир забыл обо всем, – все померкло перед ужасной вестью о Маше.
– Разрешите! – повторил он, забыв о том, что голоден, что одежда еще не просохла, не чувствуя ни озноба, ни боли во всем теле. Он чувствовал только страдания близкого ему человека.
Несколько минут стояло молчание. Михаил Андреевич думал, опустив голову. Слышны были лишь всхлипывания Дарьи Михайловны.
– Я поддерживаю эту просьбу, – тихо проговорил Шугаев.
Генерал поднял голову, взглянул на Белозерова и, прочитав на его лице молчаливое согласие, сказал:








