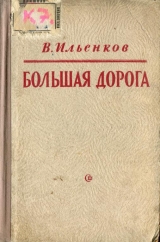
Текст книги "Большая дорога"
Автор книги: Василий Ильенков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 21 страниц)
Опять наступило молчание.
– А что же ваш заморский гость поделывает? – спросил Шугаев. – Прижился?
– Уехал домой, – сказал Николай Андреевич. – Все скучал он, а я и говорю ему: «Том, твоя родина – Америка, а человек должен жить на своей родине. Ежели там плохо, надо сделать так, чтобы было хорошо, а не убегать в другие страны… Нам, говорю, тоже было плохо в России, но мы никуда не убежали, а прогнали царя, помещиков, фабрикантов и стали жить, как нам хочется…» Он говорит: «Верно, Ник!» Он меня Ником, по-своему, прозвал… Теперь, мол, я знаю, что надо делать у себя, в Америке. «Спасибо, Ник! Поеду к своему народу»…
– Что же теперь делать, Иван Карпович? – сказала Анна Кузьминична; она с ужасом думала, что Владимир должен стать перед судом.
– Да да… «к своему народу», – задумчиво проговорил Шугаев. – Это правильно во всех случаях жизни – к своему народу. А ну-ка, Николай Андреевич, собирай колхозников. А я сейчас сюда этого беса вызову…
– Какого беса? – спросила Анна Кузьминична.
– Огурцова. Редактора! – сказал Шугаев, снимая телефонную трубку.
Николай Андреевич зачитал на собрании письмо Академии и статью Огурцова.
«Теперь начнут трепать», – подумал он, усаживаясь в уголке, чтобы не глядеть в глаза людям.
Первым выступил Андрей Тихонович:
– Бывало у нас в деревне каждый год кто-нибудь да помирал не своей смертью. Брату моему Никифору кишки выпустили: покосы делили, так косой и полоснули по брюху… Трофима Жучкова в лесу встрели. С ярмарки ехал, при деньгах был… Голову ему топором проломили… Аксинью мужик ее по ревности цепом убил… Молотили, он и ударил, а цеп был дубовый… А то Беляйкины имущество после отца делили. Захар, старший, ножом пырнул Сережку, младшего… И до больницы не довезли… Вот и Ивана Карповича кто-то покалечил за то, что к правильной жизни нас звал… А теперь годов десять не слыхать, чтобы человек на человека руку поднял…
– Да и на себя никто рук не наложил… – вставил Никита Семенович.
– И то верно, Андрей Тихонович, – перебила его Максимовна. – Дед у нас был старый, а я еще девчонкой бегала. Про деда все в доме говорили: чужой, мол, век живет. Есть ему не давали. Кричали бывало: «Скорей бы уж подыхал, что ли!» А невестка Анфиса, злющая такая была, говорит, и при нем же: «Помрешь, поминки надо устраивать, расходы. И гроб заказывать. Одни убытки». А дед одно твердит: «Я и сам рад помереть, да не идет за мной смерть моя, видно, забыли про меня в небесной канцелярии. А гроба мне не делайте, так хороните, в ямке, как турку». Анфиса его в бане запарила, а то и еще годов пять прожил бы… А теперь сколько стариков на деревне – все живут, никому не мешают. Никто меня куском хлеба не попрекает… Вот Николай Андреевич придет, спросит: «Чего тебе надо, бабушка, – скажи, предоставим». Молочка присылает… И мне помирать неохота. Жить любопытно…
К столу, за которым сидели члены правления, Шугаев и Огурцов, подошел Владимир.
Щеки его горели багрянцем смущения.
– Товарищи, я должен сказать несколько слов о себе, – проговорил он глуховато, с запинкой, как всегда, когда к нему подступало волнение. – Я очень виноват перед вами… И ваш суд для меня – верховный суд… Но я прошу понять меня…
– Да чего там! Понимаем! – крикнул кто-то.
И сразу все заговорили, перебивая друг друга, а Владимир стоял, смущенный и растроганный, и молчал.
– Вот у него уже нет беса… Он уже родился без него, окаянного, – сказал Шугаев, склонившись к Огурцову.
– Какой бес? – спросил Огурцов.
– Что тут сказать о лошади? – тихо промолвила Дарья Михайловна. – Жалко Ласточку, верно… Да ведь Маша-то для нас дороже. Вот и товарищ Сталин говорил: дороже всего человек, он самый важный капитал на земле… Я больше ничего сказать не могу…
– Слушай, слушай! – сказал Шугаев, толкнув в бок Огурцова. – Ты, кроме дохлой лошади, ничего не видишь, а они о человеке говорят. О человеке! Учись!
– А мне больше нравится Дегтярев-отец, нравится своей привязанностью к своему колхозу, самолюбием своим нравится, – сказал Огурцов, хитро улыбаясь. – Вот по осени его конем придавило! А он…
– Это тебя конем придавило, – сурово произнес Шугаев, и Огурцов испуганно умолк.
Люди говорили о том, чего они достигли в коллективе; о том, что стали уважать друг друга, что трудиться теперь веселей, что детишки обуты, одеты, и, хотя многого еще нехватало в личном и общественном быту, хотя порой приходилось отказывать себе в необходимом, люди говорили, что они довольны жизнью, потому что были уверены, что через год-два и эти недостатки будут устранены, что можно всего достигнуть.
Поднялся, опираясь на палку, древний старик, похожий на деда Мороза, и тихо заговорил:
– Дай-ка я скажу…
– Дедушка Влас имеет слово, – объявила Дарья Михайловна, сидевшая на председательском месте.
– Страху теперь нету… вот что… Бывало урядник встренется – страшно… Гром ударит – страшно… в потемках – черти разные… анчутки… домовые – страшно. А то раз холера навалилась… начисто все перемерли. Дохтора и того боялись… От страху человек таял. Я бы давно в могилке гнил… Я какой был? Тощой… черный… шкелет, от ветру качался… А теперь, слава тебе господи, живу…
– Он еще косы отбивает! – сказала Дарья Михайловна, любуясь дедом.
– Косу теперь не могу… глаза ослабли… Страху, говорю, не стало… Бывало воров боялся… Пожару боялся… А то град поле выбьет – по миру с сумкой иди… Соседа – и того боялся… А теперь кого мне бояться? Вот и раздобрел… живу… Сто восьмой пошел…
– Вот в этой уверенности своей, во всемогуществе человека главное ваше богатство, – сказал Шугаев Николаю Андреевичу. – Лошадей, хлеба, электростанций, машин много и у капиталистов, а этого у них нет – таких людей.
Александр Степанович Орлов сообщил, что на текущий счет колхоза поступило двенадцать тысяч пятьсот рублей – стоимость Ласточки по балансу.
– Кто же внес деньги? – загораясь, спросил Шугаев.
– В банке сказали, что поступило от гражданина Неизвестного…
– Вот! Вот! – восторженно воскликнул Шугаев, возбужденно хлопая рукой по плечу Дегтярева: – Вот о чем говори там, в Академии, Николай Андреевич!
Шугаев возбужденно ходил по комнате, присаживался к столу, вскакивал и снова начинал ходить из угла в угол.
– Нет, ты только подумай, Николай Андреевич! За десять лет никто – никто! – не поднял руку на человека. Да ведь это же и есть коммунизм! Человек человеку – друг… Где же еще на земле люди постигли эту простую и самую возвышенную истину?
И, глубоко вздохнув, Шугаев ощутил где-то под сердцем металлический кусочек, но вместе с болью он испытывал радость, что на его родной земле это был последний выстрел в человека. Законом жизни стало уважение к человеческой личности – самой великой ценности на земле.
– Опубликуй отчет о собрании в газете. Исправь свою ошибку, – строго сказал он Огурцову.
Шугаев задохнулся, отошел к окну. Стараясь успокоиться, он смотрел на блестевший вдали разлив Днепра и думал о том, что нужно съездить с подсадными утками на охоту, – он недавно купил уток, и они возбужденно кричали на зорях. Но Шугаев тут же вспомнил предупреждение доктора, что следует поостеречься капризной весенней погоды, чтобы не простудиться и не ускорить того, что медленно, но неотвратимо, совершалось в его легких, задетых металлическим кусочком.
Анна Кузьминична оставила Шугаева обедать. Маша первый раз вышла к столу. Она похудела и с жадным вниманием разглядывала все вокруг, радуясь всему, как радуется всякий, перенесший тяжелую болезнь. Шугаев помнил ее еще девочкой, когда она не раз приветствовала от имени пионеров района партийные конференции и съезды советов. Помнил Шугаев и то, как Владимир бежал в Испанию. И теперь, глядя на них, он испытывал чувство светлой радости, потому что в этих людях была частица его жизни. И в них продолжится она, как продолжается жизнь подпиленного под корень дерева в семенах, рассеянных им по земле.
– Да как же это угораздило вас в прорубь попасть, Машенька? – спросил он и, заметив, что Маша болезненно нахмурилась, понял, что затронул какую-то еще не зажившую рану.
– Бывает. Конь о четырех копытах, да и то спотыкается, – сказал Тарас Кузьмич. – Вот однажды со мной был случай…
– Машу толкнули в прорубь, – вдруг сказал Владимир.
– Как толкнули? Кто? Что ты говоришь? – почти в один голос воскликнули Николай Андреевич и Анна Кузьминична.
– Не нужно об этом, – тихо сказала Маша.
Шугаев, барабаня по столу пальцами, сказал:
– Поедем-ка со мной на уток, Володя. Тебе тоже нужно отдохнуть. Похудел.
К вечеру они уже подплывали на лодке к Лебединому острову. Тимофей рассказывал, направляя веслом лодку к сенному сараю, стоявшему на острове.
– Сказывают, какой-то барин на этом месте убил лебедя. Стой поры остров стали называть Лебединым… Верно ли, нет ли, лебеди триста лет живут…
Сверкала вода. Ветер гнал волну на затопленные разливом кусты, взбивал пену, и Шугаеву казалось, что там, возле кустов, плавают лебеди.
«Триста лет живут, – с грустью думал он, любуясь разливом. – Жестока и несправедлива природа. Неразумной птице дала триста лет, а человеку, который дает всему смысл и преображает мир, в пять-шесть раз меньше. Но человек никогда не примирится с этой несправедливостью».
Летели косяки уток и гусей, где-то в вышине трубили лебеди и журавли. На гривках, выступавших из воды, сидели разноцветные турухтаны со своими серенькими невзрачными самочками. Самцы были великолепны в своем брачном оперении, с пышными воротниками из ярких перышек неповторимой окраски. Они гонялись друг за другом и вступали в драку, разгоняя соперников, и побежденные, нахохлившись, сидели в сторонке.
Тимофей ушел собирать валежник для костра, а Шугаев и Владимир сидели на берегу и любовались разливом. Владимир рассказал Шугаеву о письме, которое привело Машу к проруби, и Шугаев думал: «Кто же виноват в том, что существуют такие подлые люди, как Борис Протасов? Разве не мы воспитывали его в школе, в пионерском отряде, стараясь привить ему благородные чувства и стремления? Почему же вот Владимир стал прекрасным человеком, а Борис способен совершить подлость? Влияние семьи?»
Шугаев вспомнил, что Борис в течение трех лет был его учеником в школе, – значит, и он, Шугаев, отвечает за то, что Борис совершил подлость. На ученическом собрании он спросил Бориса, почему он отнял у Егорушки доску, Борис спокойно ответил: «Двоих не выдержала бы». И вот этот случай так и прошел бесследно для всего коллектива школы. И он, учитель Шугаев, не добился осуждения Бориса общественным мнением школы. Может быть, тогда он призадумался бы над собой.
«Да, и я виноват. И я», – покаянно думал Шугаев.
Тимофей принес дрова, разжег костер. Надвигалась ночь. Но в кустах еще кричала утка, ей отзывался селезень своим мягким, нежным голосом. А птицы все летели и летели, перегоняя друг друга, словно боялись опоздать на великий праздник весны.
– Хорошо, Володя! – растроганно проговорил Шугаев. – Песня весны…
Владимир молчал, взволнованный могучей силой жизни.
– К нам какие-то едут, – сказал Тимофей, глядя во тьму, хотя, казалось, ничего нельзя было разглядеть.
Послышались плеск весла и громкие голоса.
– Никак, Борис Тарасыч? – сказал Тимофей.
Владимир тоже узнал Бориса по трубному голосу, и сразу померкло светлое чувство, навеянное торжественной песней весны.
То мучительное чувство страха, которое Борис испытывал после встречи с Фуксом в «Арагви», усилилось еще больше после того, как на улице его остановил какой-то рыжебородый и спросил, как пройти на улицу Чехова. Борис объяснил и, отойдя немного, стал следить, куда пойдет «рыжий». Тот повернул в противоположную от улицы Чехова сторону, и это показалось Борису подозрительным. Он пошел за «рыжим», ничего и никого больше не видя вокруг, наступая прохожим на ноги.
– Куда это вы, Протасов? – услышал он вдруг голос Коли Смирнова, который уцепился за руку и удерживал его. – Вот кстати вы попались мне… Я узнал, что у Владимира дома какое-то горе, и я не знаю, как добраться к нему, в Спас-Подмошье. Хочу съездить. Может быть, ему помощь моя нужна? Нельзя же бросать товарища в беде, правда? – спросил он, щуря свои близорукие добрые глаза.
Борис подумал, что и ему нужно немедленно уехать из Москвы, чтобы освободиться от «рыжего».
И вот теперь он сидел у костра, разглядывая кровавые мозоли на своих нежных ладонях, натертые веслами, испытывая чувство злой радости, что письмо его Маше принесло столько неприятностей Владимиру.
«Это у меня была просто навязчивая идея, мания преследования, – подумал он, – а здесь я высплюсь – и все пройдет».
– А ты зачем приехал, Коля? – удивился Владимир, хотя приезд друга очень обрадовал его. – Ведь у тебя же спешная работа над своим изобретением.
– Странный вопрос! – обиженно проговорил Коля. – Если бы мне было плохо, ты ведь тоже поехал бы?
– А вы над чем работаете? – спросил Шугаев. – Ему сразу понравился этот парень с добрыми близорукими глазами.
«Теперь все пропало», – подумал Владимир с улыбкой; он знал, что стоит начать разговор об изобретении, и уж потом ничем нельзя остановить Колю.
– Видите ли, я столкнулся на металлургических заводах с таким явлением, – оживился Коля и, присев на корточки, взял горсть земли. – Это проблема восстановления горелой земли. Формы для отливки металлических изделий делаются из кварцевого песка. Но после отливки он загрязняется, становится негодным, и эту горелую землю потом вывозят на свалку. Я решил очищать эту горелую землю, чтобы снова сделать ее пригодной для формовки… Для этого я построил электрическую установку, или электросепаратор, отделяющий зерна кварца от других примесей. Установка действует при помощи тока высокого напряжения, примерно пятьдесят – семьдесят тысяч вольт… А делается это так… Ток высокого напряжения подается на тонкую проволоку, натянутую между двумя электродами. Вокруг проволоки появляется голубоватое свечение, и вы чувствуете запах озона. Это летят ионы, заряжая все частицы горелой земли… Короче говоря, самые легкие частички отклонятся в сторону, улетят дальше, чем тяжелые, а тяжелые упадут, потому что сила тяжести у них больше, чем толкающая сила электрического заряда. Следовательно, мы можем отделить тяжелые частицы от легких. Понятно?
Шугаев с любопытством слушал, хотя понимал не все, – он всегда жадно тянулся ко всему новому. Борис Протасов уже спал.
– Нам тоже надо уснуть, а то ведь скоро и заря, – сказал Владимир.
– Я сейчас кончу, Володя, одну минутку, – сказал Коля, чертя на земле рисунок своей установки. – Это же очень просто…
– Да ведь товарищу Шугаеву это совсем неинтересно, как очищать горелые земли, у него в районе нет металлургических заводов. Его больше интересует, как очистить души людей от всякой пакости.
– А если вместо горелой земли через вашу установку пропускать зерна? – спросил Шугаев.
– Зерна? – переспросил Коля, недоуменно глядя на Шугаева; он привык иметь дело с мертвой материей, и этот вопрос показался ему нелепым. Однако, подумав немного, Коля нашел, что зерна – такое же сыпучее тело, как и горелая земля, и под действием тока высокого напряжения будут вести себя так же, как и частицы горелой земли. – Да… Таким способом можно отсортировать крупные зерна от мелких, – сказал он, удивляясь логичности этого вопроса.
Все уже спали, а Коля все думал. И уже забрезжил рассвет, снова полетели птицы, в корзинке кричали подсадные утки, над разливом зазвенели медные трубы журавлей.
Раньше всех проснулся Владимир, разбуженный охотничьим беспокойством, растолкал Тимофея и попросил отвезти его на островок, который заприметил еще по дороге. Он не хотел встречаться с Борисом, зная, что не выдержит и скажет ему все, что думает о нем.
Шугаев ушел на другой конец Лебединого острова, выпустил на воду подсадную утку и, забравшись в шалаш, стал обдумывать предстоящий разговор с Протасовым.
«Надо подействовать на его совесть, не преступник же он! Вот даже горелую землю можно восстановить. Начну с Егорушки, с самого корня…»
Задумавшись, Шугаев совсем забыл об утке, а когда глянул между веточек на то место, где она была привязана, не увидел ее. Он вылез из шалаша, оглянулся. Утка плыла уже далеко, к кустам, откуда доносился призывный крик селезня.
«Что же теперь делать?» – думал Шугаев, стоя на берегу.
Тимофей уехал за картофелем и водкой, деньги дал ему Борис.
Шугаев пошел на стоянку, к костру. Борис еще спал. Коля лежал на спине, заложив под голову руки, думал о том, как сделать установку для сортирования семян током высокого напряжения.
– Это же варварство – руками отбирать по зернышку четыреста миллионов зерен! – сказал он. – Володя считает это варварство подвигом Маши. Люди потеряли почти полгода своей жизни, отбирая руками семена. Полгода жизни! Человек и так мало живет на земле. Нет, я не уеду отсюда до тех пор, пока но пущу в ход электровеялку… Представьте себе ящик… – Коля схватил щепочку и начал чертить на земле схему установки.
– У меня утка уплыла. Помогите поймать.
Они сели в лодку, но и в лодке Коля продолжал объяснять устройство электровеялки. Утка забилась в кусты, и ее нельзя было ничем выманить оттуда.
«Пропала охота!» – с досадой думал Шугаев и, стараясь придать своему голосу ласковый тон, манил: «Уть! Уть! Уть!» Но утка, зачарованная нежным призывным криком селезня, уплывала все дальше и дальше.
– Мне необходим только трансформатор для повышения напряжения, – продолжал Коля. – Такого типа, как на рентгеновских установках. У вас есть в районе рентген?
– У нас прекрасная больница. Я скажу Евгению Владимировичу, чтобы он разрешил вам проделать опыт… Уть! Уть! Проклятая…
– Вот и чудесно! – радостно воскликнул Коля. – Завтра же я примусь за работу.
Мимо лодки тянула стайка кряковых. Шугаев выстрелил – и селезень упал в воду, но тотчас же вынырнул и, взмахивая подбитым крылом, поплыл в кусты.
– Гребите скорей! – крикнул Шугаев.
Коля щурил свои близорукие глаза, он не видел селезня и не знал, куда направлять лодку.
Шугаев прицелился, но в тот момент, когда нажал спуск, селезень нырнул. Он появился шагах в сорока правей, но Коля снова потерял его из виду.
– Правей! Правей берите! – кричал Шугаев, прицеливаясь; раздраженный неповоротливостью Коли, он сердито дернул спуски опять промахнулся. Селезень исчез в кустах.
– Затратить полгода человеческой жизни, чтобы отсортировать каких-нибудь пятьсот пудов семян! – возмущался Коля.
– Уть! Уть! Уть! – звал Шугаев охрипшим от досады голосом.
Они вернулись на стоянку. Борис, выспавшийся, розовый, довольный, разжигал костер. Шугаев рассказал о своих неудачах.
– Я сейчас поймаю утку. И селезня вашего найду, – уверенно сказал Борис.
Он сел в лодку и вскоре привез подсадную и подранка-селезня.
– Как же это вам удалось так скоро? – удивился Шугаев, чувствуя, что ему уже трудно начать неприятный разговор с Протасовым.
– Я умею обращаться с домашней птицей. У нас всегда было много уток, гусей, кур, индеек, – сказал Борис, хитро поглядывая на Шугаева, как бы говоря: «Я знал, что вы, Иван Карпович, приготовились разорвать меня на куски. Но я знаю также, что вы можете растаять от доброго поступка. И вот я обезоружил вас». – Я люблю птиц, и они любят меня.
– Да, Тарас Кузьмич любит птиц и животных, – сказал Шугаев, чувствуя, что говорит совсем не то, что нужно было бы сказать о Тарасе Кузьмиче, который имел много гусей и уток потому, что колхозники привозили ему зерно за лечение коров и свиней. – Это хорошо, что вы любите птиц и они любят вас, но гораздо важней, чтобы вы любили людей и они любили бы вас, – глухо, волнуясь, проговорил Шугаев.
И Борис принялся усердно раздувать потухающий костер.
Коля сидел поодаль на берегу, смотрел на разлив, стараясь отыскать глазами островок, на котором уединился Владимир; только сейчас, случайно сунув руку в карман, он обнаружил письмо Владимиру от Наташи.
– Можно любить птиц, зверей, цветы, хорошую мебель… но любить людей – прежде всего, – продолжал Шугаев. – Иной создает красивые вещи, ходит в театр, любит свою собаку, но не любит человека. Он вот тоже уцепится руками за свою «доску» и плывет по океану жизни, а случись рядом будет кто-нибудь тонуть, он скажет: «Ты уж, брат, извини, доска двоих не выдержит…» А Владимир скажет: «Бери мою доску, плыви… а я уж как-нибудь…»
– Вы, Иван Карпович, идеализируете Владимира, – сказал Борис. – Я знаю человека, у которого он отбил любимую женщину…
– Не верю я, когда жалуются: вот отбили у меня женщину. Если она любит тебя, то уж никто ее не сможет отбить… Значит, тут виноват не тот, к кому она ушла, а ты сам, потому что недостоин ее любви… «Отбили»! – Шугаев иронически усмехнулся, вспомнив, что словечко это испугало и его самого, когда доктор стал ухаживать за Лидией Сергеевной; но она не ушла и не уйдет, потому что нельзя разбить настоящую, большую любовь.
Шугаев помолчал, глядя на разлив, как бы собираясь с силами, чтобы сказать самое трудное. А птицы все летели и летели, с радостным криком опускались на сверкающую воду, купались, ныряли, гонялись друг за дружкой, разбивались на пары, уединялись в кусты, и над разливом звенела торжествующая песня любви.
– Вот вы, Иван Карпович, требуете от каждого человека высокого подвига самопожертвования ради всех. Но ведь на такой подвиг способны только герои, такие… как Владимир Дегтярев, а я простой смертный, и таких миллионы. Да, я слаб, признаюсь… Но разве я не имею права на счастье? – сказал Борис, чуточку побледнев. – Я от имени этих миллионов спрашиваю вас: мы, слабые, цепляемся за свою «доску», как вы сказали, плывем, барахтаемся, но ведь мы тоже хотим жить? Пусть мы маленькие, серые, но…
– Нет! Серые умерли. Мы открыли в каждом несметные богатства души. Человек воскрес, поверил в себя, в свои силы. Один создает прекрасный дворец для людей, другой – паровую турбину мощностью в сто тысяч киловатт, третий – электровеялку, как этот Коля, четвертый пишет симфонию. Мы каждому открыли дверь в большой мир, очищенный от мерзости эгоизма… Как умно, хотя, быть может, и в тяжеловатой форме, сказал поэт, обращаясь к такому вот «серому» человечку:
Как ты велик, ты не знаешь и сам,
Проспал ты себя самого.
Твои веки как будто опущены были
во всю твою жизнь,
И все, что ты делал, к тебе обернулось
насмешкой, —
Твои знания, барыши и заботы.
Но посмешище это – не ты.
Там, под спудом жалких мыслишек и чувств,
затаился ты – Настоящий.
И я вижу тебя там, где никто не увидел тебя…
– Вы хотите уничтожить личность со всем ее своеобразием, с недостатками… ошибками… выработать некий стандарт добродетельного человека…
– Замолчи! – крикнул Шугаев и ударил кулаком по земле, чтобы разрядить ярость, сдавившую его сердце.
Он молчал несколько минут, тяжело дыша.
– Ты враг общества!
Протасов криво улыбнулся.
– Да, враг! После того, как мы уничтожили паразитов-помещиков, купцов, фабрикантов, банкиров, кулаков, – ты наш главный враг… себялюбец, ржавчина, разъедающая стальные крепления нашего мира…
– А вода-то прибывает, – сказал Коля Смирнов, подходя к костру.
– Как… прибывает? – переспросил Шугаев, еще не придя в себя от волнения, и вдруг увидел, что куст, к которому вчера привязывали лодку, весь в воде.
Надвигались сумерки. И Шугаев вспомнил, что островок, который облюбовал себе Владимир вчера, едва поднимался над водой, – это был бугор с остатками стога.
Вчера вода шла на убыль и, уходя, оставляла на берегу сухие камышинки, прутики, корни аира, похожие на толстых змей. Теперь все это смыла подступившая к острову вода, и Владимир видел, как ползла она к нему медленно, но неотвратимо, заглатывая в свою черную пасть крохотный кусочек земли, на котором он сидел.
Утром, сойдя с лодки, он прошел на островок по вязкой, покрытой илом земле, оставляя глубокие следы. Теперь вода залила их, и остался лишь один глубокий отпечаток его сапога с оттиском железной пластинки на каблуке. Но вода уже подбиралась и к этому последнему следу его на рыжей глине. И, увидев это, Владимир почувствовал холодок, пробежавший по спине.
Увлекшись охотой, он не заметил, что вода стала прибывать. Видимо, где-то в верховьях Днепра прошли сильные дожди. Владимиру было удобно сидеть в шалаше, который он устроил на жердях, оставшихся от прошлогоднего стога. В отверстие между веточками, прикрытыми сеном, он видел подсадную утку, сидевшую на деревянном кружке, и синеватую каемку леса на горизонте. До леса было километра три, и все это было залито вешней водой, лишь кое-где торчали кусты, да вправо, на расстоянии метров четырехсот, на Лебедином острове, темнел сарай, и там поднимался кверху дымок костра.
Уже перед вечером подлетел селезень, и Владимир убил его, а когда вылез из шалаша, чтобы достать птицу, увидел последний свой след на земле, к которому подползала черная вода. Владимир окинул взглядом безбрежный разлив, надеясь увидеть лодку и знакомую фигуру Тимофея, но увидел лишь вдали сухую старую ветлу.
Тимофей купил две бутылки водки, насыпал в мешок картофеля, положил туда же каравай ржаного хлеба и уже собрался в путь, к разливу, где стояла лодка, но тут жена внесла миску с солеными рыжиками, и от них пошел по избе такой аромат, что Тимофей не устоял, откупорил бутылку. Он выпил стакан водки, съел всю миску рыжиков, едва добрался до кровати и мгновенно захрапел.
Уже в сумерки его разбудила жена. Тимофей взвалил мешок на спину и зашагал к разливу. Голова сильно болела, и ноги цеплялись за корни. Тимофей решил подкрепиться. Он присел, выпил и, закусив хлебом, пошел дальше. Теперь ноги двигались веселей.
– Ничего, потерпит, – думал он вслух о Владимире.
Но скоро Тимофей почувствовал, что ноги опять стали заплетаться, и он опять подкрепился.
– Водка слабая, не то что коньяк, – вслух размышлял он, вспоминая, как перед весной к нему приехал на автомобиле какой-то в больших очках и сказал, что Борис Протасов – его друг и что по его совету приехал поохотиться.
Назвался он Иваном Фомичом, прожил дня три, все бродил безустали по лесу, а на привалах угощал коньяком такой крепости, что у Тимофея захватывало дух и утром он долго не мог проснуться. «Вот это был коньяк!» – вспоминал Тимофей. Охотник оказался на редкость щедрый: уезжая, он дал пятьсот рублей и обещался еще раз приехать. Говорил Иван Фомич мало, а все расспрашивал: хороши ли здесь дороги и куда можно проехать на машине, потом вынул карту и пометил шоссе, которое только недавно провели, а на карте еще не обозначили…
Уж стемнело, когда Тимофей вышел к разливу. Прежде чем отправиться в путь, он еще раз хлебнул из горлышка бутылки. Он пил, чтобы заглушить страх, который всегда подступал к нему, когда он вспоминал о Шугаеве. Даже сейчас, в темноте, Тимофей видел пронизывающие голубые его глаза, которые говорили: «Я все знаю. Я знаю, Тимофей, что ты стрелял в меня в ту далекую осеннюю ночь… Знаю, что ты мучаешься, потому что я не сделал тебе никакого зла, а стрелял ты в меня потому, что тебя купили за две бутылки водки враги». Следователь добрался по следам Тимофея до лесной его сторожки, но Шугаев сказал: «Дегтяревы не могут быть врагами советской власти».
И вот десять лет Тимофей живет в страхе перед этим добрым ко всем человеком и не может взглянуть в его голубые глаза, но тянет взглянуть, как тянет человека в пропасть. Знает он или не знает? Если знает, то чего же молчит десять лет? А если не знает, то чего так пристально смотрит в упор своими пронизывающими глазами?
Лодка ткнулась в куст и завертелась на быстрине. Тимофей оглянулся, но не узнал места. Он повернул лодку направо, наугад, но снова попал в кусты.
– Никак сбился, – подумал он вслух и повернул лодку налево, но и там наткнулся на куст. – И костра нигде не видать. Вот диво!
Он долго выбирался из кустов на чистую воду, устал, и ему вдруг захотелось спать. Тимофею показалось, что позади раздался выстрел, и он повернул лодку назад, ясно сознавая, что окончательно сбился с пути.
«Выпью глоток, все прояснится», – решил Тимофей, но вместо одного глотка допил бутылку и тогда навалился на весла с решимостью плыть до тех пор, пока не найдет Лебединый остров. Иногда во тьме мелькал огонек, и Тимофей, решив, что это костер на Лебедином, правил на этот огонек, но потом огонек появлялся где-то сбоку, и Тимофей кружил во тьме, натыкаясь на кусты. Он крикнул: «Гоп! Го-о-оп!»
Этот крик слышал Владимир и откликнулся, но Тимофею показалось, что кричат не справа, где был островок, а слева, и повернул лодку налево.
Владимир крикнул еще раз, но никто не отозвался. Тогда он выстрелил. Эхо покатилось по воде, громыхая, как чугунный шар.
Настил из жердей давно уже накрыла вода, и Владимир чувствовал, как она наливается в сапоги через голенища. «Неужели так и пропаду здесь?» – мелькнула противная, знобящая мысль.
На Лебедином вспыхнул яркий огонь, и Владимир увидел темные фигуры возле костра. «Неужели они не могут догадаться, что я в опасности?» – с раздражением подумал он и выстрелил еще раз. На Лебедином ответили выстрелом.
«Значит, поняли… Сейчас приедут», – успокоенно подумал Владимир и даже улыбнулся, представив себе, как он будет рассказывать сейчас о своем приключении, и ему уже было жаль селезня, унесенного течением.
Холодные кольца охватили его ноги выше колен и медленно поползли вверх, сотрясая тело мелкой дрожью. Владимир не сомневался в том, что за ним приедут, – нужно было лишь терпеливо ждать, не допуская в свое сердце ни сомнения, ни страха, нужно было непоколебимо верить, что товарищи сейчас делают все для того, чтобы поскорей выручить его из беды. И он стоял неподвижно, на одном месте, чувствуя, как холодные кольца уже соединились в один большой обруч и этот обруч охватил и сдавил его бедра. Владимир ощущал только верхнюю половину своего тела, в которой еще держалось тепло.
«Терпеть и верить… Терпеть и верить», – повторял он про себя, как клятву.
Когда Коля сказал, что вода прибывает, Шугаев бросился к кусту, где стояла лодка, но лодки там не нашел.
– Где же лодка? – спросил он Бориса. – Ты же ездил на ней последний.
– Я оставил ее на прежнем месте.
– А привязал?
– Нет.
Лодку обнаружили метрах в полуторастах от острова: ее прибило волной к коряге.
– Нужно кому-нибудь добраться до нее вплавь, – сказал Шугаев, глядя на Протасова, и взгляд этот говорил: «Ты виноват, упустил лодку – и ты должен исправлять свою оплошность».
Но Коля уже сбросил с себя рубашку и торопливо расшнуровывал ботинки, Борис молчал, медленно расстегивая пояс.
«Какой себялюбец!» – с неприязнью думал Шугаев. Коля бросился в реку и поплыл, быстро взмахивая руками. Шугаев вздрогнул, как бы ощутив своим телом ледяную апрельскую воду. С тревогой следил он за Колей. Было уже темно, и Шугаев опасался, что Коля по своей близорукости проплывет мимо лодки. Ему стало досадно, что сам он не может броситься в воду из-за этого проклятого кусочка металла, отнявшего у него силу. Он нервно ходил по берегу, вглядываясь в сумрак и живо представляя себе, как Владимир стоит по грудь в воде, терпеливо ожидая помощи.








