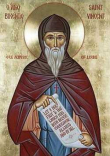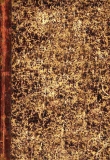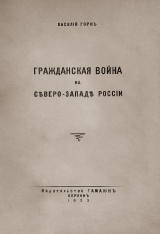
Текст книги "Гражданская война на сѣверо-западѣ Россіи"
Автор книги: Василий Горн
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 42 страниц)
Эстонскій премьеръ г. Тениссонъ огласилъ на русскомъ языкѣ проэктъ отвѣтной ноты эстонскаго правительства Верховному Совѣту. Переводилъ на французскій языкъ французскій полковникъ Хюрстель. Вотъ что приблизительно говорилось.
Эстонское правительство хотѣло бы удовлетворить всѣ желанія союзниковъ, но оно вынуждено считаться съ фактической дѣйствительностью. Эстонія неоднократно просила Антанту признать ея независимость, но до сихъ поръ эта просьба не получила удовлетворенія. Между тѣмъ безъ этого Эстонія не можетъ продолжать дальше борьбу съ большевиками. По этой же причинѣ не удалось заключить военную конвенцію съ окраинными государствами. Благодаря отсутствію признанія, не могутъ быть устранены экономическія и политическія затрудненія для Эстоніи. Будь Эстонія признана, она справилась бы съ валютными затрудненіями, а тогда она могла бы сама пріобрѣтать необходимое снаряженіе для борьбы и сумѣла бы ослабить дороговизну, которая обостряетъ внутреннее положеніе страны. Затѣмъ, такое признаніе сильно укрѣпило бы положеніе эстонскаго государства по отношенію ко всѣмъ группамъ, борющимся въ Россіи за власть. Напримѣръ, всероссійское правительство Колчака и Деникина будетъ уважать эстонскую независимость лишь въ томъ случаѣ, если она будетъ поддержана западными великими державами.
Далѣе г. Тениссонъ обрисовалъ всю исторію помощи русской арміи со стороны Эстоніи и заявилъ, что тѣмъ не менѣе русская армія по существу своему осталась враждебной эстонской независимости, и достаточно правящимъ группамъ захватить власть въ Россіи, какъ сейчасъ же возникнетъ съ этой стороны угроза эстонской государственности. Это тѣмъ болѣе вѣроятно, что еще въ іюлѣ, въ особой деклараціи Колчака, уже имѣлся опредѣленный протестъ противъ эстонской независимости. Какъ это отражается на взглядахъ русскихъ военныхъ круговъ, достаточно указать, что въ моментъ послѣдняго продвиженія русскихъ на Петроградъ два видныхъ русскихъ генерала опредѣленно говорили, что сначала возьмемъ Петроградъ, а потомъ повернемъ штыки противъ Ревеля. И несмотря на все это, Эстонія поддерживала сѣверо-западную армію.
При такихъ условіяхъ для эстонскаго правительства естественно возникъ вопросъ, можетъ ли оно пускать столь враждебную ему армію вооруженной на свою территорію. Если бы правительство допустило это, оно неминуемо подвергло бы опасности свой фронтъ, а внутри страны возникли бы безпорядки.
Въ виду всего изложеннаго, эстонское правительство пришло къ заключенію: 1) что оружіе русскимъ войскамъ, перешедшимъ эстонскую границу, не можетъ быть возвращено, 2) всѣ остальныя русскія части, переходящія на эстонскую территорію, должны разоружаться и впредь, 3) что всѣ перешедшіе русскіе солдаты будутъ разсматриваться, какъ иностранные мирные граждане, при чемъ временно эстонское правительство приметъ всѣ мѣры, чтобы не распылять русскихъ войскъ и не отдѣлять въ нихъ командный составъ отъ солдатъ. Однако, если такое положеніе затянется, то эстонское правительство вынуждено будетъ привлечь ихъ къ какому нибудь труду, иначе вся эта праздная масса будетъ угрожать спокойствію страны, 4) продовольствіе всей русской арміи должны взять на себя американцы и 5) эстонское правительство не можетъ допустить на своей территоріи дальнѣйшую организацію арміи.
Посему, чтобы у эстонцевъ была увѣренность, что русская армія не повернетъ своихъ штыковъ противъ нихъ, мы согласны на ея реорганизацію у насъ и готовы совмѣстно продолжать борьбу съ большевиками, если эстонская независимость будетъ признана правительствомъ Колчака-Деникина и Антанты, либо правительство Колчака-Деникина признаетъ сѣверо-западное правительство, а военное командованіе здѣсь ему подчинится, но и въ этомъ случаѣ независимость должна быть также еще признана Антантой. На признаніе Эстоніи Антантой мы смотримъ, какъ на гарантію, такъ какъ русскія правящія группы всецѣло зависятъ отъ нея, получая отъ Антанты деньги и снаряженіе. Только въ такомъ случаѣ эстонскія войска могутъ вновь повести рука объ руку съ русскими дальнѣйшую совмѣстную борьбу съ большевиками.
По окончаніи изложенія эстонской ноты, генералъ Батъ задалъ вопросъ, удовлетворилось ли бы эстонское правительство, если бы его независимость была признана Колчакомъ-Деникинымъ и Антантой или оно еще настаиваетъ на томъ, чтобы Колчакъ и Деникинъ признали еще и сѣверо-западное правительство. Г. Тениссонъ отвѣтилъ – да, вполнѣ, хотя лично онъ полагаетъ, что безъ организаціи здѣсь на мѣстѣ русской демократической государственной власти борьба русскихъ войскъ неизбѣжно будетъ обречена на неуспѣхъ.
Генералъ Батъ спросилъ далѣе, не будетъ ли со стороны эстонскаго правительства препятствій къ переброскѣ русскихъ войскъ на какой нибудь фронтъ другого сосѣдняго государства. Г. Тениссонъ отвѣтилъ – нѣтъ. Послѣ сего обмѣнъ мнѣній былъ оконченъ и всѣ разошлись».
Текстъ послѣдовавшей 16 декабря эстонской ноты по тому же предмету Верховному Совѣту содержалъ приблизительно все то же, что говорилъ г. Тениссонъ въ своемъ проэктѣ, только о сѣверо-западномъ правительствѣ тамъ не было уже ни слова, почти не говорилось о возможной дальнѣйшей борьбѣ въ сотрудничествѣ съ русской арміей. Въ интересахъ полной исторической картины описываемыхъ мною событій, я привожу текстъ ноты отъ 16 декабря въ приложеніи.
Нѣсколько позже, въ тотъ же день, я имѣлъ бесѣду съ англійскимъ политическимъ представителемъ въ Ревелѣ капитаномъ Смитисомъ. По его словамъ, положеніе Эстоніи было очень тяжелое и ей очень трудно поддерживать сѣверо-западную армію. Она могла бы это дѣлать только при признаніи ея политической независимости Колчакомъ и Деникинымъ, иначе, если бы эстонское правительство не посчиталось бы съ мнѣніемъ своего народа, оно можетъ взлетѣть на воздухъ. Англійское правительство не можетъ содѣйствовать въ борьбѣ съ большевиками живой силой, и то правительство, которое попыталось бы послать свои войска сюда, лишилось бы власти въ 24 часа. Особенно настроены противъ интервенціи низшіе англійскіе слои народа. Они, конечно, не одобряютъ большевиковъ, но и не желаютъ вмѣшательства во внутреннія русскія дѣла. Передъ ними стоитъ грозная цифра въ 100 милліоновъ фунтовъ стерлинговъ, потраченная уже на помощь Россіи, и дальнѣйшихъ тратъ они не желаютъ допускать, такъ какъ благодаря этому въ Англіи чрезмѣрно растетъ дороговизна.
Однимъ словомъ, ликвидируйтесь и убирайтесь вонъ изъ Эстоніи – припѣвъ со всѣхъ сторонъ. Но особыхъ толчковъ и не требовалось больше, армія уже разложилась; часть полегла въ тифѣ, а здоровые толпами уходили назадъ въ Совдепію. Мирные переговоры эстонцевъ съ большевиками тоже затянулись и даже оборвались, совѣтскія войска повели отчаянныя атаки на Нарву. Одинъ моментъ былъ очень критическій, большевики чуть не обошли Нарву съ юга.
22 января 1920 г. генералъ Юденичъ издалъ приказъ о полной ликвидаціи арміи. Начальникомъ военной ликвидаціонной комиссіи онъ назначилъ ген. графа Палена, а генералу Глазенаппу поручилъ общее наблюденіе за всей ликвидаціей, заявивъ въ приказѣ, что все необходимое для этого онъ передалъ ген. Глазенаппу. Сколько передалъ денегъ ген. Юденичъ и передалъ ли ихъ, никто не могъ сказать. Эстонцы въ это время зорко слѣдили за ген. Юденичемъ, а когда онъ хотѣлъ выѣхать въ Финляндію, то выѣздной визы не дали. Я совершенно не вмѣшивался въ эти дѣла, да со мной и не стали бы говорить.
Незадолго до изданія приказа, въ № 3 газеты бывшаго министра Иванова «Вѣрный путь» 15 января 1920 года, появилось открытое письмо къ «руководителю сѣверо-западной арміи», подписанное «группой бѣженцевъ общественныхъ дѣятелей», гдѣ предъявлялось ген. Юденичу до 9 вопросовъ о причинахъ катастрофы арміи и спрашивалось, куда расходовался колчаковскій фондъ и когда ген. Юденичъ дастъ отчетъ о деньгахъ? Письмо было редактировано въ рѣзкомъ обличительномъ тонѣ, при чемъ говорилось о какихъ то подозрительныхъ валютныхъ операціяхъ генерала. На письмо ген. Юденичъ вовсе не реагировалъ, но поползи слухи, что въ Ревелѣ появился ген. Балаховичъ и вмѣстѣ съ Ивановымъ опять что-то затѣваютъ.
Въ ночь на 28 января 1920 года въ гостиницу «Коммерсъ», гдѣ проживалъ въ Ревелѣ ген. Юденичъ, явились нѣкто г. Ляхницкій, Балаховичъ (Ивановъ не пошелъ дальше лѣстницы на второй этажъ), нѣсколько русскихъ офицеровъ, три чина эстонской полиціи и арестовали ген. Юденича. Номеръ его опечатали, а самого генерала увезли въ полицію. Что тамъ произошло – не знаю, но потомъ ген. Юденича увезли на вокзалъ, посадили въ вагонъ и отправили по направленію къ Тапсу. Ляхницкій изображалъ изъ себя прокурора петроградскаго окружного суда (хотя всѣ чины сѣверо-западнаго правительства давно были уволены еще въ декабрѣ отъ своихъ должностей), который будто бы по долгу службы рѣшилъ арестовать преступнаго ген. Юденича, собиравшагося избѣгнуть законной отвѣтственности.
Вся махинація балаховцевъ была явно шита бѣлыми нитками, но наводило на странныя размышленія присутствіе при арестѣ и содѣйствіе эстонской полиціи, подчиненной, какъ всюду, министру внутреннихъ дѣлъ, каковымъ тогда состоялъ Геллатъ. По одной версіи, изъ за вмѣшательства союзниковъ (что потомъ оффиціально эстонцами опровергалось), по другой, по непосредственному распоряженію правительства, Юденича вернули изъ Тапса назадъ, и онъ переселился въ помѣщеніе англійской военной миссіи. При освобожденіи онъ выдалъ ордера на 227 тысячъ фунт. стерл., 1/4 милліона финскихъ марокъ, 110—115 милл. эст. марокъ, оставляемыхъ имъ на ликвидацію арміи, и подписку объ отсутствіи у него другихъ суммъ, могущихъ пойти на обезпеченіе чиновъ сѣв.-зап. арміи. Обо всемъ этомъ было тогда же напечатано въ ревельскихъ газетахъ.
Я узналъ объ арестѣ ген. Юденича послѣднимъ, на другой день, отъ повѣреннаго ген. Юденича г. Агапова. Я немедленно телефонировалъ Геллату и тотъ отвѣтилъ мнѣ, что это дѣло Балаховича, онъ хотѣлъ его арестовать, но тотъ скрылся. Тогда я отправился къ эст. министру иностр. дѣлъ и выразилъ ему изумленіе, какъ могла участвовать въ этомъ дѣлѣ эстонская полиція, и спросилъ, когда будетъ освобожденъ ген. Юденичъ. Министръ отвѣтилъ, что Юденичъ уже свободенъ, эстонскія власти тутъ не при чемъ и виновные въ арестѣ понесутъ наказаніе. По возвращеніи домой, я засталъ у себя сотрудника «Своб. Россіи», которому и передалъ о своемъ визитѣ и разговорѣ съ министромъ ин. дѣлъ. Онъ помѣстилъ интервью въ газетѣ. Ліанозову я телеграфировалъ подробно въ Парижъ немедленно же, но онъ узналъ объ инцидентѣ до полученія моей телеграммы и потому самъ телеграфировалъ мнѣ черезъ французскую миссію, чтобы я немедленно вступился за ген. Юденича. Въ отвѣтъ на это я сообщилъ ему, что генералъ уже свободенъ. И объ этой моей перепискѣ съ Ліанозовымъ появилось сообщеніе въ «Своб. Россіи». Привожу эти подробности исключительно потому, что позже на меня напали въ русской прессѣ и слѣва и справа. Балаховцы упрекали меня въ газетѣ «Жизнь» въ бездѣятельности, что я будто попустительствовалъ ген. Юденичу и даже заступился за него, а генеральскій поклонникъ, бывшій соціалистъ Алексинскій въ длинномъ интервью въ гельсингфорской газетѣ «Новая Русская Жизнь» обвинялъ меня въ томъ, что арестъ Юденича произошелъ по предварительному соглашенію между мной, Ивановымъ и Геллатомъ! Нелѣпѣе и вздорнѣе этого обвиненія придумать было нельзя. Если бы это происходило такъ, то балаховцы не метали бы противъ меня громовъ, а затѣмъ всякій, кто хоть немного былъ знакомъ съ нашимъ отношеніемъ къ г. Иванову, воздержался бы писать подобный вздоръ. Какъ ни желалъ я помочь покинутой арміи, я тѣмъ не менѣе очень возмутился арестомъ ген. Юденича, потому что вмѣшательство балаховцевъ всего менѣе гарантировало въ моихъ глазахъ судьбу имѣвшихся у ген. Юденича денегъ.
Заговоривъ объ Алексинскомъ, упомяну объ его визитѣ въ Ревель и размолвкѣ со мной. Онъ появился вскорѣ послѣ освобожденія ген. Юденича. Читатель помнитъ, что я въ свое время, не зная еще новыхъ взглядовъ этого дѣятеля, сильно поддерживалъ его кандидатуру въ члены сѣв-зап. правительства. Понятно, что какъ только онъ пріѣхалъ въ Ревель и зашелъ ко мнѣ, я встрѣтилъ его съ распростертыми объятіями. Исторія съ арестомъ генерала къ тому времени затихла. Черезъ 10 минутъ короткаго разговора съ Алексинскимъ я сразу почувствовалъ, что передо мной сидитъ чужой мнѣ по духу человѣкъ. Заговорили, естественно, о причинахъ катастрофы арміи, и я сталъ упрекать ген. Юденича въ вѣроломствѣ. Алексинскій вскипѣлъ и сталъ доказывать мнѣ, что Юденичъ – гордость Россіи, какъ Эрзерумскій герой, и что не его въ чемъ либо упрекать. Никакихъ логическихъ доводовъ онъ не слушалъ. Я, подавленный своей ошибкой въ Алексинскомъ, прекратилъ съ нимъ разговоръ. Черезъ сутки онъ снова зашелъ ко мнѣ вечеромъ. Снова возгорѣлся споръ о томъ же. По счастью, при бесѣдѣ присутствовалъ П. А. Богдановъ. Алексинскій просидѣлъ у меня часа четыре, и мы разстались прямо врагами. Весь споръ онъ велъ какъ-то по полицейски, цѣпляясь за отдѣльныя слова и вовсе не слушая сути моихъ доводовъ. Еще дня черезъ три онъ вмѣстѣ съ ген. Юденичемъ и Владиміровымъ укатилъ на автомобилѣ въ Латвію, а оттуда Юденичъ – заграницу. При отъѣздѣ, при участіи Алексинскаго, былъ заключенъ крайне невыгодный для чиновъ арміи договоръ съ эстонцами о леченіи нашихъ солдатъ, по которому эстонцы получили право на все имущество арміи и 50 тысячъ фунт. стерлинговъ, съ обязанностями весьма нетвердо очерченными. Въ Ригѣ, въ газетѣ «Сегодня», Алексинскій описалъ мои разговоры съ нимъ въ крайне тенденціозномъ видѣ и сослался на Богданова, какъ свидѣтеля. Я послалъ опроверженіе, которое письменно тутъ же внизу подтвердилъ и Богдановъ, но газета «Сегодня» не напечатала его. Копія опроверженія появилась лишь въ Ревелѣ, въ газетѣ «Своб. Рос».
Удовлетвореніе арміи ликвидаціонными деньгами происходило чрезвычайно хаотично. Кромѣ главной, въ Ревелѣ, на мѣстахъ существовали мѣстныя ликвидаціонныя комиссіи. Жалобъ отовсюду было видимо-невидимо. Съ одной стороны, нѣкоторые чины ухитрялись получить ликвидаціонныя по нѣскольку разъ, въ то время, какъ другіе вовсе ничего не получили. Съ другой стороны – ходили слухи, что въ самой центральной комиссіи неблагополучно съ деньгами. Однажды въ Ревелѣ, около помѣщенія комиссіи, произошелъ форменный скандалъ, а предсѣдателя комиссіи графа Палена эстонцы даже арестовали на короткое время. Генералъ Глазенаппъ обратился ко мнѣ, предлагая войти въ составъ главной комиссіи. Чувствуя, что одинъ я тамъ буду, какъ въ дремучемъ лѣсу, я поставилъ условіемъ, чтобы былъ приглашенъ рядъ другихъ отвѣтственныхъ дѣятелей, указавъ организаціи, отъ которыхъ слѣдовало бы имѣть представителей въ комиссіи. Но условіе мое не было принято, и я счелъ дальнѣйшіе разговоры излишними. О вхожденіи въ комиссію меня еще разъ просила депутація изъ офицеровъ. Кого они представляли – не помню. Я объяснилъ имъ, почему я не иду въ комиссію, и они больше не настаивали.
Въ гражданской ликвидаціонной комиссіи я былъ предсѣдателемъ, а Евсѣевъ и Пѣшковъ членами, при постоянномъ участіи контроля и представителей отъ служащихъ. Кассою завѣдывалъ чиновникъ финансоваго отдѣла бывшаго министерства финансовъ, а мы писали только ордера. Деньги хранились до конца въ казначействѣ. Наша касса оказалась крайне бѣдна средствами. Юденичъ не далъ ни копейки. Въ то время, какъ военная ликвидаціонная комиссія располагала нѣсколькими сотнями милліоновъ эстонскихъ марокъ, гражданская комиссія имѣла въ продолженіе всего періода едва три милліона, да и то пришлось, въ концѣ концовъ, пустить въ распродажу обстановку моей консульской канцеляріи. Весьма скромно, но удалось разсчитаться почти со всѣми служащими гражданскаго вѣдомства.
16 февраля эстонцы заключили миръ съ совѣтской Россіей. На другой же день эстонское министерство иностранныхъ дѣлъ извѣстило меня, что мои полномочія, какъ дипломатическаго агента при Республикѣ, считаются съ сего числа прекращенными. Вскорѣ послѣ этого я получилъ изъ министерства копію мирнаго договора, по коему существованіе такихъ господъ, какъ я, впредь считалось недопустимымъ въ Эстоніи.
Предстояло озаботиться о дальнѣйшей охранѣ уже чисто эмигрантскихъ русскихъ интересовъ. За эту задачу взялись псковскіе кооператоры, во главѣ съ П. А. Богдановымъ. Образовалось, съ разрѣшенія эстонцевъ, организаціонное бюро по созыву русскаго съѣзда въ Ревелѣ, куда вошелъ и я. Эстонскія власти отнеслись въ высшей степени внимательно къ съѣзду, отвели большое помѣщеніе для него, безпрепятственно выдали делегатамъ съ мѣстъ пропуски въ Ревель[216]216
По соображеніямъ санитарнымъ (боязнь занесенія тифозной эпидеміи) и квартирнымъ, русскимъ въѣздъ въ Ревель позволялся только по особымъ разрѣшеніямъ. Изъ тифозныхъ районовъ делегаты могли пріѣхать, только выдержавъ карантинъ.
[Закрыть].
Въ любителяхъ самопроизвольно устраивать эмигрантскую судьбу не было недостатка и въ Эстоніи, но иниціаторы съѣзда рѣшили создать эмигрантскую организацію на болѣе или менѣе демократическихъ началахъ, предоставивъ наряду съ этимъ всѣмъ патентованнымъ общественнымъ работникамъ право участія на съѣздѣ персонально. Такимъ путемъ достигались двѣ задачи: съѣздъ имѣлъ широкое представительство съ мѣстъ и не затерта была общественно-работающая интеллигенція. Остатки арміи участвовали въ выборѣ делегатовъ съ мѣстъ наравнѣ съ прочими бѣженцами.
Приведу нѣсколько выдержекъ изъ постановленія организаціоннаго бюро, ближе иллюстрирующаго конструкцію съѣзда:
П. 4. – Каждая общественная или профессіональная группа русскихъ гражданъ въ Эстіи вправѣ делегировать своихъ представителей на съѣздъ; п. 5 – каждая группа, имѣющая въ своемъ составѣ не менѣе 35 лицъ, посылаетъ одного представителя, избираемаго общимъ собраніемъ группы. Если въ составѣ группы болѣе 200 членовъ, то на каждые 200 членовъ, участвовавшихъ на общемъ собраніи для выбора представителя на съѣздъ, избирается еще по одному делегату; п. 11 – на русскомъ съѣздѣ имѣютъ право участвовать всѣ общественные дѣятели, подъ каковыми слѣдуетъ понимать лицъ, работавшихъ по выборамъ въ земскихъ, городскихъ, кооперативныхъ, профессіональныхъ и другихъ демократическихъ организаціяхъ; п. 13.– повѣрка правъ на участіе въ работахъ съѣзда, какъ выборныхъ отъ организацій и группъ, такъ равно и персонально участвующихъ общественныхъ дѣятелей, производится самимъ съѣздомъ. Программа съѣзда: 1) борьба съ тифомъ, 2) бѣженсккій вопросъ, 3) экономическое положеніе бывшихъ чиновъ с.-з. арміи въ связи съ ея ликвидаціей, 4) правовое положеніе русскихъ въ Эстіи, 5) вопросы культурно-просвѣтительнаго характера, 6) вопросъ о созданіи русскаго комитета, 7) текущія дѣла.
Подъ понятіе общественной или профессіональной группы подходили многочисленныя мѣста разселенія бѣженцевъ и солдатъ, обычно въ чисто хозяйственныхъ цѣляхъ имѣвшихъ всюду элементарную общественную организацію или трудовую артель.
Съѣздъ состоялся 22 марта 1920 года, засѣдалъ въ большомъ помѣщеніи частнаго театра, продолжался 10 дней и на немъ присутствовало до 180 делегатовъ. Цѣлый парламентъ. Выборные были со всѣхъ угловъ Эстоніи. При содѣйствіи мѣстнаго русскаго юридическаго общества, подъ предсѣдательствомъ И. М. Тютрюмова, былъ выработанъ «уставъ русскаго комитета эмигрантовъ въ Эстоніи» и принятъ съѣздомъ, далѣе выбраны были члены центральнаго органа и всесторонне обсужденъ вопросъ объ экономическомъ и правовомъ положеніи бѣженцевъ. Вокругъ вопроса о военно-ликвидаціонной комиссіи порой разгорались очень страстныя пренія, для ревизіи ея дѣлъ съѣздъ выбралъ особую ревизіонно-контрольную комиссію. При попыткѣ сторонниковъ ген. Юденича сдѣлать вылазку противъ присутствовавшихъ на съѣздѣ членовъ бывшаго сѣверо-западнаго правительства, одинъ изъ насъ немедленно же заявилъ о нашей готовности дать полный отчетъ съѣзду, чтобы съѣздъ самъ могъ судить, кто повиненъ былъ въ катастрофѣ бѣлаго дѣла. Огромное большинство съѣзда сочло это излишнимъ и потомъ выбрало въ центральный эмигрантскій комитетъ тѣхъ изъ бывшихъ членовъ правительства, которые выставили свою кандидатуру на выборахъ. Не провалился ни одинъ.
Уставъ комитета судебнымъ порядкомъ провели черезъ судъ. Комитетъ сталъ законнымъ юридическимъ лицомъ и съ тѣхъ поръ существуетъ и понынѣ, снискавъ себѣ уваженіе и у иностранныхъ благотворителей и у эстонцевъ и принеся за свое трехлѣтнее существованіе много пользы и добра широкой бѣженской массѣ.
Всю уцѣлѣвшую армію и гражданскихъ бѣженцевъ эстонцы слили въ одну массу и въ 1920 году заняли на лѣсныхъ и торфяныхъ работахъ.
На первыхъ порахъ круто пришлось нашимъ соотечественникамъ на этихъ работахъ. Согласно принятаго эстонскимъ учредительнымъ собраніемъ закона 2-го марта 1920 года, трудъ бѣженцевъ оказался принудительнымъ и необычайно тяжелымъ, а фактически сложившіеся полицейско-хозяйственные порядки на работахъ лишили бѣженцевъ свободы передвиженія въ предѣлахъ отведеннаго имъ района. Чтобы не быть голословнымъ приведу нѣсколько статей этого закона.
§ 1. Для заготовленія необходимаго минимума топлива и матеріала для вывоза правительство республики вправѣ въ теченіе 1920 года призвать на принудительныя работы 15.000 человѣкъ. § 3. Призыву подлежать всѣ трудоспособные мужчины отъ 18 до 50 лѣтъ. Въ первую очередь призываются лица безъ опредѣленныхъ занятій. Отъ призыва на работу могутъ быть освобождаемы мужчины, которые расходуютъ всю свою рабочую силу, занимаясь въ своемъ или чужомъ хозяйствѣ, въ земледѣліи, ремеслахъ, промышленности или торговлѣ, государственные служащіе и служащіе самоуправленій, а также лица фактически занятые интеллигентнымъ трудомъ, какъ врачи, адвокаты, инженеры и т. п. § 4. Срокъ принудительныхъ работъ исчисляется въ 2 мѣсяца или соотвѣтствующимъ количествомъ выполненной работы. § 6. Принудительныя работы обязательны для всѣхъ мужчинъ въ предѣлахъ Эстонской Республики, независимо отъ подданства. § 7. Неявившіеся на лѣсныя работы подвергаются аресту или заключенію въ тюрьмѣ до 1 года, или штрафу до 100.000 марокъ, при чемъ арестъ и заключеніе могутъ совмѣщаться съ денежнымъ штрафомъ. Кромѣ того виновные отправляются на лѣсныя работы принудительно. § 5. Находящимся на принудительныхъ работахъ выдается солдатскій паекъ по интендантскимъ цѣнамъ. Вознагражденіе производится по системѣ сдѣльной оплаты, принимая во вниманіе мѣстныя условія почвы и лѣса, по соглашенію между центральнымъ комитетомъ по топливу и комиссаромъ труда. Въ примѣчаніи къ § 1 говорится, что къ лѣснымъ работамъ приравнивается рѣзка торфа и ломка сланца. (Курсивъ вездѣ мой.)
Особенностями вышеприведеннаго обязательнаго постановленія являлись: 1) указаніе категоріи лицъ, подлежащихъ призыву на лѣсныя работы, 2) точное опредѣленіе количества призываемыхъ цифрой въ 15.000 человѣкъ и 3) умолчаніе о системѣ лѣсныхъ работъ (въ § 5 говорится только, что система оплаты труда сдѣльная). Если принять во вниманіе, что изданіе закона совпало съ расформированіемъ арміи, сравнить общее число призываемыхъ съ числомъ бѣженцевъ и, что бѣженцы вообще все «лица безъ опредѣленныхъ занятій», то обязанность для нихъ заниматься именно на лѣсныхъ работахъ вытекала изъ закона сама собой. «Иностранцами», конечно, оказались одни русскіе бѣженцы.
Во что вылилось примѣненіе закона въ отдѣльныхъ случаяхъ, сошлюсь на самого министра внутреннихъ дѣлъ Геллата, который однажды, въ разговорѣ со мной, самъ возмущался безобразной эксплуатаціей подрядчиками нашихъ солдатъ, въ чемъ ему лично пришлось убѣдиться при объѣздѣ юрьевскаго района.
Нечего и говорить, что съ организаціей комитета на эту сторону положенія русскихъ бѣженцевъ было обращено самое серьезное вниманіе, Комитетъ произвелъ статистическое обслѣдованіе работъ. Статистическій матеріалъ былъ обработанъ членомъ комитета, бывшимъ министромъ И. Е. Евсѣевымъ, и представленъ на усмотрѣніе Комитета. «Умолчаніе о системѣ работъ, говорилъ въ своей запискѣ Евсѣевъ, привело на практикѣ къ той уродливой съ правовой точки зрѣнія формѣ взаимоотношеній, что мобилизованная на основаніи закона публичнаго права рабочая сила поступала въ распоряженіе частных подрядчиковъ, для которыхъ извлеченіе предпринимательской выгоды являлось цѣлью всякаго договора».
Весь законъ въ результатѣ выродился въ систему чисто-кабальныхъ отношеній, сильно возмутилъ русское общественное мнѣніе и по справедливости былъ прозванъ «каторжнымъ закономъ». Вмѣшательство Комитета сильно смягчило дальнѣйшую страду несчастныхъ солдатъ, такъ что впослѣдствіи картина тяжелаго труда на лѣсныхъ работахъ не представляла уже той каторги, которой этотъ трудъ являлся несомнѣнно на первыхъ порахъ.
Таковы были итоги борьбы безславно погибшей сѣверо-западной арміи, когда въ началѣ января 1921 года я оставилъ Эстонію и уѣхалъ заграницу.
Да, въ политикѣ дѣйствительно нѣтъ мѣста сантиментамъ! – Геллатъ былъ правъ.