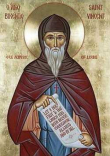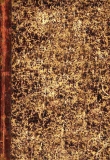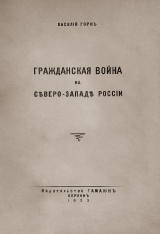
Текст книги "Гражданская война на сѣверо-западѣ Россіи"
Автор книги: Василий Горн
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 42 страниц)
Глава XV.
Начало наступленія осенней кампаніи. Стратегическое положеніе красныхъ и бѣлыхъ къ началу октября 1919 г. Ген. Юденичъ и колебанія въ правительствѣ. Отношеніе къ походу эстонской прессы и новый нажимъ со стороны эстонскаго министра внутр. дѣлъ. Силы сѣв.-зап. арміи и ея противника. Тренія среди генералитета. Энтузіазмъ арміи. Стратегическая картина похода. Жизнь тыла – погоня за наживой. Хищенія интендантства. Дискредитированіе правительства со стороны ген. Юденича. Слѣпое ликованіе «гельсингфорсцевъ». Моя командировка для переговоровъ съ ген. Юденичемъ. Финны и ген. Гулевичъ. Рапортъ о переговорахъ съ ген. Юденичемъ. Совѣтчики ген. Юденича и проэктъ «петроградскаго правительства». Обсужденіе бесѣдъ съ ген. Юденичемъ въ частномъ совѣщаніи правительства. «Мыши кота хоронили». Въ ген.-губернаторствѣ ген. Глазенаппа. Разговоръ съ ген. Лайдонеромъ о помощи сѣв.-зап. арміи. Наши переговоры въ Гельсингфорсѣ съ финскими парламентаріями и представителями правительства о помощи арміи. Оффиціальное обращеніе къ Финляндіи. Встрѣча съ старой бюрократіей въ Гельсингфорсѣ. Впечатлѣніе отъ Финскаго сейма. Объясненіе съ с.-д. фракціей сейма. Раутъ, данный сѣв.-зап. правительствомъ въ Гельсингфорсѣ, и его провалъ. Оффиціальный отказъ Финляндіи. Письмо ген. Маннергейма. Запоздалое признаніе Финляндіи адм. Колчакомъ. Провалъ раута и вел. кн. Кириллъ. Эпизодъ съ ген. Васильковскимъ. Возвращеніе въ Ревель, агонія арміи и правительства.
Конецъ сентября. Снабженіе и снаряженіе доставлено на фронтъ[179]179
О томъ, что армія предъ наступленіемъ была достаточно вооружена и снабжена, признаетъ на стр. 97 своихъ «Воспоминаній» и ген. Родзянко.
[Закрыть]. Политическая ситуація такова, что сѣв.-зап. армія должна наступать.
Эстонія – наши тылы – еле-еле удерживается отъ мира съ большевиками; артія «за миръ» растетъ въ ней съ каждымъ днемъ. Союзники доставили послѣднее снабженіе, прямо заявивъ, что больше для сѣверо-западнаго фронта нихъ ничего нѣтъ. Взаимодѣйствіе съ другими бѣлыми арміями требуетъ пойти въ контактъ съ развивающимися наступленіями Колчака и Деникина.
Положеніе большевиковъ почти критическое.
«Если вы возьмете карту и прослѣдите по послѣднимъ телеграммамъ о положеніи на всѣхъ большевистскихъ фронтахъ, – писалъ тогда С. Г. Ліанозовъ, вы увидите ясно, что большевики въ капканѣ и имъ изъ него не выбраться, они сами вырыли себѣ могилу; народъ русскій, а вслѣдъ за нимъ и чужеземные, раскусили тѣхъ, кто имъ обѣщалъ насадить земной рай, а насадилъ разбои, убійства, грабежи, голодъ и разрушеніе – этимъ и объясняется успѣхъ освободительныхъ армій и неуклонное съуженіе того кольца, которое соберетъ, въ концѣ концовъ, большевистскую армію, какъ бы въ мѣшокъ, и позволитъ ее ликвидировать[180]180
«Своб. Рос.», 30 сент. 1919 г., № 11.
[Закрыть].»
С. Г. Ліанозовъ нисколько не преувеличивалъ дѣйствительной картины: на сѣверо-западѣ поляки заняли города Дисну и Двинскъ, на западѣ Деникинъ взялъ Черниговъ, Кіевъ, на сѣверѣ его войска взяли уже Курскъ, а на востокѣ нанесли огромное пораженіе большевикамъ подъ Царицыномъ. Началъ наступленіе по всему фронту Колчакъ и уже крѣпко потрепалъ большевиковъ подъ Курганомъ. Сѣверная армія ген. Миллера и англійскіе отряды продвинулись къ Петрозаводску.
Какъ сообщало радіо изъ Москвы отъ 24 сентября, – «Московскій совѣтъ постановилъ, въ виду ожидаемаго нападенія бѣлыхъ войскъ, объявить городъ на осадномъ положеніи, отправить рабочіе батальоны на подкрѣпленіе арміи и ввѣрить оборону Москвы Каменеву, Дзержинскому и Загорскому».
Троцкій обратился къ народу съ воззваніемъ о помощи.
Всѣ, близко наблюдавшіе тогда картину развертывавшихся событій, поголовно были убѣждены, что большевикамъ пришелъ конецъ. За все время господства ихъ въ Россіи это былъ несомнѣнно самый тяжелый и опасный для нихъ моментъ.
Получая въ то время по радіо вѣсти объ успѣхахъ бѣлаго движенія, мы помѣщали сводки въ нашемъ полуоффиціозѣ, и, такимъ образомъ, большая часть арміи имѣла достаточное представленіе о положеніи бѣлыхъ и красныхъ во всей Россіи. Успѣхи на другихъ фронтахъ какъ бы электризировали нашу армію и самимъ солдатамъ стало казаться, что дѣло идетъ къ близкой развязкѣ. Это настроеніе арміи къ началу октября мѣсяца выявилось настолько опредѣленно, что «въ строю, по словамъ ген. Ярославцева, начали раздаваться голоса солдатъ и офицеровъ о необходимости новаго движенія впередъ на Петроградъ». Къ внѣшней необходимости наступленія присоединялась внутренняя активная воля самой арміи, наступленіе становилось необходимымъ и психологически. И, повинуясь тысячѣ причинъ, армія вновь двинулась къ сѣверной столицѣ.
Самъ ген. Юденичъ долго не рѣшался на активные шаги арміи. Совершенно невѣрно утвержденіе г. Кирдецова, что между ген. Юденичемъ и членами правительства не было обсужденій о началѣ наступленія и что вообще въ этомъ вопросѣ генералъ не считался съ правительствомъ. Наоборотъ, обмѣнъ мнѣній происходилъ неоднократно, но не въ открытомъ засѣданіи, а частно. Сильный нажимъ на генерала дѣлали С. Г. Ліанозовъ и М. С. Маргуліесъ, всячески побуждавшіе Юденича скорѣе перейти къ активнымъ дѣйствіямъ. Наоборотъ, другіе коллеги съ трепетомъ думали объ этомъ моментѣ и считали, что нужно «перезимовать и подкопить силы», иначе наша маленькая армія, даже взявъ Петроградъ, утонетъ въ немъ, ибо въ мирное время въ столицѣ городовыхъ было больше, чѣмъ во всей нашей арміи солдатъ.
– «А объективная обстановка? – эстонцы, ихъ тяга къ миру?» – говорилъ М. С. Маргуліесъ. – «А затѣмъ, неужели вы думаете, что союзниковъ надолго хватитъ и что даже «перезимовавъ», какъ говорите вы, мы не окажемся весной снова безъ сапогъ, обмундированія и продовольствія?»
Трудно было спорить съ М. С.: общая политическая ситуація повелитель-;о требовала наступленія, моментъ и намъ казался неповторимымъ и потому, въ концѣ концовъ, никто изъ насъ открыто не рѣшился возставать противъ наступленія. Много позже военный коллега ген. Юденича, к.-адм. В. К. Пилкинъ, напомнилъ мнѣ тогдашнее настроеніе. «Правительство не только не было противъ наступленія, оно, наоборотъ, настойчиво требовало отъ генерала Юденича наступленія» – такъ приблизительно говорилъ мнѣ онъ. И это была сущая правда. Обстоятельства не оставляли иного выхода.
Наканунѣ наступленія ген. Юденичъ прислалъ на имя предсѣдателя сов. министровъ письмо, содержаніе котораго не оставляло никакого сомнѣнія, что армія не сегодня-завтра откроетъ наступленіе по всему фронту.
«Я заканчиваю подготовку къ серьезной боевой операціи» – писалъ ген. Юденичъ – «все мое вниманіе обращено на фронтъ и ближайшій тылъ, въ Ревелѣ быть скоро не предполагаю, а если и пріѣду, то на самое короткое время. Помощникомъ своимъ по званію военнаго министра я назначилъ генерала Кондырева, ему подчинена и канцелярія военнаго министра, прошу Васъ провести въ совѣтѣ министровъ, чтобы на время моего отсутствія, онъ бы, съ правомъ голоса, замѣнялъ меня въ совѣтѣ министровъ. Я принялъ на себя командованіе С.-З. арміей. Генерала Родзянко назначилъ помощникомъ своимъ по званію Главнокомандующаго С.-З. фронтомъ, о чемъ отдалъ соотвѣтствующій приказъ. Прошу Васъ довести объ этой перемѣнѣ до свѣдѣнія правительства»…
Приказъ о наступленіи сначала, конечно, держался въ секретѣ. Формально оно началось 4 октября, фактомъ стало 7 октября, когда въ отвѣтъ на нажимъ въ псковскомъ направленіи, сѣв.-зап. армія на-голову разбила 19-ю красную дивизію. Дальше наступленіе покатилось уже безъ удержу.
Эстонцы разно реагировали на начавшееся наступленіе. Интервенціонисты старались помочь намъ, ихъ противники – вредить, пресса отзывалась въ зависимости отъ той партіи, къ которой она принадлежала. Буржуазнолиберальная «Таллина Театая» не возражала противъ поддержки, но совѣтовала своему правительству вести политику прежде всего выгодную Эстоніи, рекомендовала озаботиться насчетъ компенсацій.
«Въ псковскомъ направленіи и за Нарвой наши войска, совмѣстно съ войсками Сѣверо-Западной Россіи, начали наступать. Уже давно говорили о походѣ на Петроградъ… Но едва ли хватитъ силъ у русскихъ войскъ для наступленія на линію Петроградъ – Новгородъ. Наша поддержка при достиженіи этой дальней цѣли не оказалась бы безполезной. Теперь, когда мы узнаемъ изъ штаба Главнокомандующаго, что наши войска, совмѣстно съ русскими, начали наступать по направленію Ямбурга, предъ Псковомъ и въ раіонѣ Пыталова, возникаетъ вопросъ: это ли начало дальняго похода. Мы не требуемъ на это открытаго отвѣта, но надѣемся, что правительство вмѣстѣ съ военнымъ начальствомъ не согласится на новый большой походъ… изъ за чечевичной похлебки или изъ за того, чтобы продемонстрировать храбрость нашихъ войскъ. Наша армія достаточно показала свою силу и ловкость военнаго начальства, весь міръ дивился намъ. Но признаніе нашей самостоятельности не двинулось съ мѣста и денежный курсъ все падаетъ… Если мы приносимъ новыя жертвы, то мы должны быть увѣрены въ томъ, что эти жертвы не приносятся ради другихъ..»[181]181
«Теллина Театая», № 222 отъ 13 окт. 1919 г., передовая статья.
[Закрыть].
Министръ внутреннихъ дѣлъ г. Геллатъ, считавшій «жертвы» опредѣленно безцѣльными, попытался снова оживить квартирный вопросъ. На этотъ разъ онъ не говорилъ о переселеніи правительства, но въ Ревелѣ сталъ тѣснить служащихъ правительства, предлагая имъ очистить квартиры, а въ Нарвѣ упорно настаивать на выселеніи части нашихъ военныхъ учрежденій съ лѣваго берега рѣки Наровы на правый. Изъ трехъ бумагъ отъ 9, 12 и 17 октября, полученныхъ по этому – поводу, видно было, что г. Геллатъ буквально не давалъ покоя нашимъ должностнымъ лицамъ, тревожа ихъ въ самый жаркій моментъ кампаніи, когда наши войска взяли Ямбургъ, Лугу и подходили къ Гатчинѣ. Телефонограмма отъ 12 октября, послѣдовавшая на другой день послѣ взятія Ямбурга, была подана самимъ ген. Юденичемъ, просившимъ «выхлопотать у эстонскаго правительства отсрочку», такъ какъ «по закрѣпленіи взятаго гор. Ямбурга, нѣсколько учрежденій и частей будутъ переведены въ этотъ городъ». Врядъ ли у ген. Юденича въ то время было достаточно времени, чтобы возиться съ квартирными дѣлами, – а вотъ приходилось!
Всѣ атаки г. Геллата такъ или иначе вновь удалось отбить, но среди служащихъ и нашего военнаго элемента раздраженіе противъ эстонцевъ снова усилилось. Выживаніе изъ квартиръ въ самый разгаръ похода, въ которомъ «совмѣстно» участвовали эстонскія и русскія войска, естественно казалось нелѣпымъ и безтактнымъ.
Каковы же были силы нашей арміи?
Онѣ довольно точно опредѣлены въ «Воспоминаніяхъ» ген. Родзянко и въ «Запискахъ бѣлаго офицера»[182]182
«Октябрьское наступленіе на Петроградъ и причины неудачи похода» – Записки бѣлаго офицера. Финляндія 1920. Авторъ принималъ весьма активное участіе въ походѣ.
[Закрыть]. Въ общемъ, въ моментъ октябрьскаго наступленія, въ арміи было 26 пѣхотныхъ полковъ, 2 кавалерійскихъ полка, 2 отдѣльныхъ баталіона, дессантный морской отрядъ, а всего 17.800 штыковъ, 700 сабель, 57 орудій, 4 бронепоѣзда («Адмиралъ Колчакъ», «Адмиралъ Эссенъ», «Талабчанинъ», «Псковитянинъ»), 6 англійскихъ танковъ и 2–4 броневика. Организація арміи не отличалась особенной стройностью. Въ первый корпусъ, численностью 7300 боевыхъ единицъ, входили 2-я, 3-я, 5-я дивизіи и двѣ отдѣльныхъ воинскихъ части; во второй корпусъ, численностью 6480 чел., – 4-я дивизія, отдѣльная бригада и конный полкъ Балаховича (брата «атамана»); 1-я дивизія, численностью 3250 единицъ, вовсе не входила въ составъ корпусовъ, затѣмъ 2230 боевыхъ единицъ – два запасныхъ полка, танковый баталіонъ и дессантный морской отрядъ (флота не было) не входили ни въ составъ дивизій, ни корпусовъ. Итого, такъ сказать, на отлетѣ находилось 5480 боевыхъ единицъ или ровно одна треть арміи. Если танковый баталіонъ и дессантный отрядъ имѣли еще общеспеціальное значеніе для всей арміи, то почему 1-ая дивизія и два запасныхъ полка не умѣстились внутри цѣлыхъ двухъ корпусовъ? Дѣло объяснялось довольно просто: между отдѣльными генералами шло сильное соперничество и части внѣ установленной армейской оранизаціи оказались подчиненными бывшимъ командующимъ той же арміей генераламъ Нефъ и Дзерожинскому – предшественникамъ ген. Родзянко на его посту. Вчерашнихъ главнокомандующихъ неудобно было поставить въ положеніе подчиненныхъ корпусному командиру,
Но чувство мѣры не позволяло раздуть маленькую армію до четырехъ корпусовъ, создали поэтому промежуточное для нихъ положеніе.
Противостоявшая намъ 7-я совѣтская армія къ началу наступленія немногимъ по численности превосходила нашу армію. Она составляла 34 пѣхотныхъ полка, 2 отдѣльныхъ баталіона, 9 отрядовъ (преимущественно макросы и коммунисты), 1 кавалерійскій дивизіонъ, 1 конный эскадронъ, а всего 21.500 штыковъ, 950 сабель, 60 орудій и пушекъ, 3 бронепоѣзда «Стенька Разинъ», «Керенскій», «Троцкій») и 4 броневика. Къ концу кампаніи это соотношеніе рѣзко измѣнилось: послѣ перебросокъ съ Москвы совѣтская армія увеличилась въ 3–4 раза противъ нашей. Главное наше преимущество заключалось въ активности настроенія арміи и спаянности офицеровъ и солдатъ. Тѣ и другіе во время этой кампаніи обнаружили невѣроятную выносливость и настойчивость боевой энергіи.
Къ сожалѣнію, нельзя того же сказать про спаянность внутри нашего генералитета. Передъ самымъ наступленіемъ разыгралась тяжелая сцена между генералами Родзянко и Юденичемъ. Она подробно описана ген. Родзянко въ его книгѣ и стоитъ того, чтобы привести отсюда нѣсколько выдержекъ.
«Въ первыхъ числахъ октября я вернулся съ фронта въ Нарву меня вновь … вызвалъ къ себѣ Главнокомандующій и заявилъ мнѣ, что онъ самъ непосредственно желаетъ командовать Сѣверо-Западной арміей, а меня назначаетъ своимъ помощникомъ… Въ первую минуту извѣстіе это своей неожиданностью меня совершенно ошеломило: операція уже началась, планъ ея былъ разработанъ мною, и только я одинъ зналъ всѣ детали дѣла, а потому я доложилъ генералу Юденичу, что если онъ мною недоволенъ, то я охотно сдамъ ему командованіе арміей, но лишь по окончаніи начатой мной операціи, а до этого же считаю перемѣну высшаго командованія совершенно невозможной и пагубной для русскаго дѣла. Я убѣждалъ его отмѣнить свое рѣшеніе, но на всѣ мои доводы ген. Юденичъ отвѣтилъ отказомъ… На вопросъ же мой, не доволенъ онъ чѣмъ нибудь въ моемъ командованіи, онъ отвѣтилъ, что, наоборотъ, очень цѣнитъ мою работу і энергію. Наконецъ, возмущенный, я напомнилъ ему, что Сѣверо-Западная армія формирована мной, что я пользуюсь общимъ довѣріемъ, какъ среди высшихъ начальниковъ, такъ и среди офицеровъ и солдатъ, и что въ гражданской войнѣ болѣе, чѣмъ въ какой либо другой, довѣріе. является залогомъ успѣха, поэтому я считаю преступленіемъ противъ общаго дѣла и арміи отставлять меня отъ командованія въ настоящій моментъ. На это ген. Юденичъ сказалъ мнѣ буквально слѣдующее: «Вы дѣйствительно организовали Сѣверо-Западную армію, но я добылъ для нея деньги»…
Споръ перенесли на «совѣщаніе высшихъ начальниковъ». Ген. Родзянко пришелъ къ заключенію, что упорство ген. Юденича, – главнымъ образомъ вопросъ военнаго честолюбія:
– «Вѣдь если бы… операція удалась… то честь занятія и спасенія Петрограда досталась бы мнѣ, чего честолюбіе ген. Юденича и его штаба не могло допустить.»
Нелюдимый, угрюмый, малообщительный ген. Юденичъ не внушалъ къ себѣ особыхъ симпатій въ военной средѣ. Единственный его капиталъ – слава Эрзерумскаго героя – быстро потерялъ всякую цѣну, потому что добиться отъ генерала какого-нибудь совѣта или мнѣнія по военнымъ вопросамъ было совершенно невозможно. Онъ молчалъ или отдѣлывался малозначущими фразами. Кромѣ того, для германофиловъ ген. Родзянко вообще былъ ближе, чѣмъ неопредѣленный ген. Юденичъ. Въ результатѣ «совѣщаніе» высказалось за ген. Родзянко и не въ пользу ген. Юденича. Отъ имени генералитета командующій первымъ стрѣлковымъ корпусомъ гр. Паленъ сталъ уговаривать ген. Юденича отказаться отъ его распоряженія о ген. Родзянко. Юденичъ вновь отвѣтилъ категорическимъ отказомъ, ссылаясь на то, что въ тяжелые моменты фронта ген. Родзянко самъ неоднократно просилъ освободить его отъ обязанностей командующаго арміей. Страсти закипѣли, ген. Родзянко, по обыкновенію, «вспылилъ», сталъ упрекать ген. Юденича въ интригахъ.
«Я сказалъ, – говоритъ ген. Родзянко, – что еще до пріѣзда ген. Юденича въ Эстонію я прекрасно зналъ, что онъ относится отрицательно ко мнѣ, и ко всѣмъ моимъ сотрудникамъ, и даже къ самой арміи, называя меня и моихъ помощниковъ авантюристами и «ревельскими разбойниками», а все дѣло формированія «авантюрой»… Когда я кончилъ, ген. Юденичъ сказалъ: «намъ, кажется, больше не о чемъ говорить?» Послѣ этого я всталъ и ушелъ въ свой штабъ…
Нѣсколько успокоившись, я рѣшилъ, что въ такую минуту я не имѣю права ослушаться приказанія главнокомандующаго, какъ бы оно ни было безсмысленно, оскорбительно для меня и даже вредно для дѣла… Я сообщилъ моему штабу и старшимъ начальникамъ о своемъ согласіи подчиниться рѣшенію ген. Юденича… Я, конечно, могъ ослушаться и даже арестовать ген. Юденича, тѣмъ болѣе, что высшіе начальники всѣ были на моей сторонѣ, но принципіально я не могъ создать такого примѣра для своей арміи»[183]183
Стр. 105—106 «Воспоминаній» ген. Родзянко.
[Закрыть].
Неспеціалисту трудно судить, кто изъ двухъ генераловъ былъ правъ тогда, но эти распри еще больше поколебали положеніе ген. Юденича въ арміи и дали поводъ проявить своеволіе тѣмъ, кто, какъ ген. Вѣтренко, вообще былъ настроенъ нѣсколько анархически. Страха, который чувствовали гг. генералы въ царской арміи, ген. Юденичъ не могъ внушить, а внѣ этого они явно диссонировали между собой. Впрочемъ, нельзя не согласиться съ ген. Родзянко, что амплуа помощника главнокомандующаго въ такой крошечной арміи, какъ наша, дѣлало его положеніе дѣйствительно смѣшнымъ. Слѣдовало или вовсе съ нимъ разстаться (если была къ тому физическая возможность), или позолотить поднесенную пилюлю какъ нибудь поостроумнѣе, а не создавать дутыя бутафорскія должности.
Въ связи съ этимъ случаемъ, припоминаю другой, разсказанный мнѣ бывшимъ начальникомъ снабженія арміи полковникомъ Поляковымъ. Послѣ передачи должности своему преемнику, ген. Янову, полк. Поляковъ былъ прикомандированъ къ главному штабу. Тамъ, по его словамъ, занимались главнымъ образомъ интригами, а потому онъ ушелъ оттуда. Тогда ген. Юденичъ предложилъ ему занять постъ инспектора авіаціи.
«Отчего вы, ваше превосходительство, не предложите мнѣ занять мѣсто инспектора луннаго свѣта?» – спросилъ Поляковъ.
«Это еще что?» – изумился ген. Юденичъ.
«Да лунный свѣтъ все-таки существуетъ, а авіаціи здѣсь никакой нѣтъ» – отвѣтилъ взбѣшенному генералу полк. Поляковъ.
Сѣверо-западная армія не имѣла аэроплановъ.
Опасаясь эксцессовъ во время наступленія, главное командованіе откровенно признало нѣкоторыя безобразія чиновъ арміи по отношенію къ населенію, совершенныя въ періодъ предшествующій этому наступленію, и издало 26 сентября за № 232 особый приказъ, въ которомъ строго запрещало всякія самоуправства.
«Всѣ бѣлыя войска – писалъ въ приказѣ ген. Родзянко – сражающіяся противъ большевиковъ, должны неукоснительно имѣть въ виду, что конечной цѣлью ихъ стремленій является насажденіе въ странѣ порядка и законности. Поставив цѣлью своей дѣятельности такія задачи, бѣлыя войска должны проводить ихъ въ жизнь, а самымъ лучшимъ способомъ такого проведенія въ жизнь столь святыхъ задачъ, какъ водвореніе порядка и законности, можетъ быть ничто иное, какъ собственный примѣръ. Между тѣмъ до меня доходятъ свѣдѣнія, что нѣкоторыя воинскія части, въ отступленіе отъ задачъ, поставленныхъ Бѣлой Арміи, допускаютъ производство самыхъ произвольныхъ и насильственныхъ дѣйствій. Такъ они дозволяютъ себѣ безъ суда и слѣдствія разстрѣливать и вѣшать лицъ, которыя обвиняются, – можетъ быть и безъ достаточныхъ основаній, – въ большевизмѣ и коммунизмѣ. Они самовольно отбираютъ принадлежащее этимъ лицамъ имущество, а ихъ семьи высылаютъ въ предѣлы расположенія красныхъ войскъ. Такія дѣйствія въ арміи, ведущей борьбу за утвержденіе порядка и законности, недопустимы, такъ какъ каждый, живущій въ предѣлахъ Арміи, хотя бы онъ былъ самый тягчайшій преступникъ, пользуется защитой закона, и безъ надлежащаго суда[184]184
Курсивъ мой.
[Закрыть] не можетъ быть лишенъ жизни и имущества»…
Въ дальнѣйшей части приказа всѣмъ военно-начальникамъ ставилось въ обязанность не допускать никакихъ расправъ, подъ страхомъ преданія виновныхъ за нарушеніе этого приказа военно-полевому суду. Крупныхъ самоуправствъ въ теченіе послѣдовавшаго затѣмъ похода, повидимому, и не наблюдалось и вовсе не было позора Деникинской арміи – еврейскихъ погромовъ.
Армія шла впередъ съ необыкновеннымъ энтузіазмомъ. 11-го октября взяли Ямбургъ, 15 октября – Дугу, Плюссу, Серебрянку, 16 октября – Гатчину и Красное Село. Солдаты дѣлали длинные переходы, часто недостаточно питались, такъ какъ кухни и обозы не поспѣвали ихъ догонять, и гнались за противникомъ безостановочно, не давая ему возможности опомниться, на плечахъ его входя въ намѣченные поселки и города. Понуждать солдатъ къ движенію впередъ вовсе не приходилось – порывъ захватилъ всѣхъ отъ офицера до солдата. Солдаты двигались по 30–40 верстъ въ сутки. Красные отступали въ самомъ хаотическомъ безпорядкѣ, часто оказываясь внутри стремительно наступающихъ бѣлыхъ и не соображая, гдѣ;вои, гдѣ чужіе. Разоружали и брали въ плѣнъ массами.
Въ разгаръ этихъ успѣховъ, ген. Деникинъ взялъ Орелъ и двинулся на Гулу, адмиралъ Колчакъ разбилъ и взялъ цѣликомъ въ плѣнъ красную армію въ Туркестанѣ. Наша газета «Свобода Россіи» всемѣрно старалась освѣдомлять армію объ успѣхахъ на другихъ фронтахъ и, послѣ паденія Гатчины и Орла, помѣщала жирные аншлаги среди текста: «побѣда близка», «совсѣмъ близко», «наканунѣ» и. т. п.
Послѣ короткой передышки, 20-го октября войска взяли Павловскъ и Царское Село, на сѣверѣ 5-ая дивизія дошла до Лигова, на югѣ передовыя колонны заняли станцію Лисино и должны были выйти на станцію Тосно Николаевской жел. дороги. Предмѣстье Лигова было кульминаціоннымъ пунктомъ нашихъ успѣховъ; до Петрограда оставалось всего нѣсколько верстъ. Тамъ въ это время среди большевиковъ началась форменная паника; многіе комиссары удрали изъ Петрограда.
Когда въ Царскомъ Селѣ 18 октября предложили Родзянко посмотрѣть въ бинокль на Петроградъ, онъ разсердился: «послѣ завтра буду гулять по Невскому и безъ бинокля увижу»[185]185
«Извѣстія Всер. Ц. И. Ком.» № 248/80 отъ 5/ХІ—19 изъ интервью съ комиссаромъ Подвойскимъ.
[Закрыть].
Но не бывать бы ихъ счастью, да наше несчастье помогло. Изъ массы факторовъ, сопутствовавшихъ движенію арміи на Петроградъ, положительнымъ былъ только одинъ – настойчивая воля солдатъ къ побѣдѣ и ихъ энергія, все остальное складывалось противъ усилій арміи и, какъ камень, тянуло ее ко дну.
Пока мы имѣли дѣло съ совѣтской арміей, лишь немногимъ превышающей нашу, все шло, какъ по маслу, но такъ долго продолжаться не могло. Время явно работало не за насъ. Опомнившіеся послѣ первыхъ стремительныхъ натисковъ большевики начали подвозъ войскъ къ Петрограду. Они сняли прежде всего резервы своихъ войскъ съ карельскаго, финскаго и архангельскаго фронтовъ, начали подвозъ отрядовъ курсантовъ и внутренней охраны изъ Москвы и Твери, резервовъ изъ Вологды, а затѣмъ Троцкій, понявшій какую опасность стала представлять наша сѣверо-западная армія, лично прикатилъ на нашъ фронтъ и «растерянность краснаго штаба смѣнилась его кипучей энергіей», – говоритъ авторъ «Записокъ бѣлаго офицера».
Троцкій «быстро сосредоточиваетъ всѣхъ Петроградскихъ курсантовъ, вызываетъ изъ Кронштадта матросовъ, мобилизуетъ все мужское населеніе Петрограда, штыками и пулеметами гонитъ обратно на позиціи всѣ мобилизованныя части и своими энергичными мѣрами приводитъ въ оборонительное состояніе подступы къ Петрограду. Для болѣе успѣшной борьбы съ наступающими бѣлыми онъ стремится поскорѣе взять иниціативу ударовъ въ свои руки и 20 октября даетъ приказъ объ общемъ наступленіи красныхъ войскъ… Съ каждымъ днемъ… продвиженіе (бѣлой арміи) становится все медленнѣе и медленнѣе: каждый часъ по желѣзнымъ дорогамъ изъ Москвы и Вологды подвозятся свѣжіе красные эшелоны, которые почти немедленно вводятся въ бой».[186]186
«Записки бѣлаго офицера», стр. 36.
[Закрыть]
Учтя слабость нашихъ фланговъ, красные спѣшатъ использовать свое увеличивающееся численное превосходство. Возникаетъ опасность обхвата со стороны Красной Горки (крѣпость на Финскомъ заливѣ) и на югѣ въ районѣ Луги. Необходимо всячески ослабить притокъ свѣжихъ красныхъ войскъ. Командованіе отдаетъ приказъ начальнику 3-й дивизіи ген. Вѣтренко, находящемуся съ дивизіей въ районѣ станціи Владимирской (линіи Тосно – Гатчина), выйти на востокъ на ст. Тосно, Николаевской жел. дороги, взорвать полотно и тѣмъ прекратить подвозъ войскъ изъ Москвы. Но ген. Вѣтренко разсудилъ иначе и приказанія ген. Родзянко не исполнилъ. «Думаю, – говоритъ по этому поводу ген. Родзянко, что большинство начальниковъ, какъ и ген. Вѣтренко, такъ и не исполнившій моего приказанія, полагало, что участь Петрограда уже рѣшена и каждому хотѣлось поскорѣе и по возможности первымъ попасть туда»[187]187
«Воспоминанія» ген. Родзянко, стр. 112.
[Закрыть]. Вмѣсто того, чтобы идти на востокъ, Вѣтренко потянулъ къ сѣверу, въ сторону Петрограда. А когда Родзянко пригрозилъ отдать его подъ судъ, если онъ не возьметъ Тосно, – время оказалось уже упущеннымъ: красные пустили отъ Тосно подвезенный изъ Москвы сильный бронепоѣздъ, и Вѣтренко не могъ пробиться дальше деревни Лисино, не дойдя верстъ 7 до ст. Тосно.
«Составляя планъ кампаніи на Петроградъ – писалъ авторъ «Записокъ бѣлаго офицера» – и назначая направленіе удара каждой колонны, нашъ штабъ не принималъ во вниманіе боеспособности Красной Горки. Разсчитывая да вооруженную помощь англійскаго флота и на содѣйствіе эстонской арміи, бѣлое главнокомандованіе считало, что красные ни въ коемъ случаѣ не смогутъ открывать какихъ бы то ни было активныхъ операцій на Петергофскомъ плацдармѣ. При наличіи англійскаго флота передъ Кронштадтомъ и при капитуляціи Красной Горки, красные войска дѣйствительно ни въ коемъ случаѣ не могли бы держаться въ раіонѣ Петергофа и Стрѣльны, имѣя постоянную и неизбѣжную угрозу попасть въ мѣшокъ».[188]188
«Записки бѣлаго офицера», стр. 32—33.
[Закрыть]
Но англійскій флотъ не поддержалъ дѣйствій нашихъ войскъ. Онъ находился въ то время около Риги, бомбардируя съ моря позиціи Бермонта. Эстонскія войска частью по той же причинѣ, а частью по соображеніямъ политическаго свойства, тоже не обнаружили особой охоты драться за интересы русскаго дѣла. Въ итогѣ нашъ фронтъ сталъ трещать на флангахъ, а сѣверо-западная армія понемногу уставать въ неравной борьбѣ.
24-го октября пришлось оставить Царское Село и Павловскъ. Осмѣлѣвшіе большевики открываютъ огонь съ кронштадскихъ броненосцевъ, высаживаютъ на побережье дессанты и предпринимаютъ глубокій обходъ въ тылъ занятому нами Красному Селу. Наше главнокомандованіе рѣшается на отчаянную мѣру: ген. Юденичъ снимаетъ 1-ю дивизію съ лужскаго раіона, оставляя подступы къ г. Лугѣ почти оголенными, и временнно укрѣпляетъ группу войскъ, остановившихъ обхватъ большевиковъ въ тылу Краснаго Села. Имѣя все увеличивающееся превосходство въ силахъ, большевики предпринимаютъ второй еще болѣе глубокій обходъ, пытаясь выйти къ ст. Волосово на балтійской желѣзной дорогѣ. Удайся эта операція, наши войска оказались бы отрѣзанными отъ Нарвы-базы и гибель арміи стала бы неизбѣжной. На помощь пришла 1-я эстонская дивизія, стоявшая до этого времени на западѣ отъ деревни Гостилицъ пассивно, и прорывъ Гостилицы – Дятлицы ликвидировали. Отбивъ всѣ контръ-атаки большевиковъ и взявъ впереди нѣсколько деревень по направленію къ финскому побережью, эстонцы не развиваютъ дальше своихъ успѣховъ и, замѣнившись подошедшими частями нашей арміи, около 1-го ноября снова оттягиваются назадъ.
Пользуясь тѣмъ, что Псковъ оставался въ ихъ рукахъ, большевики накапливаютъ другую обходную группу войскъ въ раіонѣ ст. Преображенской и Мшинской и начинаютъ нажимать въ раіонѣ Чудскаго озера, на югъ отъ Гдова. Всѣ наши наличныя силы на фронтѣ, а резервовъ – никакихъ. Въ виду усилившихся обходовъ съ тыла, передовыя колонны и нашъ центръ вынуждены отступать безъ боя, чтобы не оказаться въ мѣшкѣ. 2 ноября оставили г. Лугу, 3-го безъ боя Гатчину. Не видя впереди себя непріятеля, солдаты совершенно не понимаютъ этихъ движеній арміи, начинаютъ роптать, духъ арміи понемногу падаетъ. Въ Петроградѣ кампанію считаютъ выигранной.
«Что можно сдѣлать для полной побѣды?» _ вопрошаетъ въ «Извѣстіяхъ» комиссаръ Подвойскій. «Передъ нами стоитъ задача не только ликвидировать ямбургскій прорывъ, но и уничтожить Юденича, Родзянко и сѣверо-западное правительство вообще. То, что до сихъ поръ подъ самый Петроградъ прорвались бѣлыя шайки, является позоромъ для питерскаго и вообще россійскаго пролетаріата. Этого позора нельзя больше допускать и Сѣверо-Западное правительство должно быть уничтожено, и оно будетъ стерто съ лица земли. Этимъ самымъ мы облегчимъ южному фронту его задачу – покончить съ Деникинымъ».[189]189
«Известия», 5/XI, № 248/80.
[Закрыть]
Ликующая «Петроградская Правда» въ № 258 отъ 5-го ноября помѣстила уже лозунги къ празднованію второй октябрьской годовщины въ Петроградѣ. Какъ образчикъ мастерской агитаціи, они заслуживаютъ вниманія читателя.
Лозунги П. К. Р. К. П. къ октябрьскимъ торжествамъ.
1. Петрографъ навсегда останется Краснымъ Петроградомъ.
2. Ни одинъ коммунистъ не вернется съ фронта, пока Ямбургъ и Гдовъ не будутъ очищены отъ бѣлыхъ бандъ.
3. Вѣчная память павшимъ при защитѣ Петрограда.
4. Нѣтъ больше чести, какъ умереть за красный Петроградъ.
5. Имперіалисты обломали зубы о Петроградъ. Петроградъ останется авангардомъ пролетарской революціи.
6. Петроградъ сталъ намъ еще дороже. Каждый камень его будемъ защищать до послѣдней капли крови.
7. Въ 1919 году родился коммунистическій Интернаціоналъ – въ 1920 г. онъ побѣдитъ во всемъ мірѣ.
8. Гражданская война кончится, когда кончатся Деникинъ, Юденичъ и Колчакъ.
9. Да здравствуетъ Красный Петроградъ – великій бунтовщикъ.
10. Рабочіе, крестьяне, къ оружію.
11. Царствію рабочихъ и крестьянъ не будетъ конца.
12. Намъ пророчили двѣ недѣли жизни, а мы живемъ уже два года.
13. Два года власти рабочихъ и крестьянъ доказываютъ незыблемость коммунизма.
14. За два года на Красный Петроградъ покушались Керенскій, Корниловъ, нѣмцы, эстонцы, финны, англичане, Юденичъ, меньшевики, эсъ-эры, холера, – а красный Петроградъ живъ и будетъ жить.
15. За два года мы создали Красную Армію въ нѣсколько милліоновъ – да здравствуютъ красные бойцы.
16. Мы побѣдили въ октябрѣ 1917 года, мы побѣдили въ 1918 году, побѣдили теперь – въ 1919 году, мы окончательно побѣдимъ. Мы добьемся счастья.
А наша армія отступала все дальше и дальше. 7-го ноября палъ Гдовъ. Видя, что большевики снова приближаются къ Нарвѣ, эстонцы выходятъ изъ состоянія апатіи. Наступленіе на Гдовъ они пытаются парировать бомбардировкой съ бронепоѣздовъ Пскова. На сѣверѣ они приходятъ въ соприкосновеніе съ большевиками на линіи ингерманландскихъ озеръ. Но тщетно: иниціатива по прежнему въ рукахъ красныхъ. Упоенные побѣдой, они идутъ впередъ съ большимъ воодушевленіемъ. Большевики говорятъ уже о походѣ на Эстонію, обѣщаютъ солдатамъ зимнія квартиры въ Ревелѣ. Накопивъ большія силы, они вдавливаютъ ихъ у села Глубокаго (между линіей ингерманландскихъ озеръ и гор. Ямбургомъ) – эстонцы автоматически вынуждаются оставить Ингерманландію, а наша армія покидаетъ 14 ноября г. Ямбургъ.