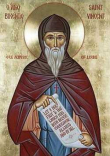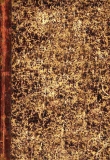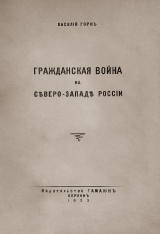
Текст книги "Гражданская война на сѣверо-западѣ Россіи"
Автор книги: Василий Горн
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 42 страниц)
Къ сожалѣнію, все, что наблюдалъ г. Николаевъ до насъ, то же осталось и при насъ, а потому все, что писалось въ цитированномъ рапортѣ отъ 8 сентября, съ успѣхомъ могло писаться въ отчетахъ отъ 8-го октября, 8-го ноября и т. д. до начала декабря, т. е. вплоть до того момента, пока новый большевистскій шквалъ вновь не зачеркнулъ все бѣлое «строительство» въ несчастной полосѣ.
Въ оправданіе Евсѣева можно сказать, что трудно было бороться съ непорядками мѣрами одного министерства внутреннихъ дѣлъ, когда рядомъ съ нимъ дѣйствовали другіе органы, непосредственно подчиненные военному вѣдомству и пользующіеся иногда услугами опредѣленно преступныхъ людей; я не говорю уже о своеобразномъ политическомъ уклонѣ этихъ органовъ. Вотъ что мы читаемъ, напримѣръ, въ одномъ донесеніи отъ 19 сентября[156]156
Изъ донесенія волостного коменданта Чапліевскаго начальнику контръ-развѣдывательнаго пункта, отъ 19-го сент. 1919 г.
[Закрыть]. «Во ввѣреной мнѣ волости агенты и офицерскіе чины контръ-развѣдки, никому не извѣстные, производятъ безъ моего соучастія у мѣстныхъ гражданъ обыски, аресты, и тутъ же на мѣстѣ убиваютъ арестуемыхъ безъ суда и слѣдствія, забираютъ деньги, лошадей и все имъ пригодное, не оставляя никакихъ копій актовъ или расписокъ въ реквизиціи денегъ и имущества. Такія дѣйствія иной контръ-развѣдки на-руку всякаго рода грабителямъ и хулиганамъ, которые тоже называютъ себя агентами контръ-развѣдки… Если бы офицерскіе чины контръ-развѣдки всѣ аресты и обыски производили при содѣйствіи волостнаго коменданта, этихъ злоупотребленій не было бы…» Контръ-развѣдка оставляла такія заявленія, нерѣдко, безъ всякаго вниманія, иначе ей пришлось бы вообще прекратить свою «высоко-полезную» дѣятельность по вылавливанію разнаго рода «большевиковъ». Въ огромной массѣ репрессіи ея сыпались на головы ни въ чемъ неповинныхъ людей, выхватываемыхъ по грязнымъ доносамъ и сплошь да рядомъ изъ чисто – своекорыстныхъ цѣлей; присутствіе на обыскахъ и арестахъ такихъ наивныхъ людей, какъ г. Чапліевскій, врядъ ли было въ интересахъ большинства агентовъ этого органа, считавшихъ себя призванными твердой рукой искоренять большевизмъ на мѣстахъ. Зараза шла сверху, питаясь диктаторскими замашками игнорирующихъ правительство военныхъ властей, упорно стремившихся сдѣлать всю внутреннюю политику своей исключительной монополіей. При такихъ условіяхъ борьба съ произволомъ сводилась къ борьбѣ съ тенденціями нарвскаго тыла, передъ которымъ оказалось безсильнымъ правительство во всемъ его составѣ, а не только одинъ Евсѣевъ. Но, конечно, болѣе рѣшительный и крутой министръ внутреннихъ дѣлъ все же кой-что успѣлъ бы сдѣлать для смягченія многихъ частныхъ случаевъ царившаго повсюду произвола.
Впослѣдствіи правое крыло правительства поняло свою ошибку, чѣмъ и объяснялись всѣ разговоры о Савинковѣ, какъ о человѣкѣ, такъ или иначе импонирующемъ своей рѣшительностью военнымъ кругамъ. Разъ не было фактической силы, которая расчистила бы нарвскую накипь вооруженной рукой, поневолѣ приходилось думать о суррогатѣ, въ видѣ Савинкова, который къ тому же почему-то казался нашимъ коллегамъ менѣе лѣвымъ, чѣмъ я или Богдановъ изъ нашего крыла. Лавируя между Сциллой и Харибдой, такъ и протоптались на мѣстѣ до безславнаго конца. Въ частности вина нашего лѣваго крыла состояла въ томъ, что мы все время боялись испортить «общее дѣло» и не уперлись въ вопросѣ внутренней политики рѣшительно. Тѣ мотивы, которые приводились тогда въ нашей средѣ, стоятъ нѣкотораго общественнаго вниманія, чтобы остановиться на нихъ нѣсколько позже подробнѣе.
И. Т. Евсѣевъ, конечно, ясно сознавалъ всѣ недочеты своего вѣдомства, но, не будучи въ силахъ дѣйствовать на первопричину прямымъ путемъ, расчитывалъ искоренить произволъ мѣрами медленнаго и постепеннаго его разсасыванія, надѣясь отнять у военныхъ одну область за другой, путемъ общихъ земскихъ и административныхъ реформъ, дѣйствующихъ, такъ сказать, біологически-оздоровляюще на окружающую общественную среду.
Мы всячески поддерживали въ этихъ стараніяхъ Евсѣева, и, если читатель удосужится заглянуть въ приложенія къ этой главѣ, то увидитъ, какъ далеки мы были на практикѣ отъ доктринерства и преслѣдованія нашей демократической программы во что бы то ни стало, не считаясь съ условіями жизни взбудораженной полосы.
Вскорѣ послѣ взятія нашими войсками Ямбурга, туда выѣхали министры Евсѣевъ, Эйшинскій и Богдановъ, посѣтившіе затѣмъ также гдовскій районъ. Они имѣли рядъ собесѣдованій съ земскими, городскими дѣятелями и ближайшими волостными старшинами. Отношеніе къ правительству они встрѣтили сочувственное, но старшины замѣтно избѣгали высказываться сколько нибудь опредѣленно по политическимъ вопросамъ. У крестьянъ мелькала, видимо, мысль: «а вдругъ снова вернутся большевики, да потянутъ опять къ отвѣту?» Во всякомъ случаѣ, они сообща обсудили условія возобновленія дѣятельности органовъ самоуправленія на мѣстахъ, при чемъ выражено было пожеланіе упростить всю выборную процедуру, организовавъ земства по выбору отъ сходовыхъ. Тутъ учитывался до извѣстной степени прежде существовавшій опытъ. Дѣло въ томъ, что прежніе земскіе гласные частью разбѣжались, частью оставались еще за предѣлами нашихъ завоеваній, а потому еще лѣтомъ, во время перваго владѣнія бѣлыми Ямбургомъ, до появленія нашего правительства, тому же Евсѣеву удалось создать въ этомъ уѣздѣ нѣчто въ родѣ суррогата земства по тому же принципу и результаты получились довольно приличные, хотя земство и функціонировало безъ точной программы и ясно очерченныхъ правъ. Теперь желаніе совѣщанія отвѣчало, такимъ образомъ, планамъ самого Евсѣева и въ дальнѣйшемъ легло въ основу дѣятельности министерства внутреннихъ дѣлъ.
По свѣдѣніямъ, собраннымъ въ эту поѣздку въ бесѣдахъ съ населеніемъ Богданова, знаменитый Хомутовскій приказъ о землѣ, № 13, въ ямбургскомъ уѣздѣ фактическаго примѣненія почти вовсе не имѣлъ, но «въ гдовскомъ уѣздѣ онъ нашелъ широкое примѣненіе, вплоть до отобранія сѣмянъ въ возмѣщеніе убытковъ помѣщиковъ. Предъявлена (была) масса исковъ о взысканіи таковыхъ убытковъ, каковые иски основывались на томъ же приказѣ»[157]157
Изъ журнала совѣта министровъ отъ 14-го октября 1919 г., § 2. Выписка приведена въ прошедшемъ времени.
[Закрыть].
Въ результатѣ поѣздки, Евсѣевъ представилъ на утвержденіе совѣта министровъ два проэкта, изъ которыхъ первый назывался – «Временныя правила о возстановленіи земскаго самоуправленія въ освобожденныхъ мѣстностяхъ сѣверо-западной Россіи»[158]158
См. приложенія.
[Закрыть]. Законъ былъ составленъ примѣнительно къ Положенію, выработанному Временнымъ Правительствомъ, но съ измѣненіемъ въ главѣ о выборахъ въ томъ смыслѣ, что выборы гласныхъ производятся не по четыреххвосткѣ, а на открытыхъ сельскихъ сходахъ. Въ волостныя земства – путемъ посылки одного представителя отъ каждаго селенія до 50 дворовъ; уѣздныя же земства составлялись изъ выборныхъ въ волостныя земскія собранія, при 6 тыс. жителей въ волости – одного, свыше – двухъ, и представителей отъ городовъ (при 6 тысячахъ жителей въ городѣ – одного, свыше – двухъ). Представителей отъ городовъ проэктировалось посылать отъ городскихъ думъ. Евсѣевскія «правила» давали возможность организовать земства въ кратчайшій срокъ, не обременяя населеніе канцелярскими хлопотами при выборахъ по четыреххвосткѣ и не смущаясь тѣмъ, что выборы окажутся слишкомъ упрощенными. Имѣлось въ виду дать населенію возможность немедленно ощутить блага гражданскаго правопорядка и принять непосредственное участіе въ его строительствѣ.
Второй проектъ Евсѣева касался упорядоченія административнаго управленія въ сѣв.-зап. Россіи и заключалъ въ себѣ: 1) «Временное положеніе о государственной стражѣ въ губерніяхъ» и 2) «Положеніе о начальникахъ губерній»[159]159
См. приложенія.
[Закрыть]. Законоположеніе – детально регламентирующее дѣятельность и права администраціи на мѣстахъ и вполнѣ гарантирующее, при честномъ его примѣненіи, населеніе отъ произвола властей. Коменданты по этому проэкту упразднялись автоматически.
Но судьба судила иначе. Ямбургомъ, Гатчиной и Лугой мы владѣли не болѣе двухъ-трехъ недѣль, и законодательствовать на этой территоріи вовсе не пришлось. Проэктъ объ администраціи въ совѣтѣ прошелъ только 1 ноября, когда началось стремительное отступленіи арміи къ границамъ Эстоніи; второй проэктъ – о земствѣ, какъ потерявшій смыслъ по той же причинѣ, Евсѣевъ самъ просилъ снять съ доклада. Впрочемъ, толку отъ этихъ проэктовъ тоже не вышло бы никакого, если-бъ даже войска и удержали занятый районъ: опьяненныя успѣхомъ, военныя власти готовили намъ чистую отставку, рѣшивъ распорядиться судьбой населенія по собственному плану.
Не лучше протекала дѣятельность другого важнаго органа правительства – министерства юстиціи.
Искренній и стойкій либералъ, прекрасный человѣкъ, хорошій юристъ, Е. И. Кедринъ былъ увлекающаяся натура, порою совершенно забывавшій о временной роли нашего правительства, о необходимости немедленно творить ближайшее практическое цѣло.
Напримѣръ, онъ самымъ серьезнымъ образомъ собирался судить большевиковъ въ Петроградѣ, да и не въ Петроградѣ только, а во всей Россіи, поставивши это дѣло въ широкомъ, почти грандіозномъ масштабѣ, съ научными комиссіями, спеціально изучающими преступную бациллу большевизма, и кучей особыхъ судебныхъ слѣдователей, опредѣляющихъ преступность «въ области финансовъ, торговли и промышленности, земледѣлія, продовольствія, народнаго просвѣщенія, городского самоуправленія и т. д.» Съ этой цѣлью Е. И. Кедринъ предлагалъ правительству создать, по взятіи Петрограда, «государственную комиссію по борьбѣ съ большевизмомъ». Въ особомъ докладѣ, написанномъ по этому поводу, онъ опредѣлялъ задачу комиссіи двоякой: «во-первыхъ, чисто судебная – разслѣдованіе дѣятельности большевиковъ, и во-вторыхъ, научно-административная… цѣлью (которой) должно быть прежде всего раскрытіе сущности большевизма». Подъ угломъ зрѣнія уголовнаго кодекса и при наличности въ составѣ нашего правительства хотя бы право-соціалистическаго элемента, Е. И. Кедринъ въ научной части работы комиссіи предлагалъ: «изучить историческое происхожденіе большевистской доктрины, теоретическія, научныя и метафизическія работы соціалистическихъ мыслителей, прослѣдить вліяніе соціалистическихъ ученій на психологію народныхъ массъ…» и т. д., предупреждая насъ, что «изученіе большевизма должно покоиться (также) на точныхъ объективныхъ результатахъ и научномъ изслѣдованіи положительныхъ фактовъ, добытыхъ слѣдственными властями и установленныхъ судебными приговорами». Повторяю, планы его въ этой области были грандіозны, съ привлеченіемъ къ участію въ государственныхъ работахъ русской государственной комиссіи даже иностранныхъ правительствъ, ибо «чрезвычайныя профилактическія мѣры противъ большевизма необходимы не только въ Россіи, но и на пространствѣ всего міра».
Докладъ Е. И. Кедрина встрѣтилъ почти недоумѣнное къ себѣ отношеніе въ средѣ министровъ и не дождался ихъ обсужденія.
Ту же непрактичность Е. И. Кедринъ проявилъ въ другомъ случаѣ, когда министерству юстиціи была поставлена прямая практическая задача – разграничить сферы дѣятельности военной и гражданской юстиціи въ уголовныхъ дѣлахъ, возбуждаемыхъ на занятой территоріи. Этой мѣрой мы имѣли въ виду реорганизовать всю постановку судебнаго дѣла въ арміи и возможно скорѣе прекратить безобразія Хомутовской юстиціи. Е. И. Кедринъ взглянулъ на поставленную ему задачу, однако, слишкомъ фундаментально. Онъ организовалъ для этой цѣли особую комиссію изъ 12 присяжныхъ юристовъ (б. судей, прокуроровъ, присяжныхъ повѣренныхъ), которая окончательно углубила весь этотъ вопросъ.
Комиссія имѣла 26 засѣданій. Приступивъ къ своей работѣ, она нашла: «что для опредѣленія строгаго разграниченія между гражданской и военной подсудностью, необходимо создать такой гражданскій судъ, коему могли бы быть переданы всѣ уголовныя дѣла, переведенныя приказомъ № 10 командира отдѣльнаго корпуса сѣверной арміи[160]160
Одинъ изъ серіи приказовъ Родзянко – Хомутова.
[Закрыть] по военно-гражданскому управленію въ вѣдѣніе военнаго суда, съ наибольшей гарантіей въ правильности ихъ рѣшенія, такъ какъ отсутствіе въ сѣверо-западной области окружного суда, судебной палаты и правительствующаго сената лишаетъ судъ этихъ гарантій; кромѣ того комиссія признала, что паденіе цѣнности денежныхъ знаковъ и измѣненіе условій общественной, экономической и правовой жизни вызываетъ насущную потребность въ пересмотрѣ дѣйствующаго судебнаго законодательства» и т. д.
Въ результатѣ – комиссія занялась пересмотромъ и пересмотрѣла «учрежденіе судебныхъ установленій, уставъ уголовнаго судопроизводства, уставъ гражданскаго судопроизводства, уложеніе о наказаніяхъ и уголовное уложеніе» и внесла въ нихъ подлежащія измѣненія!
Добралась комиссія и до реорганизаціи военно-полевыхъ судовъ, констатировала, что они «не предусмотрѣны закономъ», «совершенно не отвѣчаютъ требованіямъ закона и правосудія», выработала новый проэктъ положенія объ этихъ судахъ, но тутъ вышелъ конфузъ. Докладъ министра юстиціи въ совѣтѣ объ организаціи военно-полевыхъ судовъ значился на повѣсткѣ на 1 ноября, но къ засѣданію выяснилось, что ген. Юденичъ еще 16 октября своею властью упразднилъ старые Хомутовскіе суды и издалъ приказъ № 266, регулирущій дѣятельность новыхъ военно-полевыхъ судовъ, примѣнительно къ «своду военныхъ постан.» и узаконеніямъ въ періодъ міровой войны. Пришлось Е. И. – «просить помощника военнаго министра представить совѣту въ ближайшее время приказъ главнокомандующаго, регулирующій дѣйствія военно-полевыхъ судовъ, отложивъ обсужденіе проэкта до полученія сего приказа». 12 ноября докладъ былъ вовсе снятъ съ очереди, 18 – ходатайствовалось о возмѣщеніи расходовъ по комиссіи, а дальше все кануло въ Лету, ибо и территорія и населеніе – предметы попеченія комиссіи – снова перешли во власть совдеповъ.
Кое-что Кедрину все же удалось сдѣлать. Наладилось функціонированіе гражданскихъ судовъ, для разрѣшенія частно-гражданскихъ интересовъ. Съ конструкціей этихъ судовъ читатель можетъ ознакомиться въ приложеніяхъ ко II главѣ настоящей книги. Заслуга выработки этого практичнаго проэкта цѣликомъ принадлежитъ псковской судебной магистратурѣ. Къ сожалѣнію, окружающая нервная и первобытная обстановка была крайне ненормальна для дѣятельности мировыхъ судей, и суды мировой юстиціи влачили почти жалкое существованіе.
Успѣшно работала организованная въ гдовскомъ уѣздѣ комиссія по разгрузкѣ тюремъ. Оказалась масса лицъ, засаженныхъ по самымъ нелѣпымъ основаніямъ, либо такихъ, о которыхъ никто не могъ сказать, за что они сидятъ. Ихъ выпускали пачками.
Въ повседневной практической работѣ Кедринъ, какъ й всѣ мы, на каждомъ шагу натыкался на своеволіе военныхъ властей. Притянуть ослушниковъ къ суду онъ не могъ: военныя власти упорно поддерживали другъ друга и его не слушались. Онѣ позволяли себѣ третировать слѣдственныя власти даже главнаго военнаго суда въ Нарвѣ. Памятно въ этомъ смыслѣ дѣло о загадочномъ убійствѣ въ гдовскомъ уѣздѣ мичмана Ломана.
Подозрѣніе въ убійствѣ падало на одного ротмистра, пріятеля впослѣдствіи весьма юнаго полковника и генерала Видякина – того самаго, о которомъ я упоминалъ въ связи съ оскорбленіемъ въ Гатчинѣ контролера Панина. По предложенію военнаго прокурора, военный слѣдователь далъ дѣлу ходъ, противъ ротмистра предполагалось возбудить обвиненіе въ предумышленномъ убійствѣ и требовалось лишь соотвѣтствующее согласіе военнаго начальства, такъ какъ убійство произошло въ предѣлахъ мѣстности, находящейся въ исключительномъ вѣдѣніи военнаго начальства,[161]161
Вся территорія хронически оставалась въ вѣдѣніи военной власти даже тогда, когда линія фронта отодвинулась на сотню и болѣе верстъ.
[Закрыть] и было совершено лицомъ воинскаго званія. Военный слѣдователь обратился за разрѣшеніемъ привлечь ротмистра къ командующему корпусомъ. Велико было изумленіе этого юриста, когда въ отвѣтъ на свою бумагу онъ получилъ отъ начальника штаба корпуса ротм. Видякина грозный запрос: «на какомъ основаніи вы опредѣляете, какъ убійство, случай, повлекшій за собой смерть мичмана Ломана, и вмѣняете въ вину ротмистру (такому-то)… Вмѣстѣ съ тѣмъ благоволите сообщить, въ какой мѣрѣ военный слѣдователь отвѣтственъ и какія мѣры взысканія могутъ быть на него налагаемы за лишенное всякихъ основаній, сообщаемое въ служебной бумагѣ, обвиненіе должностного лица въ преступленіи, симъ лицомъ несодѣянномъ, и можетъ ли быть означенное дѣяніе судебнаго слѣдователя квалифицировано, какъ преступленіе, совершенное имъ при исполненіи имъ служебныхъ обязанностей?» [162]162
Изъ отнош. нач. штаба стрѣлк. корпуса с.-з. арміи отъ 12-го сентября 1919 г., за № 2793.
[Закрыть]
Слѣдственныя власти не рѣшились бороться съ всесильнымъ тогда молодымъ человѣкомъ и дѣло безъ движенія осталось у того же Видякина.
Министру писать подобныхъ бумагъ, конечно, не рѣшались, но прибѣгали къ волынкѣ, а въ промежутокъ расправлялись по-своему. Протесты и вмѣшательство членовъ правительства по большей части ни къ чему не приводили. Военные всегда находили какія-нибудь увертки, часто прикрываясь тѣмъ же ген. Юденичемъ. Укажу, напримѣръ, на знаменитый въ нашихъ анналахъ процессъ техника Садыкера, окончившійся смертной казнью.
Анатолій Садыкеръ, русскій бѣженецъ въ Финляндіи, былъ заподозрѣнъ военными кругами въ сношеніяхъ съ большевиками. Когда онъ, при содѣйствіи властей арміи, переѣхалъ въ Ревель и поступилъ на службу къ начальнику снабженія, то черезъ три недѣли его вызвали по «служебному поводу» въ Нарву, а тамъ контръ-развѣдка упрятала его въ тюрьму, отдавъ подъ военно-полевой судъ. Садыкеръ началъ молить о защитѣ Е. И. Кедрина и другихъ министровъ, прося вмѣшаться въ его дѣло, обставить судъ всѣми гарантіями для его защиты и дать ему возможность доказать свою невинность. У него въ Финляндіи оставалась жена и годовалый ребенокъ. Кедринъ предложилъ военному прокурору зорко слѣдить за слѣдствіемъ и о ходѣ его извѣщать.
Вскорѣ состоялся судъ. Свидѣтели, на которыхъ неоднократно ссылался Садыкеръ, опрошены не были, письмо нѣкоего Хаджетлаше, служившее, по мнѣнію военныхъ, уликой, на судъ представлено не было, и въ результатѣ былъ вынесенъ смертный приговоръ. Е. И. Кедринъ обратился телеграфно къ ген. Юденичу, прося его о пріостановленіи приговора и пересмотрѣ дѣла. Послѣдовалъ такой обмѣнъ телеграммъ:
Ревель, Нарвская 8, Министру Юстиціи Кедрину
Передана 4 ноября 1919 г.
Приговоръ обвинительный. Жена осужденнаго Садыкера умоляетъ немедленно возбудить дѣло о дослѣдованіи, ибо дѣло не выяснено.
Предсѣдательствующій Васильевъ.
Нарва, Главнокомандующему ген. Юденичу.
Передана 4 ноября 1919 г.
Узнавъ приговоръ Садыкера, считаю долгомъ поддержать ходатайство жены осужденнаго о пріостановленіи исполненія приговора. Предсѣдательствующій Васильевъ телеграфировалъ, что дѣло не выяснено. Въ виду этого отзыва, считаю необходимымъ произвести дополнительное разслѣдованіе, допросивъ свидѣтелей, на которыхъ ссылался обвиняемый и которые остались не допрошенными, вслѣдствіе пребыванія въ Финляндіи. Дополнительное разслѣдованіе представляется особенно необходимымъ, вслѣдствіе пропажи документа, который могъ бы уличить подсудимаго, почему содержаніе его приходилось установлять свидѣтельскими показаніями, что всегда сбивчиво и опасно. При такихъ обстоятельствахъ отказъ отъ дослѣдованія – будетъ отказъ въ правосудіи, почему считаю своимъ нравственнымъ долгомъ просить приказать пріостановить исполненіе приговора.
Министръ Юстиціи Кедринъ.
Министру Юстиціи сѣверо-зап. правительства Кедрину.
Изъ штаба арміи, 5 ноября 1919 г.
Согласно указанія въ опросномъ листѣ предсѣдательствовавшаго на судѣ Васильева, виновность Садыкера признана единогласно всѣмъ составомъ суда. Постановленія суда съ ходатайствомъ о помилованіи не представлено. Законныхъ основаній къ возобновленію дѣла не заявлено.
Главнокомандующій Юденичъ.
Былъ ли дѣйствительно невиненъ Садыкеръ въ приписываемомъ ему дѣяніи – судить не берусь, такъ какъ не знаю подробностей дѣла, но помню, что о казни Садыкера ходили потомъ весьма нелестные для Нарвы слухи. О вмѣшательствѣ Кедрина въ это дѣло знали многіе и въ Нарвѣ и въ Ревелѣ, и когда услышали, что Садыкеръ все-таки казненъ, нѣкоторые прямо стали говорить, что въ Нарвѣ испугались, какъ бы Кедринъ «не испортилъ» этого дѣла. Поспѣшность, которую проявилъ ген. Юденичъ, или стоящіе за его спиной, вовсе не вызывалась объективными обстоятельствами. Съ мнѣніемъ министра юстиціи во всякомъ случаѣ слѣдовало посчитаться и дать возможность обвиняемому защищаться на судѣ. Иначе – въ чемъ же была разница между краснымъ и бѣлымъ правосудіемъ?
Или вотъ другой образчикъ подозрительной «поспѣшности», когда по поводу смертнаго приговора вмѣшался министръ земледѣлія П. А. Богдановъ.
18 октября 1919 г. онъ получилъ изъ Гдова телеграмму слѣдующаго содержанія:
Правленіе гдовскаго союза кооператоровъ проситъ васъ оказать содѣйствіе о пріостановкѣ смертнаго приговора надъ членомъ нашего правленія Александромъ Федоровичемъ Моховымъ и служащимъ Иваномъ Ивановичемъ Соловьевымъ. Одновременно подаемъ просьбу на имя главнокомандующаго о помилованіи. Просимъ поддержать. Осужденные находятся въ гдовской тюрьмѣ. № 765.
Правленіе: Васильевъ, Епифановъ, Дмитріевъ, Евсѣевъ.
Въ тотъ же день Богдановъ огласилъ телеграмму въ совѣтѣ министровъ, и подъ этимъ числомъ значится въ журналѣ совѣта экстренное постановленіе:
XIII.
Слушали:
Вопросъ, внесенный Министромъ Земледѣлія, о приговорѣ военнаго суда, коимъ членъ правленія Гдовскаго Кооперативнаго Союза Александръ Жоховъ и служащій того же Союза Иванъ Соловьевъ присуждены къ смертной казни.
Постановили:
Просить Главнокомандующаго сдѣлать распоряженіе о пересмотрѣ дѣла Жохова и Соловьева, непричастныхъ къ большевизму по удостовѣренію нѣкоторыхъ министровъ.
На основаніи этого постановленіи, въ 4 1/2 часа того же дня Богдановъ послалъ срочную телеграмму ген. Юденичу, прося о помилованіи указанныхъ лицъ, телеграфировавъ одновременно о посылкѣ этой телеграммы правленію союза и гдовскому коменданту. Отвѣтъ получился только 23 октября (спустя пять дней):
Спѣшно (!).
Утвержденный главнокомандующимъ приговоръ по дѣлу Мохова и Соловьева приведенъ въ исполненіе девятнадцатаго октября.
Генералъ баронъ Вольфъ.
На короткомъ, въ полтораста-двѣсти верстъ разстояніи Ревель – Гдовъ, спѣшная телеграмма Богданова, конечно, была получена въ тотъ же день, т. е. 18 октября. Но дѣло представили такъ, какъ если бы она шла 3–4 дня, а въ промежутокъ Мохова и Соловьева повѣсили. «Извините, молъ, не виноваты, телеграмма запоздала, видите, какъ спѣшно отвѣчаемъ вамъ».
Ни Моховъ, ни Соловьевъ, по словамъ людей, заслуживающихъ довѣрія, большевиками не были. Нѣкоторые министры знали ихъ лично. Впрочемъ, гдовское начальство и самого министра Богданова, какъ увидимъ ниже, не прочь было бы повѣсить.
Только разъ удалось Кедрину арестовать одного безобразника – знаменитаго вѣшателя полк. Энгельгардта, начальника контръ-развѣдки Балаховича въ Псковѣ. Но это было въ самомъ началѣ дѣятельности правительства въ Ревелѣ, и арестъ состоялся при содѣйствіи эстонской полиціи. Но и этого дѣла не довели до конца. Военный судъ, куда Кедринъ передалъ дѣло, ровно ничего не сдѣлалъ. Просидѣвъ въ тюрьмѣ до ликвидаціи арміи, Энгельгардтъ вышелъ оттуда безъ всякихъ для себя послѣдствій. Много позже объ этомъ дѣлѣ Е. И. Кедринъ писалъ въ парижскихъ «Посл. Нов.» довольно подробно, квалифицируя роль главнаго героя, полк. Энгельгардта, въ самыхъ рѣзкихъ выраженіяхъ.
Несмотря на свой преклонный возрастъ, Е. И. Кедринъ порою загорался, какъ юноша. Искренній либералъ, онъ умудрился устроиться въ своемъ вѣдомствѣ какъ-то такъ, что его кругомъ облѣпили весьма право-настроенные люди. На эту странность обратили вниманіе даже со стороны, изъ Риги. По просьбѣ Кедрина, наше правительство просило однажды латвійскія власти оказать содѣйствіе въ переѣздѣ изъ Риги въ Ревель одного судебнаго чиновника, котораго особенно пожелалъ имѣть у себя на службѣ Е. И. Кедринъ. Когда нашъ представитель въ Ригѣ предпринялъ соотвѣтствующіе шаги, ему откровенно выразили изумленіе, что сѣв.-зап. правительству нужны въ качествѣ «незамѣнимыхъ работниковъ» дѣятели бывшаго «союза русскаго народа». Оказалось, что чиновникъ, о которомъ такъ жарко хлопоталъ Е. И. Кедринъ, состоялъ до революціи предсѣдателемъ одного изъ отдѣленій этого союза!
Кедринъ былъ немало сконфуженъ такимъ пассажемъ, а бывшій «союзникъ», основываясь на пригласительномъ письмѣ или телеграммѣ Кедрина, приставалъ впослѣдствіи къ ликвидаціонной комиссіи, чтобы она вознаградила его за службу въ сѣв.-зап. правительствѣ – «онъ-де считалъ себя все время занятымъ».