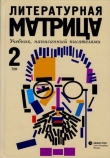Текст книги "Матрица бунта"
Автор книги: Валерия Пустовая
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 34 страниц)
В «полубреду мессианства» сливаются гений Хлебникова, амбициозные фантазмы русских революционеров, артистический инстинкт Хашема. Как метафора это красиво – но образ Мессии в романе исследуется не метафорическим языком. Утопия Ширвана построена предельно рационально: в ход идут проповеди, исторические свидетельства, постановки – и подстановки, например, в наиболее отталкивающей для меня сцене чудотворства Хашема (делает вид, что исцеляет больных молитвой, а между тем его «апостол», главный герой, вкалывает им антибиотик). Иличевский изменяет своей интуиции, полагается на разум, не понимая, что одним умом, в отрыве от жизненного выбора, Бога не обрести. Религиозная мысль романа поэтому производит тягостное впечатление обделенности благодатью. Хашем изощряется в хитроумии, высекает Бога, как искру, – но так и не озаряется светом.
Существуют два объяснения, почему Иличевский пишет такую «сложную» и «странную» прозу. Первое: он физик. Второе: он лирик.
«Проза поэта» – формула, оправдывающая многое. Известно, что Иличевский начинал со стихов, и не приходится сомневаться в признании писателя: «Стихи для меня не закончатся никогда. Так или иначе, на больших периодах я все время стараюсь до них докоснуться» [28] . «Докоснуться» получается: иные абзацы в романах «Матисс» и «Перс» – готовые, законченные стихотворения в прозе, не говоря уже о таких рассказах, как «Горло Ушулука», «Дизель», «Штурм», «Гладь», которые целиком – поэмы. А. Голубкова справедливо обращает внимание противников Иличевского на то, что «произведение лиро-эпическое <…> строится по несколько иным принципам, чем “обычная” большая проза: наличие четко прописанного сюжета вовсе не является для такого романа требованием первостепенной важности <…> Следовательно, внутренний сюжет “Матисса” должен рассматриваться именно как ряд метафор, плавно перетекающих одна в другую и каждый раз заново перестраивающих общий смысл текста» [29] .
И это не пустые слова. Поэзия заменяет в прозе Иличевского всё: мысль (именно в метафоре писатель добирается до существа бытия), мистику (образная, иррациональная связь явлений, событий, душевных состояний делает нас, как и героя, чуткими к их потустороннему смыслу), повествование (действие завязывается и развивается по логике стихотворения, так что сюжет и пересказать нельзя, только пережить от первой до последней строки). И на малых объемах (на протяжении абзаца или рассказа) поэзия работает как самодостаточная движущая сила. Недалеко поэтому от истины замечание Е. Ермолина, что Иличевский «работает чутьем», имитируя «волхвование» [30] , – надо только поменять знак оценки на «плюс». Нефть и ландшафт, статуи и лунные девы, слепота и солнце, безумие и жуть – следует ли этим образам искать рациональное, однозначное объяснение – или проще довериться им, как плоду чутья, поэтической магии? Мы устанавливаем «“систему значений”» [31] этой прозы, но не можем исчерпать ее анализом – как нельзя присвоить буквальный, застывший смысл незнакомке, скифам, фабрике Блока.
Но стоит принципы лирической связности перенести на крупную форму – «лироэпический» текст разваливается, выдает синтетическую свою природу. Во многом это связано с тем, как понимает прозу сам Иличевский. В раннем произведении, переизданном впоследствии под названием «Мистер Нефть, друг», его герой определяет прозу как «осколки разрушенного поэтического сознания» и утверждает, что, в отличие от стиха, «проза не обладает свойством единственности созданного». Вариативность воплощения замысла, не наработанное до сих пор умение выбирать единственно верное выражение, мотив, сюжетную связку тормозят развитие Иличевского как романиста.
Не так уж неправ А. Немзер, учуявший «принципиальную произвольность» романа «Матисс» и предположивший, что этим текстом управляет «неодолимое желание автора выдать здесь и сейчас именно такой стилистический пассаж, философический концепт или сюжетный аттракцион <…> У бомжа Вади <…> оказалось две биографии (“московская” и “южная”) <…> потому, что автору страстно хотелось пустить в дело обе “истории”. Бывший физик взалкал подземельных мудростей и “естественного” (противоестественного!) существования не потому, что окружающая жизнь насквозь иллюзорна и бескачественна и – одновременно – жестока и коварна, напротив, жизнь представлена такой (навязчиво, но с постоянными противоречиями в определениях) для того, чтобы дать возможность герою удалиться под сень струй» [32] . Две наиболее уязвимые черты прозы Иличевского – выворот живого повествования под внезапные причуды отвлеченной мысли и параллельное существование разных вариантов развития сюжета – тут угаданы точно. Следовало ожидать, что новый его роман исправит эти недочеты и станет еще одним шагом автора на переходе от стихотворений к эпосу.
Но «Перс», при всем богатстве и самобытности тем, поэтичности образов юга и небанальной историко-религиозной интриге, оставляет ощущение не выполненного обещания. Отдельные куски романа восхитительны – поэтичны или познавательны, – но он не живет как целое.
Очевидно, что автор пытается выстроить большой текст по законам стихотворения – но, может быть, тогда не стоило утяжелять его изысканную ткань суконными заплатами исторических справок и богословских рассуждений? Текст романа слишком хорошо делится на стихотворения в прозе (для краткости приведу строку-хокку: «Собака гоняет по мокрым блесткам своих следов чаячью стаю»), очерки («Исторический Ширван – сильное обширное ханство, после нашествия Тамерлана отошедшее к Персии и два века назад уступленное России. Ныне топоним сохранился лишь…»), рассказы (например, из романа выпадает открывающая его история матери героя; ср. с вполне самостоятельным рассказом «Гладь», тоже включенным зачем-то в роман «Матисс»).
Автор задействует в романе параллельные сюжетные мотивировки, каждой из которых хватило бы на отдельное произведение. Так, раз от раза продумывая, почему ему следует вернуться на остров детства, герой рассказывает о том, что: тоскует по бывшей жене и узнал о ее приезде в Азербайджан; приятель потащил его в Голландию, со сказками которой связаны детские игры героя, и его потянуло повидать дом и старого друга; он изучает проблему первопредка всего живого на Земле и надеется узнать новое из проб апшеронской нефти. Аналогично множатся доводы в пользу его научных занятий – толкнули его на этот путь не то услышанная в детстве легенда о девушке-нефти, не то собственная философия зрения как мышления, не то желание оправдать свое «безумие», умение слышать движение недр.
Сами сюжетные линии в романе избыточны. Первостепенны в нем, несомненно, линии нефти и религиозной утопии. При этом мифология нефти скорее описывает пространство действия – нефтяной край Апшерона, – а религиозная утопия задает саму интригу. Но и мы, и автор обошлись бы без любовной линии – или без бросков по Голландии, или без социально-метафизической топографии Москвы (тем более что в «Матиссе» уже осуществлен опыт такого рода), или без дэн-брауновской интриги с поиском «Божьего семени» – первопредка живого. В финале романа Иличевский старательно перебирает брошенные на полуслове сюжетные нити (отношения с бывшей женой, поиск первопредка, слушание недр) и пытается обрубить их одним ударом – в развязке религиозной драмы Ширвана. Может ли быть убедительным такое рациональное наложение образных пластов?
Вовсе следовало убрать невротический мотив – главный герой в какой-то момент «вспоминает» о том, что у него «тик» фотографирования, и с тех пор у автора появляется «тик» навязчивого упоминания об этой привычке. Подробность эта ничего не добавляет к и так мало уравновешенному образу героя, а философия зрения, с которой связан этот мотив, не играет никакой роли в «Персе», развивающем другие излюбленные темы Иличевского: нефть, язык.
«Всем, что видел, слышал, придумал и понял, Иличевский щедро делится с нами, читателями. Нам же остается либо с благодарностью принять этот пестрый материал неотфильтрованным, либо никогда не раскрывать его книг» [33] , – выводит Кучерская исчерпывающую рекомендацию для читателей «Перса». Но время писателю подумать о рекомендациях самому себе. Иличевский может выстроить вполне повествовательный, не лирический сюжет – об этом свидетельствуют удача рассказа «Воробей» (близкого к классическому рассказу, без диктата поэтической логики, недаром его принял даже принципиальный оппонент Иличевского Ермолин [34] ) и прорыв романа «Матисс» (в котором излюбленным поэтическим мотивам Иличевского впервые были приданы не маргинальное, но социальное значение и повествовательная сила). Двигаться ли по пути дальнейшей объективизации – от невротического героя, логики сна к социальным наблюдениям, реалистическим скрепам? Или, напротив, доводить до совершенства поэтический строй повествования – в таком случае поверив в «свойство единственности» прозы, учась выбирать единичный вариант ее написания, как слово в стихотворной строке? Что бы ни предпочел Александр Иличевский, важно, чтобы выбор был совершен – и его проза не застыла мертвым ландшафтом красоты, несущей «смерть желания» ее читать.
(Опубликовано в журнале «Вопросы литературы». 2010. № 4)
Манифест новой жизни
Приятно, когда тебя называют девственной фашисткой. Особенно если тебе, 20-летней Белой Шляпочке, говорит это серый сластогубый критик, видавший верстки Волк из влиятельного толстого журнала. Особенно если ты вовсе не о нацизме с ним разговариваешь, а о литературе, и пришла к нему не стрелять, а застенчиво спасать мир от духовного кризиса. Доверчиво положив перед ним статью о великом Сереже и слушая волчьи отрезвляющи речи, ты чувствуешь себя немного революционеркой, и отшлепанным гением, и в угол поставленной музой. Наконец, когда он говорит: «Вы так страстно его воспели. Но то, что вы в нем увидели, – только поза. В нем этого нет», – ты понимаешь, что абсолютно права. И видишь: ему просто немного страшно. В его опытной душе, в отличие от твоей, по годам чистой, вера отравлена пафосной ложью советской пропаганды, образ русского возрождения связан с памятью об итальянском фашизме. Он боится, что ты, молодая надежда, захочешь ввергнуть себя в беспросветную деспотию классовой и кастовой ненависти. И боится за тебя: как бы твой девственно-страстный текст не оказался скомпрометирован обвинением в лжи и бритоголовости. Он не хочет понять, что пришло время очистить старые слова. И простить себя за былую веру в светлое будущее. И перестать сомневаться во всякой фразе с восклицательным знаком. Ибо светлое будущее существует, если в него верить. Я – верю. Верю в то, что мой «великий Сережа» не поза и не литературная маска, а живой человек, который стал для меня символом.
Символов на самом деле трое: символ судьбы – философ-культуролог Освальд Шпенглер, духовного кризиса – писательница Татьяна Толстая, русского возрождения – мальчик Сергей Шаргунов.
Из «Заката Европы» – о рассвете в России. Культуры сменяют друг друга, как поколения людей. Мировая история культур циклична, это пропадающие и снова взбухающие круги на поверхности Мирового океана Духа, следы от брошенного в глубину семени – человека. Семь кругов растворились в вечности: майя, Китай, Вавилон, Египет, Индия, античный и арабский миры. Восьмое кольцо все расширяется, стачивая ободок, стремится охватить собою весь Океан, забыв, что всякая протяженность предельна, – американо-европейский мир. Девятый круг еще младенец, всплеск, брызги – Россия. Она еще далека от познания бесконечности Океана. Она видит только круглые пределы европейской цивилизации и думает, что это и есть ее духовная мать. И пытается сравнять бурление молодой воронки с мерным, техничным покачиванием окружающей европейской среды. Утомленное, расчетливо-мерное шипение на поверхности и глубокий веселый «плюх!», обеспеченная старость и полубездомная молодость, скептицизм и вера, цивилизация и культура – вот различие между кругом восьмым и девятым. Возраст культуры очевиден, телоощутим: старая культура – морщины, ломкая кость, мертвая душа, запах тлена от интеллекта-скальпеля, города-морга, науки-скелета, денег-убийц и массы – кладбища культуры, и – бессилие, безбудущность, религиозная беззубость, костяные челюсти империализма; юная культура – большие, вхватывающие в себя мир глаза, тонкая, боящаяся и алчущая ветра кожа, сила молодецкая, палица-игрушка, горячая кровь – и верится, и дышится, и бьется – не ломается! Освальд Шпенглер предсказал рождение молодой русской души после 2000 года. По его мнению, до сих пор мы не жили, не осознавали себя. Благодаря Петру Первому мы получили модное европейское образование: научились мыть руки перед едой, водить машину и доказывать отсутствие Бога. «Петр Великий стал злым гением русских… Народ, чьим предназначением было еще на протяжении многих поколений жить без истории, был втиснут в искусственную и придуманную историю, дух которой не мог быть понят исконно русскими людьми. В его среду были привнесены поздние виды искусства, науки, просвещение, социальная этика, материализм городов мира, хотя в то время религия была единственным языком, на котором люди могли объясняться с миром» ( Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории.: В 2 т. Т. 2. Всемирно-исторические перспективы. Мн.: ООО «Попурри», 1999. С. 245–246). Споры между западниками и славянофилами, литературные заимствования и революции не были выражением стихийной силы души, а только попыткой ее отыскать. Она ждала нас в новом тысячелетии.
«Вернуть всему на свете соль, кровь, силу должны мы все», – пишет Сергей Шаргунов на своей полосе «Свежая кровь» в газете «Ex libris-НГ» (3 апреля 2003). «Соль, кровь, сила» как атрибуты «свежей крови» – вот против чего протестовал матерый Волк критики, вот в чем он видел «девственный фашизм». Поразительно, как грехи прошлого могут извратить понимание настоящего. Для Шпенглера и Шаргунова кровь вовсе не стоит в одном ассоциативном ряду с кастовостью, кровожадностью, жертвами, насилием. Кровь для них – символ жизненности, слитности с мощью природы, налитой силы тела, рода, народа. Для Шпенглера «кровь» олицетворяет силу новой нарождающейся культуры. Ибо культура не сводится для него к произведениям науки и искусства. Культура – целостный комплекс особенностей быта, государства, искусства, философии, подчиненных «душе» культуры, ее особому видению мира. Молодая культура начинается не с философских понятий, а с религии и «крови» то есть с пробуждения ее духовных и физических сил, еще не тронутых разлагающим анализом и болезненной утонченностью цивилизации.
«Закат Европы» – предчувствие, повесть «Ура!» – сбывается мечта. И дело тут не в литературе. В Сергее Шаргунове пишет молодость, а не литература. Молодость не его собственная, двадцатитрехлетняя, а наша общая, русская, новорожденная («мой победный атакующий пафос не связан с моим возрастом»). В основе повести – вне-литературные лозунги типа «бросай курить – вставай на лыжи» – они-то и есть сияющий знак, космические сигналы, они и предопределяют судьбу.
Шаргунов, мне кажется, и сам понимает: то, что он написал, не литературное произведение, а манифест жизни. Голос «крови». Зов будущего. Именно поэтому его, Шаргунова, образ, в сюжетно-литературном плане равный другим персонажам, то есть модный, курящий, пьющий, слабовольный, в идейном отношении абсолютно не сравним с ними, возвышается над их толпой всевидящим Гулливером. Шаргунов – не литературный персонаж, а реальная, жизненная, знаковая личность. Главный герой его произведений обозначен скромным «Ш." или смелым «Шаргунов" – он не смог бы писать о себе в третьем лице, скрыться под маской вымышленного героя. Ведь для него нелепо – жизнь прятать за спины букв.
«Я проникся красотой положительного». Он не призывает нас исполнять заповеди, жалеть заблудших и прощать врагов. Он не за праведность – за правильность. Что означает это стремление к бытовому благообразию?
Когда Шаргунов пишет, что надо уважать стариков и помнить свое детство – он устанавливает новую традицию, связь поколений. Когда ведет пропаганду здорового образа жизни – пытается высвободить новую, русскую силу из липких оков цивилизованной «расслабухи». «Человек кинут на произвол борьбы, рожден на отмороженные просторы», «но вот закурил человек – и сразу видно: НЕ БОЕЦ», – в этом суть протеста Шаргунова против курения, наркотиков и пьянства. Это протест не бытовой – метафизический. Стихия русской души пробудилась, конь вырвался в поле, волна взорвала мосты – так что же? Оседлать коня и въехать на нем в царство нового духа! На волне доскакать до самого края широкой груди равнин! Стихию – в искусство, в движение, в краски, в звуки! – или спрятаться за телевизор, глаза жвачкою залепить и «ходить сгорбленно и немо, отгородившись от мира наушниками»?
Символично изменение его образа в повести «Ура!» по сравнению с поэмой «Малыш наказан». Поэма – заявление о себе; человек молодой культуры получает имя. Пока он сам – в лапах цивилизации, как в объятиях своей наркодилерши Полины. Он равнодушен, слабоволен и пьян, покорный толпе поколения модных драгс и освежающих бабл-гамс. И все же сквозь общую гнилую слабость пробивается новая, уникальная в этой среде, красивая нежная сила слога, и сравнение себя с юнкером, и образ невидимой армии, и воспоминание о своей детской жажде борьбы. Это – еще беспутная сила, которой неведома ее цель, слепая энергия, которая позволяет употреблять себя для освещения клубов, возбуждения проституток и обогрева неверных дев.
«Читатель, стань членом! Навязчивая мысль о том, что все бренно, – это мысль импотентов», – в повести «Ура!» Шаргунов культивирует жизнеспособность и жизнь-деятельность. Можно воспринимать это как «позу», а можно – как покаяние Ильи Муромца за то, что так долго лежал на печи. Заявления Шаргунова могут показаться чересчур резкими – от желания во что бы то ни стало воплотить свои слова в жизнь. «Ура!» – программа, брошюра юного бойца, манифест человека новой культуры. Статьи в «Независимой» – то же «Ура!», в листовках размноженное. В них тот же сильный, красивый стиль, те же резкие заявления «правильного» человека, то же стремление разбудить, преодолеть, выплеснуть «в местную муть порции яркости» (27 марта 2003 г.).
Станет ли Шаргунов первым среди писателей новой культуры – неизвестно, однако он уже стал первым – вестником этой культуры, ее предощутителем. Есть знаковые совпадения в работах культуролога начала прошлого века и писателя начала нашего столетия. Но то, что у Шпенглера – философская теория, у Шаргунова превращается в обыденное суждение, мысль-обобщение становится отдельно-личным мнением. В этом – суть набравшей силу реальности, которой не нужны идейные обоснования, но которая сама эту идею проводит в жизнь силой врожденного духовного инстинкта.
Так, по Шпенглеру, пресловутое положение России между Западом и Востоком означает влияние на ее судьбу арабской и западноевропейской культур. И Шаргунов это чувствует: «Если быть зорким, то всюду можно заметить новый почерк. По всей нашей территории меж трех океанов вьются граффити-змейки… Это отдельные английские слова или названия хип-хоп-групп, но – арабской вязью… Вот что интересно и на что надо обращать внимание историкам разным – на эту вязь».
По Шпенглеру, суть христианства – смирение и страдание – так и не реализовалась в гордом, человекостремительном католичестве. Христианство исторически уже старо, но по-новому воплотится в русской культуре 2000–2500 гг. Об этом – словами Шаргунова: «Есть в Православии нечто, берущее за душу. Стиль одновременно юный и древний».
Теперь часто вздыхают о буржуазии: ах, да почему же нет у нас среднего класса? Молодое сердце не знает меры – молодое общество не создает буржуазию, позднюю городскую прослойку, более того, активно не приемлет ее, с юношеским максимализмом обличая ее тягу к денежному счастью: «Многие, признаю, радужно переливаются в средний класс… И одна для них существует тема. Тема денег… Общество больно темой денег. Деньги мешают широко дышать… “Смерть деньгам!” – весело шептал я».
Шаргунов, новая русская кровь, уже чувствует в себе новую русскую душу.
Т. Толстая – ДО рождения культуры. Толстая думала, что культуры нет, что души у России нет – их и не было в ее, Татьяны Толстой, крови. Ее «Кысь», по Шпенглеру, это пракультура, пранарод, предшаргуновье. Время романа – вечность: это сотворение мифа, выявление основ русской культуры, а точнее, ее глубинной враждебности всему культурному. В романе видна ненависть к русской жизни, неверие в возможность «духовного ренессанса» в нашей стране. Народ у Толстой лишен творческой силы, а интеллигенция – жизненного могущества, и это – ее крест на русской судьбе. Символом восприятия русского общества как докультурной формации является преставление ее персонажей о «кыси». Это прарелигия, начало религиозного сознания. Кысь еще не миф: не объясняет мир, – но и не Бог: не спасает от мира. Кысь – не вера в потусторонний свет, а страх перед непостижимым. Что произойдет, если кысь «перервет жилочку»? Будет потеряна связь с непосредственной жизнью («такой сам ничего делать не может… он, считай, не жилец»). Жизнь – единственная ценность голубчиков, при отсутствии культуры, национального самосознания, религии. «Бессмысленная, пугливая, упрямая жизнь» – лучшая характеристика мироощущения голубчиков. «Бессмысленная» – потому что не знают, зачем, несмотря на тяжесть и мрак своей жизни, все-таки цепляются за нее; «пугливая» – потому что в их сознании заложен страх перед властью, санитарами, кысью, потерей огня, потому что вся их жизнь – это отвоевание себя и своей дикой нехитрой радости у страха и темноты мира; «упрямая» – потому что они сильны только своим упрямством перед тяжестью и страхом, сильны племенной стойкостью инстинкта самосохранения.
Самое страшное для каждого из них – перестать быть сильным, здоровым, потерять навыки жизни. Неслучайно голубчики считают всякую тоску, всякую тягу к чему-то не связанному с непосредственной, материальной жизнью, утрату жизнелюбия происками страшной кыси. Неслучайно Бенедикту, погруженному в чтение до полного забвения жизни, станет все чаще являться кысь – читающий, он словно кысью перекушенный, «не жилец».
Писательница согрешила: подсунула своему герою книги, элемент развитой культуры, а это преступление против закона жизни. На ней лежит ответственность за грехи санитарного крюка Бенедикта, за его превращение в убийцу. В ее герое, как и в его соплеменниках, еще не родилась народная, русская, новокультурная душа. Ему бы спать на печи еще тридцать лет и три года, а потом встать да извести кошмарную Кысь. Он сильный прекрасный ребенок, тонкокожий варвар. Он любит борьбу-победу, хозяйство-победу, женщину-добычу – он прадед Шаргунова. А Толстая взяла его жестко за пухлые руки – и сковала перчатками, притронулась к мощному лбу, который и голод, и холод пробивал – и стиснула очками, выпила его молодую кровь – и заперла в библиотеке на шестьдесят шесть лет и шесть дней. В начале книги ее герой мифический, но живой персонаж, Илья Муромец; в конце – легендарный маньяк-убийца-революционер, о котором ни мы, ни она, ни он сам – никто не знает, зачем он живет. Хотя он и читает, чтобы узнать, зачем. Именно по отношению к Бенедикту прав Шаргунов: «Каков смысл жизни? Что за глупый вопрос. Лучше спросите: а каков смысл совокупления?… Если в момент секса рефлексировать о том, что секс так или иначе закончится, – у тебя обвиснет. Ну и человек, если не продирается сквозь заросли жизни, – он сдувшийся и скисший, словно орган у импотента». Бенедикт, природная сила, человек-член, стал искать смысл жизни в книгах, вместо того чтобы жить да мышей ловить, – и, что совсем не странно, тут же потерял понимание этого смысла. А перестав понимать, зачем живет, он начал убивать эту жизнь в поисках ее мертвого отражения – книги. Бенедикт теперь некрофил. В его руках оживает смерть, а книги дохнут.
Татьяна Толстая – Кысь. Кинулась на прадеда Шаргунова, перекусила жилочку – и бросила нам его труп, формочку только нарождавшейся души.
Сергей Шаргунов – первый богатырь, вырвавшийся из плена докультурного, кысьего времени. Бенедикт, научившийся говорить. Если верить Освальду Шпенглеру и собственному предчувствию, «свежесть» его «крови», его молодость и души подобных ему молодых людей помогут возрождению России, ее души, ее религии, ее судьбы.
(Опубликовано в журнале «Пролог», 2003)
Матрица бунта
Захар Прилепин и Роман Сенчин
в традиции интеллигентского самосознания
На рубеже девяностых – двухтысячных годов российская культура, заведенная энергией самоотрицания, вынудила тогдашних публицистов и критиков обсудить как будто давно решенный вопрос: в истории литературных журналов это было время настоящего бума дискуссий о том, что такое русская интеллигенция, есть ли она, за что понесла ответственность, за что ей еще придется отвечать. По общему признанию выходило, что интеллигенции как сословию пришел конец. Но в то же время невозможно было отрицать, что, хотя сословие и распалось, отдельные представители все равно не прочь называть себя затрепанным в спорах именем. Получалось, что интеллигенция умерла, а самосознание ее живет.
Эта в очередной раз выявленная противоречивость русской мысли побудила меня задуматься о писателях, на данный момент олицетворяющих вопросы нашего культурного и общественного самосознания. Сверхлитературный характер творчества, направленного к выяснению мир утверждающей, мир переворачивающей правды, потенциал властителей дум нового литературного (и не только) поколения позволяют сопоставить Захара Прилепина [35] и Романа Сенчина [36] как молодых восприемников интеллигентской традиции.
1. Труд беспочвенности
Интеллигент возникает в пропадающих обстоятельствах. Ветшает эпоха, пересыхает среда, тускнеет смысл, ржавеет обычай, истончаются связи, обваливается жизнь – человек чувствует, что не от чего ему оттолкнуться для следующего шага. Беспочвенность – слово, шельмующее интеллигенцию с легкой руки философа Г. Федотова [37] и призванное, в силу самой своей конструкции, обозначать изъян, недостачу. Федотов исследовал «отрыв» от почвы как «отрицательный» идеал русской интеллигенции – исторически обусловленный «повелительной необходимостью просвещения» застрявшей в старине России. Беспочвенность, таким образом, раскрыта Федотовым как явление относительное – национальное, историческое, обреченное возникнуть при царе Петре и сгинуть в русской революции.
Между тем с переменой общественных обстоятельств беспочвенность не только никуда не девается, но открывает свое существо как принципиальной и неизбывной тревоги земной жизни. Каждый человек на своем веку не раз бывает приведен в ситуацию жизни «без…». В историческом, национальном, конкретном опыте русской интеллигенции дано было воплотить всечеловеческую, экзистенциальную ситуацию беспочвенности – таков новый взгляд на уникальность ее культурного положения. Русская интеллигенция пережила свою сословную историю как притчу, вобравшую в себя поучение о духовной свободе для поколений вперед. Потому-то, несмотря на всемирную распространенность интеллигента, именно России дано было вписать его имя в свод священных типов человечности.
Самоуничижительная тяга к народному, простому, всеобщему в сознании русской интеллигенции была оправдана конкретными, историческими обстоятельствами ее возникновения. Дело революции, которому посвятила себя интеллигенция, было направлено на самоустранение, на выход из мучительного положения посторонней, лишней, исключительной силы, живущей вразрез с национальным духовным целым.
Невроз воссоединения с почвой был главным сюжетом в истории русской интеллигенции. И представление о народных корнях было исторически конкретным образом почвы, явленным в ее судьбе. Но то, к чему стремился русский интеллигент в образе народа, куда древнее, масштабней и прельстительней.
Понятие «почва» темно, архаично, неразложимо на элементы и неистребимо в культурной памяти, как текучая твердь натуральной земли под бредущими, не замечая опору, ногами. Оно завораживает магией символа, как имя всякой стихии. Но, несмотря на мистический дух, понятие вполне доступно рационализации. Почва во внеисторическом, философском смысле – синоним данности. Всего, что человек не выбирает свободно в результате осознания себя, а вбирает безлично, не задумываясь. Семья, среда, природа; приемы, правила, традиции; естество, жизнь, время – все это почва жизни, прирастающая каждой вновь рожденной душой, растворяющая единичность во всеобщем, возмещающая исчезновение отдельного элемента цикличным повторением его судьбы в миллионах подобий.
Лишиться почвы – значит оказаться в ситуации не гарантированных смыслов. Такая утрата может стать отрицательным основанием свободы: когда принципы жизни не определены, сознание испытывает будоражащую ответственность за самостоятельный выбор. В риске беспочвенности, когда ломается автопилот сознания и начинается его свободное самоопределение, открывается возможность для творения не-бывшего. Беспочвенность дает ход творческой, не обусловленной деятельности сознания, запуская интеллектуальный поиск как особый тип существования.
Драму и силу свободной сознательности призвана выразить фигура интеллигента. Межеумочный, на полдороге, ни то ни се, интеллигент по определению существует на острие: шаг влево, шаг вправо – и существо его перерождается, все равно, улучшаясь или деградируя, главное – избывая беспочвенность, ситуацию поиска, которая подарила ему бытие. Исследуя публицистику «веховцев» как «новый способ мышления», Г. Померанц вышел на догадку об интеллигентстве как вневременном, вненацинальном типе сознания – «незавершенного, вопрошающего», «кризисного» по определению [38] . Знаменательна солидарность столпов интеллигентского самосознания в России – Померанца, Аверинцева, Лихачева – в утверждении беспочвенности сознания как неизбывного свойства интеллигента, которому они вменяли в обязанность свободу даже от собственных, самостоятельно выработанных, успокоительно найденных идей [39] .
Вот и ответ на давнюю загадку об отличии интеллигента от «просто хорошего человека» [40] . Доброта – уже природа. «Хороший» человек делает доброе по природе, не задумываясь о доброте как основании своего поступка, тогда как вся боль интеллигента – об основаниях, причине причин, тверди, от которой оттолкнуться для действия. Поступок интеллигента – это не только результат решения вопроса, но само это решение. Синонимичным обозначением интеллигента поэтому будет никакой не «хороший человек», а человек думающий (ищущий, рефлексирующий). Стоит только обрести постоянную основу для поступка, отменить процесс ее испытания и проверки, как интеллигент переходит на иноприродный ему уровень духовности – автоматический, обывательский (в худшем случае) или просветленный, знающий (в лучшем).