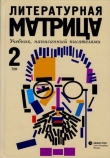Текст книги "Матрица бунта"
Автор книги: Валерия Пустовая
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 34 страниц)
Но антиномичный принцип рефлексии, постоянно ищущей, как бы выступить за пределы данности, разорвать инерцию уже известных ответов, отстраниться от воспринимаемого, приводит к тому, что антигерой отстраняется от собственного самосознания, впуская в него предельно чужеродную логику Другого.
Пик самоотрицания – повесть «Вперед и вверх на севших батарейках», отчаянное произведение, в котором происходит отчуждение личности героя от своего существа. Сущностное (внутреннее) рассмотрено здесь как обусловленное (внешнее): герой-писатель ощущает литературу как необходимость, позу, статусное бытие, «капкан».
Надлом духа писателя с прозрачностью аллегории запечатлен в названии повести: «Вперед и вверх на севших батарейках» – это образ зияния между социальной активностью писателя и спадом его творческой силы. Писательство начинает восприниматься как психологически комфортный для маргинала способ встроиться в общий ход жизни: «Как ни крути, а это мой хлеб…». Письменный стол трансформируется в лавочку – ключевой образ рассказа «Чужой», выражающий писательское подполье как не духовную, а социальную позицию. «Каждый пытается по-своему зажить как человек. У меня есть писательство», – но в прозе Сенчина жить «по-человечески», «как человек», означает максимальное слияние с данностью, драму отчужденного, объективированного бытия (сравним подобные выражения в рассказах « Погружение », « В норе » и « Вдохновение », повестях « Проект » и « Ничего страшного »). Эта в новых социоэкономических условиях «сдача и гибель» интеллигента карается реализацией его духовного выбора: писательство оставляется герою как статус и отбирается как бытие – что по-простому выражается словосочетанием: «не пишется».
Экзистенциальный надлом усугубляется сломом коллективного самосознания литературов в постсоветскую эпоху. Это переживание того же рода, какое испытывает «пацан» Прилепина, в безгеройный век взваливший на себя бремя национального подвига. Так и герой-писатель в прозе Сенчина вынужден существовать в вакууме литературной традиции [69] , ощущая себя не благословенным занять опустевшие пьедесталы «больших» писателей, но дерзая быть причастным к ним в своем самосознании.
Самосознание писателя – единственное, что в прозе Сенчина оправдывает писательство: романтическим категориям дара, экстаза, демона творчества здесь места нет – недаром и давшее называние одному из рассказов «вдохновение» носит не поэтический, а познавательный, не возвышающий, а разоблачающий, не мечтательный, а отрезвляющий характер. Герой Сенчина пишет не потому, что он чувствует в себе право дара – так же как «пацан» Прилепина вступает в борьбу вовсе не от избытка мужества. Обоим дано воспроизвести сакральное предание прошлого в их самосознании: пистолет «дополнил» «то ли душевный, то ли телесный вес» Саши Тишина «до необходимой тяжести» («Санькя») в точно таком смысле, в каком письменный стол («стол, стул, какая-нибудь тумбочка под бумаги» – « Вперед и вверх на севших батарейках ») делает полновесной личность героя-писателя Романа Сенчина. Оба жертвуют радостью непосредственной жизни – выбранной модели существования: «“Я мрачный урод, – думал Саша спокойно. – Я могу убить. Мне не нужны женщины. У меня нет и не будет друзей”» («Санькя») , «Зачем трачу драгоценное время, теряю силы на переживания, на самобичевание, что живу не как большинство? <…> Ведь мое назначение не в этом, я здесь не для этого. <…> Это моя работа. Судьба. Я буду монахом. Монахом литературы» (« Вперед и вверх на севших батарейках »).
«Не пишется», «что пишешь», «пишешь что», «зреть для того, чтоб сесть за стол и продолжить повесть», «переключиться на писание» – героя повести заботит только свое самостоянье как писателя, потому что от этого зависит его существование как личности. Недаром слово «героический» появляется в повести о кризисном самосознании героя-писателя – когда он, анализируя свою жизнь, вспоминает пору «особого жара» за письменным столом (« Вперед и вверх на севших батарейках »).
Связь «писания» и существования «подпольного» убедительно раскрыл Бирюков на материале «Записок из подполья»: «Первое жизненное отправление антигероя – он говорит. Второе – он пишет. Антигерой – писатель по самому типу своей (не)жизни, он не может не писать. Но писать ему не о чем, кроме того, что ему не о чем писать. Антигерой – писатель без предмета писательства и потому писатель абсолютный, а литература, которая получается в результате этого писательства, есть литература абсолютная: она в той же мере литература, в какой и жизнь, и в такой же мере жизнь, в какой литература» [70] .
Для того чтобы дойти до осознания литературы как призвания, а не социального положения автогероя Сенчина, понадобилось время и ему, и наблюдавшей кризис его самосознания критике. Совет утверждать себя от противного – через опробование отталкивающей, пугающей модели существования, – данный мною герою Сенчина в пору появления его манифестов писательского упадка (рассказ « Чужой », повесть « Вперед и вверх а севших батарейках ») [71] , был, конечно, методологически неверным. Он игнорировал подпольную природу героя и потому мог только усугубить власть отчужденной логики Другого над его и так надломившимся сознанием.
Писательство не «хлеб», а живая вода. И потому проваливаются все попытки героя оправдать свой способ бытия логикой Другого – «прямоугольничками» заработанных литературным трудом денег, заграничными командировками. Показывая нам не пишущего писателя, выбравшего литературу как стратегию социального выживания, повесть «Вперед и вверх на севших батарейках» от противного доказывает экзистенциальное существо писательства как способа бытия.
Поначалу поддавшись инерции традиционного самовосприятия интеллигенции – обличая рефлексивное бытие писателя, художника, ученого как романтическую иллюзию бегства от общего, «обывательского» хода жизни (« Сказка про сказку », « Наш последний эшелон », « Минус », « В норе », « Ничего страшного »), – Сенчин постепенно приходит к пониманию глубинного равноправия моделей бытия, затрагивающих существо личности, будь то личность художника или молочницы, музыканта или менеджера (« Малая жизнь », « Лед под ногами »).
Тут место возразить С. Белякову, указавшему направление писательской эволюции Сенчина от героя «автобиографичного и автопсихологичного» к так называемому «маленькому человеку» как герою «типичному и узнаваемому» [72] . Проза Сенчина, по нашему мнению, стремится именно что к изживанию «маленького человека» как типологического явления – через устранение ложной позиции человека «большого». Не случайно ведь, что персонажи, формально подпадающие под маркировку «маленького человека», переживают у него драму безопорного существования точно так, как это делает герой-художник, как будто покинувший пределы общего с ними контекста. Сама ситуация обывателя – его неудача, апатия, усталость, выражающие неумение личностно совпасть с порядком вещей, – совершенно той же, экзистенциальной природы, что и по виду исключительная, «романтичная» драма художнического выпадения из жизни.
«Маленький человек» – это персонаж социальной, обусловленной, а не философской, доходящей до предельных оснований мысли. Неравенство, относительно которого можно определять какого-то человека как маленького, существует только в отношении денежных сумм, в отношении же бренности денег все равны. Пойдем дальше и увидим в фигуре «маленького человека» не только инерцию обусловленного мышления, но и пережиток культурного невроза.
«Маленький человек» – традиционный объект мышления русского интеллигента, взывавший к его самоумалению как «большого», провоцировавший чувствовать себя «лишним». Исторически обусловленная исключительность русской интеллигенции взвинчивала в ней невротическое высокомерие избранного народа, которому одному дан ключ к спасению. Но врата открыты для каждого – в феномене духовной жизни, объединяющем все человечество в его принципиальном существе. Призывая литературу возвратить внимание к судьбе «маленького человека», Беляков продлевает жизнь историческому неврозу литературного, интеллигентского, культурного самосознания в России. Сенчин же, напротив, интеллигентское самосознание обновляет, снимая народнический невроз разорванной общности. Писатель и обыватель в его прозе оказываются породнены нуждой в сущностном бытии.
Литература. Импульсом к повествованию в прозе Сенчина является потребность в рефлексивном испытании правды с тем, чтобы поставить ребром мучающий вопрос. Прилепин силой эмоции дотягивает до аксиомы любое предположение, Сенчин, наоборот, любую аргументированную предпосылку может развить до ее противоположности, силой мысли подточить свое же доказательство. Не случайно одни и те же сюжеты разыграны Сенчиным с разным раскладом правоты, с противоположных позиций, и потому с несовпадающими выводами: вспомним хотя бы, как он и так, и этак вертит ситуацию побега художника из города в деревню (« Чужой », « В норе », « Проект », « Малая жизнь »). Смена персонажей, исходных мотивов позволяет менять точки осмысления ситуации, возобновлять спор с самим собой, так и оставаясь не убежденным.
В прозе Сенчина поэтому мечта предпочтительней авантюры, намерение существенней поступка – рефлектеру достаточно углубиться в замысел для того, чтобы оценить действие, и корни его, и плоды. По мере созревания автора эмоции уступали место анализу, позволяя увеличивать глубину проникновения в смысловое существо вопроса, преодолевать барьер первоначальной стрессовой реакции.
Сверхлитературная задача этой прозы оставляет по исполнении избыточное количество черновых обработок вопроса. Каковы параметры художественного достижения в такого типа литературе? Как отделить существо от материала [73] , прорыв от провисания [74] ? Видимо, художественность тут приходится измерять, исходя из источника вдохновения: опыт рефлексивного проживания преображается в литературу тогда, когда автору удается в наибольшей степени продвинуться к предельным основаниям исследуемой ситуации, увидеть за социальным – экзистенциальное, за классовым – универсальное.
Сходны по стержневому сюжету упущенной любви повести «Один плюс один» и «Минус». Но первая исполнена чистой музыки тоски, тогда как вторая замутнена анализом социальных язв, посторонних духовной жажде героя, и отвлеченными рассуждениями по любому поводу.
Захламлена поверхностными заботами, как коробками из-под обуви, история неудавшегося предпринимателя из повести «Нубук», – интересней вялые похождения героя «Минуса», которому автор позволил сосредоточиться на самоощущении души.
Задевает фельетонная злость романа «Лед под ногами», – но дороже и глубже эффект всепрощения, который вызывает картина всечеловеческой экзистенциальной катастрофы в повести «Конец сезона».
Трогает, и только, социально обусловленное уныние институтского преподавателя из повести «Ничего страшного», – но потрясают пронзительное отчаяние его дочери, осознавшей себя перед лицом времени.
Убавленная громкость и нарочитая некрасота прозы Сенчина выдает ее предельно не прагматичный характер. Это безнажимная эстетика: писатель не ставит цели навязать себя, занятый одною определяющей его жизнь правдой. И, по сути, тексты его обращены к таким же задумавшимся над собой одиночкам, к тем, кто способен оценить весомость поставленного им вопроса и готов, растравленный прочитанным, самостоятельно его разрешить.
Роль в культуре. Когда потребительским мейнстримом освоены все популяризируемые сферы духа (вспомним тему вырождения рок-подполья в рок-агитацию в романе «Лед под ногами»), не-зрелищное, трудное, серьезное слово приобретает вес поступка. Проза Сенчина представляет собой пример осознания слова как дела, не нуждающегося во внеположенном ему оправдании: «Пока есть возможность не стать насекомым – лучше всеми силами не становиться. Бороться с обитателями муравейников (ульев, осиных гнезд, термитников, опарышевых убежищ) всеми средствами. Лучше – словом. Ведь только у человека есть дар слова и средства, чтобы слово запечатлеть. Лучше писать о насекомых, чем становиться насекомым. Насекомые писать не могут, и пути из насекомого обратно, кажется, нет. У жизни не предусмотрен задний ход» (« Не стать насекомым ») [75] .
На каких весах соизмерить успех писателей столь разной природы? Премия «Нацбест-2008» Захару Прилепину, популяризирующая жанр рассказа как перспективный для книготорговли, – заметка Романа Сенчина, которая не одного писателя спасет от творческого самоубийства.
(Опубликовано в журнале «Континент». 2009. № 140. Печатается в дополненном и исправленном варианте).
Ничё о ником
Апофатик Пелевин
«Писатель, в эпоху которого служили народу Брежнев, Горбачев, Путин», – отшучиваются издатели в аннотации к его последнему роману [76] . Если мерить время Пелевиным, то конец девяностых запомнится как период его вынужденного ухода в подполье – а излет нулевых как затянувшаяся инаугурация.
Десятилетие назад представители литературного сообщества не только не отметили «Русским Букером» его наиболее значительный роман «Чапаев и Пустота», но даже не включили Пелевина в список финалистов премии. Этот, с сегодняшней точки зрения, казус стал поводом к концептуальному выступлению маргинального философа и публициста Сергея Корнева, который, в противовес профессиональному жюри, показал Пелевина духовным и эстетическим лидером современной словесности, на новом этапе развивающем идеи русских классиков [77] .
Теперь Пелевин из рук читателей культурного портала «Openspace.ru» получил титул самого влиятельного интеллектуала России [78] . К этому времени и «Русский Букер», и профессиональное сообщество литераторов, когда-то отправившие его в андеграунд, сами перешли на маргиналии общественного сознания. И наоборот, публично, волей электората утвержденный авторитет Пелевина ввел его в новую культурную номенклатуру. Сегодня этот писатель – один из элементов общественной стабильности: из никому не удобного оппозиционера, каким запечатлел его Корнев, он превратился в лидера, который устраивает всех. Это новое положение писателя вполне отразилось в эссе публициста и прозаика из тридцатилетних Германа Садулаева. В противоположность Корневу, он развенчивает Пелевина как духовного гуру и эстетического радикала, показывая его «шутом», чья простецкая философия удовольствия обслуживает привилегированные слои современного капиталистического общества, а словесные фокусы дурят народ [79] .
Зеркальные по смыслу выступления Корнева и Садулаева решают на деле один и тот же вопрос, сопутствовавший всем достижениям Пелевина: возможно ли снискать популярность, оставаясь серьезным писателем? Не только в писательской репутации Пелевина заложена эта двойственность: тиражи и цитируемость популярной литературы – при идейной задаче и культурной памяти литературы качественной, даже элитарной. В самом его творчестве разделение на «высокий» и «низкий» план очень заметно, и именно это не позволяет однозначно определить, кто перед нами: интеллектуал или «шут», философ или сатирик, большой писатель или памфлетист, актуальный, пока живы описанные им реалии?
Особую трудность для критики стал представлять тот факт, что в каждой последующей книге Пелевина обновляется только «низовой», смеховой, популярный план, тогда как на уровне высоких смыслов со времен «Чапаева и Пустоты» ничего не сдвинулось. Кто видит в Пелевине только ловкого пересмешника актуальной действительности – с них довольно и того, что автор устроил правящим мифологемам «революции» и «культурной традиции», «рекламы» и «политтехнологий», «гламура» и «дискурса» публичную порку, сиречь деконструкцию. Но что думать тем, кто, подобно Корневу, ценит пелевинский дар ставить и разрешать вечные вопросы на языке, понятном эпохе победившей виртуальности?
Пелевин-философ начал отставать от Пелевина-сатирика. И его влиятельность как интеллектуала – не инерционного ли толка? Сохранившие мессианский тон, его новые вещи не звучат как откровения. То, что стало возможным выявить «формулу творчества» Пелевина, как это сделал критик Андрей Степанов [80] , говорит не столько о цельности сложившегося понимания писателя, сколько о схематичности, а значит, мертвенности его творений.
Если избегать формул, можно сказать, что книги Пелевина устроены как один и тот же фокус – с ящиком. Роман его выдвигается, как большой полый короб, куда кладутся добровольцы и аксессуары по вкусу: дорогие часы и мечты, красотки-ассистентки и зазевавшиеся зрители, – и после демонстрации заполненного нутра задвигается обратно, с тем чтобы ничего не вернуть. Это против цирковых правил – но вполне отвечает задуманному эффекту: когда фокусник не возвращает нам самое дорогое, мы ощущаем острую, не обыденную радость. Нам становится легко и свободно, так, словно и мы исчезли с нашим самым дорогим и нас тоже никогда не вернут этому тесному темному залу с типовыми сиденьями.
Нетрудно понять, что в таком случае все то, что находится у нас для заполнения ящика, – только необязательный реквизит для фокуса, а вот ощущение освобождающей утраты – его необходимый, постоянный итог. Заметим и то, что вес, плотность, достоверность, фактурность «реквизита» для фокусника не важны сами по себе – они только добавляют эффектности, веса, достоверности нашему переживанию.
Наиболее богатый культурный слой подвергся ликвидации в «Чапаеве и Пустоте». Сама по себе глубокая рифма социальных катастроф – революций семнадцатого и начала девяностых – утягивала в воронку междувременья опорные явления русского культурного сознания: поэтическое мессианство и народнические искания, бунт против лжи и провозвестие царства правды, мистику и фольклор. Дальше контекст мелел. Древнекитайский колорит «Священной книги оборотня» – уже только подложка, оттеняющая историю непродажной любви в эпоху социально-политической проституции. А, скажем, гламурный пантеон кровососов в «Ампир В» – просто шутка, основанная скорее на малоприличной ассоциации их способа питания с современными пиар-технологиями, нежели на древней культурной мифологии вампиров.
Можно предположить, что беда пелевинских романов та же, что беда нашего общества: нам не с чем стало прощаться, нечего положить в ящик фокусника. Но сам этот архаично-простой фокус удивительно соответствует духу эпохи, когда виртуальные сущности, репутации, лица, идеи возникают ниоткуда и исчезают в никуда, как электронные вздохи глобальной Сети. И потому Пелевин продолжает наскребывать у публики не сбытые с рук артефакты.
Критики давно угрожают публике «последним» романом Пелевина. Именно с точки зрения культурного наполнения его последний по времени роман «Т» подходит под такое определение. После периода усиления сатирической линии («Ампир В», книга рассказов «П5») Пелевин возвращается к масштабу и серьезности «Чапаева и Пустоты». Роман «Т» создает ощущение «классического» Пелевина, и не в последнюю очередь благодаря дореволюционному русскому быту и его персонификации – «графу Т.», русскому классику Толстому. Литературная классика в романе «Т» имеет то же значение, что революция в «Чапаеве и Пустоте»: это культурный миф, обладающий такой степенью устойчивости, общеизвестности и плотности, какая наиболее эффектно оттеняет искомые автором изменчивость, непознанность, пустоту.
Но вот то, что после зондирования актуальной действительности Пелевин обратился к уже изрядно потрепанному мифу о русской классике, – тревожный симптом. Приходится бояться даже не того, что роман «Т» «последний», а того, что миф, легший в его основу, как бы не последний устойчивый общенациональный миф в нашей культуре. Для всякого российского литератора это уж точно отчаянный, под финал вытащенный козырь. Пелевин написал о Чапаеве и русской революции, о Толстом и русской литературе – остался, пожалуй, только русский царизм с его «грозным» или усатым лицом.
К этому беспокойству добавим обманутые ожидания: нельзя не обидеться на то, что мы, современники, все меньше Пелевину интересны. Антураж начала прошлого века, барыни и крестьянки, усадьбы и цыгане – как можем мы отразиться в этом, что может на это в нас отозваться?
Но и усадебным мифом нам насладиться не дадут.
Деконструкция в романе уж слишком стремительна. Едва приручив наше внимание неспешной беседой двоих в купе поезда, автор срывает маски: пассажир в облачении священника оказывается переодетым графом Т., а его попутчик – сыщиком, посланным схватить его, и оба достают револьверы. С этого момента повествование Пелевина не узнать. Заболтавшийся автор как будто задумал подкрепить свои отвлеченные рассуждения «кровью» – метафорически, если иметь в виду завязку и резкие сюжетные повороты, достойные киношки с погонями, и буквально, если принять во внимание живописание перестрелок с крупными завершающими мазками вроде «большой лужи крови, где размокал теперь клобук». Но и в этого «нового» Пелевина нам не дают поверить: вслед за автором перестает совпадать с собой описываемая им реальность. Плотный мир в романе исполнен дутыми словами, разреженными деталями, картонными образами. Ощущение фальши преследует читателя с самого начала в виде беспомощного слова «странный», которым автор дежурно характеризует все сбои в повествовании. Так же настойчиво повторяются в романе сравнения: здесь все на что-то похоже и оттого все меньше является самим собой. Обстоятельства действия – плавучий дом на барже, лес, призрачный Петербург – описаны с такими вычурными подробностями или такой скупой безыскусностью, что нельзя читать без усмешки даже самые достоверные элементы описания вроде «стоял зимний вечер» или «шелковый халат с кистями». Нет ни халата, ни зимнего вечера, ни леса, ни корабля – в художественном отношении они недолеплены, непропечены. Сыроват и сам граф, русский классик, комично исполняющий трюки с оружием как раз в те моменты, когда и читатели, и массовка в романе ждут от него духовного, учительского жеста.
Отсутствует, наконец, главное условие доверия к такого рода экшн-повествованию – увлеченность самого героя, неоспоримость внутренней мотивации в его похождениях. Все вокруг графа знают кучу фактов и доводов, почему ему следует переживать – страх, гнев, азарт. Но по «странному» случаю граф Т. не помнит, куда и зачем направляется и за что его преследуют вооруженные отряды. Бесстрастность графа – основной источник фальши в сценах погони и сражений.
Попавший в этот переплет словно против воли, граф Т. вслед за нами начинает воспринимать происходящее как плохой, пустой и путаный, роман. И ни ему, ни нам не становится легче, когда мы узнаем, что и такой взгляд на происходящее предусмотрен авторским замыслом.
«Низовой», сатирический, актуальный план романа наконец обнаруживается, как горошина под сотней тюфяков. Занимающая в сюжетном и смысловом отношении место самое незначительное, актуальность колет читателя, как принцессу, не давая «забыться», увлечься книгой. Не только ретроспекция дореволюционной России, внезапные погони и поединки, но и с первых глав романа затянувшиеся споры о многобожии оказываются всего только частью дешевой литературной игры – но не Виктора Пелевина, а его воображаемого коллеги Ариэля Брахмана.
Стоило этого ожидать: вслед за уже использованными метафорами, или, как их называет Пелевин, «аналогиями», которые наглядно представили читателю иллюзорность его существования, должны были явиться и образы «автора» и «героя». А чтобы усилить действие привычной, в общем-то, аналогии «жизнь как текст», допустим, что мир и странствие графа Т. создает не один автор, а пятеро, причем задача их совместного труда то и дело меняется по совсем не литературным причинам.
И вот, казалось бы, перед нами роман о литературе, о классике – но на поверку выходит, что мифология литературы и творчества в нем едва задействована. Поединок Толстого и Достоевского, во время которого названия их хрестоматийных произведений используются как обозначения боевых приемов, или мертвые души, подменившие зомби в мистическом триллере, или, скажем, алхимия бытия персонажа на примере Гамлета могут пополнить профессиональный фольклор литераторов. Но затрагивают в классике именно специфическую, творческую механику, а не общечеловеческое смысловое поле. Вовсе узок актуальный образ литературы: сатирический план романа посвящен не литературе даже, а скорее книгоизданию. А поскольку издательский бизнес показан в «Т» как часть современных пиар– и политтехнологий, то в романе использованы прежние сатирические наработки – например, шутки о СМИ, некоторые карикатурные персонажи, обличение потребительских ожиданий и тотальной продажности как механизма социального регулирования.
Досадно и то, что нравоописание современного книжного бизнеса снижает градус диспута о религии, в который вовлечен граф Т.: «автор» и «герой», получается, явлены нам не для иллюстрации природы нашего бытия, а для того, чтоб рассказать, «как пишутся рукописи в двадцать первом веке».
Наконец, не может не оттолкнуть от книги слишком очевидная умышленность, пригнанность сюжетных швов. Последовательное разрушение привычного восприятия и самого воспринимающего субъекта – метасюжет пелевинской прозы. Но в «Т» реальность нам «объясняют» так часто и многообразно (теряешь терпение, когда выясняется, что очередная сцена с отстрелом мертвяков на улице призрачного Петербурга была только сном графа Т., не имеющим продолжения в основном повествовании), а возникающие погрешности в логике исправлены так дешево (чего стоит ядовитое снадобье, отнявшее у графа память), что восприятие только затуманивается. Пробуждение разума от сна о вещах – к созерцанию духовного существа мира всегда было кульминацией Пелевина, вслед за которой следовала развязка: расколдование реальности, растворение плотности в пустоте, слияние многообразия вещей в едином истоке жизни. Поспешные и противоречивые объяснения реальности, конкурирующие друг с другом в романе «Т», пародируют и изнашивают этот ключевой для прозы Пелевина сюжет.
Итак, план сатирический, «низовой», актуальный в романе «Т» художественно бледен, усложнен, механичен, к тому же вторичен и без смеха пародирует уже наработанные приемы и сюжеты Пелевина. Иными словами, скорее мертв, чем жив. Но «кровь» в романе – не пахнущая типографской краской, не проливаемая картинно – все-таки стучит. И источник этой жизни, как ни странно, – в наименьшей степени привязанный к реальности философский план.
Путешествие к истине на границе смерти – главное, что роднит графа Т. с его великим прототипом. Последнее странствие Толстого превращено Пелевиным в универсальный сюжет человеческой жизни.
О том, что он следует в Оптину Пустынь, граф Т. впервые узнает от своего преследователя и с той поры пытается выяснить цель и конечный пункт этого пути. Ибо – поправка на Пелевина – в романе ни сам граф, ни его многочисленные враги не знают в точности, что за место или мистическое состояние обозначено этим словосочетанием. «С оружием в руках пробиваясь к неясной цели», граф Т. напряженно размышляет над предельными основаниями этой насыщенной перипетиями, но бедной смыслом жизни. И вопреки мнению его воображаемого автора Ариэля, планирующего вычеркнуть внутренние монологи графа: мол, читателю интересны «сюжет и чем кончится», – именно размышления героя в романе наиболее увлекательны, последовательны и динамичны. Человек в графе Т. перерастает персонажа триллера, и через это человеческое мы наконец распознаем что-то свое, привычное в его экзотических обстоятельствах.
Ни мертвяки, ни цыгане, ни говорящие портреты, ни отшельник в канализации не трогают воображение – но задевает само плутание между ними в отсутствие цели и оснований для поступка. Все картонно вокруг – но полнокровен герой в муке богооставленности. Дурацкий триллер утомляет его в том же смысле, в каком изматывает человека самая обычная жизнь, протекающая в удалении от источника правды и ясности, на пути к «оптиной пустыни».
Кто сказал, что самосознание – проблема интеллектуалов, заморочки графьев? Только не Пелевин, разыгравший драму бытия в сознании проститутки («Зал поющих кариатид»). Свобода от социальной пристрастности – первое, что делает сатирика философом. Герман Садулаев, изучая гипотетическую проекцию пелевинских книг на социальную практику, подзабыл оригинал.
Пелевин «поет» народу о его «желаниях»? Желания его героев не только не исполняются в финале произведений, но и меняют свою природу. То, чем только и может быть занят герой светской литературы – взаимность, брак, карьера, слава, богатство, – лишается для них смысла, остается в прошлом вместе с обыденным взглядом на реальность, ищущим поживы. История пелевинского героя всегда история духовного роста, в рамках которой потребительство отвергается как смешное и жалкое заблуждение.
Пелевин – последователь материалистического учения, научающий «не заморачиваться метафизикой»? Принять за материалиста писателя, сосредоточенного исключительно на вопросах сознания, – слишком грубое допущение, чтобы не назвать его ложью.
Ну а выставить Пелевина идеологом «масонской, иллюминатской структуры, на вершине которой “просветлённые”» заняты «эксплуатацией иллюзий невежественных народных масс», мог только автор романа, в котором современная социальная реальность изображена как результат мирового заговора гермафродитов («AD», 2009).
В заочном споре Садулаева и Пелевина столкнулись публицист и мыслитель. Публицист, употребляющий словосочетание «высшие уровни» как синоним распределителя «денег, власти и красивых женщин», никогда не сможет адекватно судить о мыслителе, для которого «ад» – это «омерзительное состояние ума»: просто потому, что идеология социальной зависти не имеет точек пересечения с исканием истины.
«Нет истины» у Пелевина, говорят нам. Тогда как свободен у него только тот герой, кто «правду про себя знает» («Т»). И что с того, что прийти к этой правде можно в его мире только отрицательным путем, избавившись от всякого положительного самоопределения? Правдоискательство роднит Пелевина с его оппонентом Толстым, чью привязанность к бытию он высмеивает в единственной целиком реалистичной главе романа, а этику подвергает испытанию абсурдом. Как бы ни были далеки эти писатели в понимании задачи жизни, все же вопрос «что есть Я?», которым задается Пьер Безухов, – очень пелевинский вопрос. А своим последним романом Пелевин, кажется, невольно задал вопрос толстовский – «что такое искусство?»