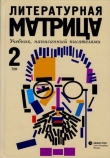Текст книги "Матрица бунта"
Автор книги: Валерия Пустовая
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 34 страниц)
Басинский, процитировав, заключает в недоумении: «Каким образом могут существовать одновременно два таких высказывания? Как они в принципе могут друг с другом уживаться? <…> Они будут созидать “новую Россию”. Что ж это будет за страна? Как в такой стране население сможет договориться друг с другом, выбрать власть по уму, читать какие-то общие книги, <…> любить какие-то общие святые или хотя бы просто славные места на географической карте, женить своих детей – словом, заниматься всем тем, что делает страну страной – местом жизни некой общности».
Между тем Ерофеев и Дудко не взаимоисключающи, просто противостоят друг другу как апологеты «тела» и «души». В «телесном» контексте святость России оборачивается жизненной несостоятельностью («русский – вынужденный аскет. Не справившись с миром, он говорит о тщете мира. Он отворачивается от мира, обиженный, и культивирует в себе обиженность, подозрительность к миру как дорогую истину в последней инстанции» – Э; «национальная идея русских – никчемность <…> Никчемность – пустоцветная духовность, близость к религиозному сознанию, но с противоположной стороны. Крайности склонны путать» – Э; «Если бестолковость – духовность, то мы духовны» – Э); презрение к телу – презренным телом («Русские, как правило, неэстетичны. Неряшливы. С пятнами. <…> Пятнистые гады. Плохо пахнут» – Э); широта души – катастрофичностью, покаяние – униженностью, героизм – зверством, высота – бездной, мессианство – болезненной утопичностью («русский наливается утопией, как гноем. Потом он лопается» – Э).
Ерофеев озвучивает внешнее впечатление о России, органичное прежде всего для Европы, «страны» восходящего тела, каковой она предстает в произведениях писателя. Именно такая Европа – ее взгляд извне – задает норму в таком суждении о русских: « избыточное воображение и недостаточная рефлексия» (Э). Ерофеевская Европа – страна обездуховленного быта, где тело взяло на себя функции духа и хочет одного, само по себе обеспечить человеку полноту бытия: в Европе « культура растворилась в каждодневном быту, быт – в культуре » (Э), европейцы выступают как « профессиональные комфортщики » (5РЕК), а « комфортный абсолютизм » – как « грядущая европейская неизбежность » (5РЕК).
А теперь представьте, по каким параметрам «страна»-тело может оценивать страну духа? Ей важны продуманность интерьера («Не хватает русскому дому …красивых вещей. Есть склонность к тесноте, как склонность к полноте. <…> Дело не в цене – в отношении. В русском доме много случайных вещей. Эти случайные вещи засоряют наше сознание своей необязательностью» – БХ), приглушенность дурных запахов и изысканность белья, наконец, удобство каждодневного уединения в храме тела.
(Сравните: «Общественные сортиры в России – это больше, чем тракт по отечественной истории. Это соборы. С куполами не вверх, а вниз…. Россия дяденька-проруби-окно-либералов уже не первый век стесняется своих сортиров – считает своим слабым местом. <…> Я много видел чудесных сортиров, они все так или иначе недействующие, подспудно обличающие философскую суету Запада, но нигде больше не видел такого византийского чуда, как в Вышнем Волочке. Там перегородка между женским и мужским отделениями идет не по низу, а по верху, от потолка. Голов не видно, а все остальное – как на витрине. <…> Эротический театр, торчи сколько хочешь, хотя вони, конечно, много» – (Э) – с описанием японских угодий: «Я попробовал кнопку <…>. Унитаз понимающе заурчал; щелкнул датчик: фонтан воды с ароматной пеной ударил мне в задницу и чьи-то маленькие нежные лапки принялись меня подмывать как родного и близкого им человека» – (РО) – описаться можно от умиления!)
Тело одухотворено, когда оформлено, – тело одушевляет стиль. Ерофеев не один абзац посвящает проблеме русской неоформленности (« Нет стиля, нет и человека. Бесстилье – страшный русский бич » – «Мужчины»). Он воспевает европейскую «cool»-стилистику. Если вжиться в перечисленные Ерофеевым свойства «кул»-сознания» (« не оставляет в человеке неотрефлектированных, “темных” сторон <…> свойственны открытость, прозрачность, внутренняя эротичность, ироничность, подчеркнутая стильность » – Э), можно остро и верно прочувствовать, насколько «кул»-существование противоречит любимым и основополагающим у нас параметрам настоящей жизни: отсутствие «темных» сторон, которых современное общество чурается с подачи Фрейда, – влечению к тайне, декларируемая открытость – широте натуры, внутренняя эротичность – способности глубоко полюбить, ироничность – вере, внешняя стильность – идейной сформированности человека.
Европа, в изображении Ерофеева, видит в духовной устремленности России не внутренне обусловленную судьбу, а причину внешних, неприятных или непонятных для других государств, последствий: Россия непредсказуема, опасна («если Россия не войдет в цивилизацию – будет плохо для нее и других – кровь – дикость – нехорошо, – но если она войдет, будет чудовищно! – будущего не будет!» – СС), аномальна («мне не нравится историческое движение России к нормальности <…> – нормальность и Россия несовместимы» – СС; «Россия продемонстрировала крайности человеческой натуры, разрушила представление о золотой середине» – Э), нецивилизованна («Нам надо отрезать хвост. Мы – хвостатые» – Э), отвратительна («почему она [Россия] так мерзка?» – СС; «Будь я поляком, я бы все русское ненавидел и презирал до бесконечности. Хаос, грязь, помойка мира – а при этом весь мир хотят переделать по собственному образцу» – «Мужчины»).
Если Европа, по словам Ерофеева, « это счастливый брак по расчету. Удача в удаче » (5РЕК), – то Россия – это мучительная связь по нелепой любви, и беда бедой погоняет . Россия для этого автора – символ неизбывной антителесности, а следовательно, и нежизненности: « Россия… – чем больше думаешь о ней, тем меньше чувствуешь жизнь» (рассказ «Карманный апокалипсис»); «Русская жизнь призвана отвлекать людей от жизни» (Э); русское государство – это « сквозная империя слова и образа, которым должна подчиняться жизнь » (БХ). Ерофеев представляет подавление тела как « главный секрет России »: мол, русский национальный характер вылез из запрета на тело, из обязаловки святости – « тем самым создалось напряжение, необходимое для бурного развития русской культуры » (БХ).
Ерофеев считает Россию страной, по существу своему обреченной на недостижимость счастья (« Ошибка и западников, и славянофилов в том, что они желают России счастья. <…> Вечная и беспомощная идея вытащить Россию за волосы вопреки ее воле встречается из книги в книгу и становится, по крайней мере, назойливой » – Э). И потому он отказывает ей в праве на реализацию своей судьбы, на такое вот свое, особенное, несчастливое существование. Он сравнивает Россию с Африкой, тоже дикой и жестокой стороной с « открытым настежь будущим » (БХ), и по аналогии предлагает следующие пути русского развития: колонизация и унификация – или распиаривание местного колорита в расчете запугать и обобрать цивильных туристов (« Но своеобразие останется. Как у африканцев. Те все равно едят руками. <…> Носят божественные одежды бубу с королевским достоинством. Чем Россия хуже Африки? А если хуже, раз у нас нет бубу, нет умения достойно носить одежду, нет гибкости в пальцах и танцах, что тогда? » – Э). «Что тогда?» – Ерофеев, человек без культурологического вкуса, не представляет себе судьбу страны, основанную на оригинальном, не унифицированно-европейском, но и не на товарно-диалектном, образе жизни. Вот что он пишет о культуро строительных возможностях Африки – с прицелом на Россию: « Котел модернизма и традиции, но уже сама разгерметизация культуры смертельна для традиции. Поздно! Мир выбрал модернизацию. Отказ смешон. Потери огромны. Куда ехать? Вторжение французов было делом всемирного промысла, поворота жизни от природного календаря к индивидуальному существованию » (5РЕК). Подчеркнутые слова близоруки и выдают одномерный взгляд на развитие культур, в последних же словах скрывается логическая нелепость: к какому же это «индивидуальному» существованию может прийти ценностно колонизованная страна с «разгерметизированной» культурой?..
Не исключено, что Ерофеев, отказывающий России в возможности успешного жизнестроительства, прав, и духовный расцвет нашей страны никогда не совпадет с процветанием свобод, торговых лавок, семей и производств. Это, конечно, обидно, однако не закрывает нам будущего: духовные движения как способ самореализации – чем не судьба? По крайней мере, выстраивать такую судьбу гораздо интереснее, чем жить в уже отстроенных и реализовавшихся цивилизациях, где ты не можешь быть ни новью, ни пророком, ни странником – ничего не открывая, не проповедуя, не ища, ты займешь там место очередного метра кабеля, компьютерного узла и продукта в потребительской корзине рекламодателя.
О двух разновидностях «духовки»
Об отношении Виктора Ерофеева к религии и интеллигенции можно было догадаться по уже сказанному тексту. В самом деле, оба эти явления, по своему духовному происхождению, вызывают апологета тела на бой. Нельзя сказать, что Ерофеев достойно ведет поединок. Он норовит распороть на противнике штаны, отхлестать его по щекам – в общем, разбить его достоинство в пух и обвалять в перьях. Не исключено опять-таки, что Ерофеев прав, скажем, когда пишет о нытье, жизненной несостоятельности, лицемерной пафосности и социальной безрезультативности оппозиционной интеллигенции – при том, что он никогда не удостоится понимания отдельной интеллигентной личности как духовного явления.
Ерофеев прав, когда говорит об оппозиционном имидже как ложной (но укрепившейся в традиции) гарантии интеллигентского достоинства (“Серый прикинулся интеллигентом и долгое время ныл по каждому поводу. <…> Интеллигенцию отменила свобода. Они боролись за освобождение. Допустим. Они победили. Справились. Оказались катастрофически беспомощными. <…> Серому нечего было сказать при свободе. Цензура была спасением для прикрытия бесплодия, оформила множество липовых карьер» – Э). Ерофеев говорит полуправду, когда выявляет в рыцарях духа – ржавость лат и нечесаность патл: «Или интеллигенция: о Джойсе-Борхесе рассуждают, а сами одеты, причесаны – совки совками» («Мужчины»), – и неспособность вкушать плоды земного Эдема: «У меня с интеллигенцией вкусовая несостыковка. Интеллигенция любит арбузы, а я – винегрет. Она – за разум, а я – за океанский бриз. Интеллигенция любит повести, а я – рекламные щиты» (Э). Но он опускается до нарочитого обеднения истины, до прямого оскорбления (не помянуть ли нам Булгарина?..), когда сживает противников с лица земли такими словами: «Наравне с геморроем, любимым заболеванием интеллигенции до сих пор остается боль за народ» («Мужчины»); «Апостолы не чистят ни зубов, ни ботинок <…> Косые, кривобокие, горбатые, перекуренные, похмельные, нестильные <…> импотентные, боящиеся минета, не умеющие спросить, где здесь туалет, где – притон с б….ми. Оценщики, судьи, запретители, паникеры <…> с тухлой энергией, не умеющие любить тело» («Мужчины»).
Такой же разнос грозил бы и религии, если бы она не понадобилась Ерофееву как эффектная тема, которой легко можно поразить воображение массового читателя. Ерофеев спекулирует на рубежно-вековых ожиданиях человечества, на новых религиозных настроениях, заявляя практически в каждой книге о необходимости обновить христианство, о пришествии нового Бога, о движении человечества к новой, одной на всех, вере. « Главным событием XXI века будет рождение нового, планетарного Бога. <…> локальные религии уйдут » (Э); « Рождение нового единого бога так же неминуемо, как сведение компьютерных программ воедино <…>. Просто это на очереди. Смешно видеть дешевую конкуренцию разных религий » (5РЕК); « Возникновение одного божества. Первая по времени метафизическая революция двадцать первого века » (5РЕК).
В этих высказываниях, помимо спекуляции на фантомах массового сознания, есть опять-таки проявление культурологической безграмотности. « Дешевая конкуренция разных религий » на самом деле является отражением того факта, что Единый Бог преломляется на земле в душах людей и народов, порождая тысячи божественных Образов. Все люди и так верят в Одного Бога, потому что всякая религия исходит из представления о Божественности как творящем изначальном Свете, организующем гармоничное мироустройство. Но в то же время буквально-единая религия невозможна, так как даже двое людей верят по-разному, – что уж говорить о веками складывавшихся культурах разных стран.
Ерофеев, высокопарно и легко рассуждающий о религии, на деле не понимает ее сущности, а подчас не брезгует и богохульством.
Еще можно увидеть попытку самостоятельно осмыслить розановские идеи в следующем рассуждении апологета тела о религии: « Я наконец понял, в чем ошибка Папаши [по сюжету «Страшного суда», главный герой Сисин – сын Иисуса Христа] … – он звал всех скорее наверх, потому что ничего тут не понял, не полюбил » (СС); « по-моему, … то, что ты [Иисус] предложил, касалось только смерти » (СС). Это – пропаганда на уровне профанации. Розанов воспевает неуловимую мистику жизни – Ерофеев радеет о ее доступных повседневных радостях. Он не понимает, как можно совмещать жизнь и религию, смысл которой, на «телесный» взгляд, состоит в том, чтобы утешить человека, когда не станет у него ни зубов, ни потенции – ничего того, что обеспечивает крепкое вкушение земных блаженств.
Прочие высказывания Ерофеева о религии откровенно банальны и не достойны даже войти в библиотечку атеиста. « Сущность христианской сделки была гениальна: предопределение смерти в обмен на выполнение моральных норм. Просто и понятно » (Э); « Сисин знал, что Отец, давая, отбирал свободу воли, а это посерьезнее двадцати долларов – давая, он приобретал право суда, а это совсем серьезно » (СС), – суждения на уровне счета на пальцах. В призыве обновить православие слышится что-то бердяевское, в мысли об исчерпаннности бесполой религии, что-то розановское. И все как-то уныло-посюсторонне, как будто религия – это не метафизический полет к истине, а техинструкция для космонавта. « Многопартийная система богов » (5РЕК), « обладал ли Иисус Христос полным набором Божественности или был обделен как наследник» (СС), « Вселенские соборы, утвердившие Папин имидж » (СС), – не слишком ли это элементарно для провозвестника новой религии ХХI века?
Наконец, о поклепе и напраслине. Осмелюсь ли процитировать что-нибудь «горяченькое»? Ну, замечания о том, что « среди верующих народец мелкий, низкорослый » (РКрас), что в церкви агрессивный, понимаешь ли, персонал ( «Уборщицы, заправив за пояс подолы [то есть задрав юбки в храме – воображение немеет!] , с угрожающими рожами приближались» – РКрас), что « Ветхий вообще похож на бульварную литературу» (СС), а новый Бог будет « попсово-придурочным, как все прошлые Боги » (Э), – это лепечут уста самой невинности. Но вот когда я стала перепечатывать описание Иисуса Христа из романа «Страшный суд», то есть такое предельно подробное и неканоничное описание… как бы это сказать, короче, у меня завис компьютер. Я посчитала это знаком свыше и вбивать перестала. Так что если вам захочется рассмотреть во всех подробностях даже не раны, а органы вышеозначенного Персонажа, а может быть, и узнать нечто новое о Его сексуальной ориентации – милости просим на 340-е страницы романа уже упомянутого издания, а мне позвольте отвернуться.
Два альтер эго Ерофеева. Романы мужской и женский
Сказать о позиции писателя – все равно что охарактеризовать человека по его профессии. Истинное своеобразие творчества, как и внутренняя суть личности, – почти неуловимы. Предназначение писателя узнается разве что по энергетической мощи создаваемого им мира. Ведь способность «вкладывать душу» в произведение зависит не от желания автора, а от его творческой одаренности.
Оживит ли Ерофеев прах собственных слов и концепций?
В большинстве произведений Ерофеева главный герой отсутствует. Есть либо карикатурные персонажи, на идеях, потенции и жизни которых автор вовсю экспериментирует, либо неприкосновенное публицистическое «я», изрекающее авторские мысли. Поэтому попытка создать целостного сюжетообразующего героя, предпринятая Ерофеевым в романах «Русская красавица» и «Страшный суд», уже сама по себе обращает на себя внимание, выделяя эти произведения как наиболее значимые для писателя. Но присмотревшись к претенциозно-роковой фигуре Сисина (СС) и породистой фигурке Ирины Таракановой (РКрас), замечаешь, что их образы, взгляды на жизнь и судьбы подозрительно схожи. Более того, постепенно начинаешь понимать, что герои похожи не только между собой, но и на самого автора, мироощущением, принципами, суждениями. Русская Красавица, страдающая за любовь и отечество, и Сисин, сын, хм, Сына Божьего, выступают как alter ego Ерофеева, в мужском и женском воплощении, и потому так же являются апологетами тела, борются за право человека на личное половое счастье, презирают интеллигенцию, страдают за Россию, а на деле – за себя в России, и тому подобное.
Оба героя наделены сходной миссией – решить судьбу мира и, в частности, нашей страны.
Сисина высшие силы проводят через пару-тройку кругов земного рая (женщины, слава, потребление), чтобы потом его, пресыщенного, вынудить согласиться на второй всемирный потоп или любую другую катастрофу, которая покончит с неудавшимися образцами « юманите » (СС). Как ни странно, кроме этого «да», от Сисина ничего не требуется и потому на протяжении всего романа он вынужден делать вид, что страшно занят бабами, опровержениями на критику (Сисин – автор нашумевшей книги «Век П…» и теории о роли этой самой П… в мировой культуре) и рассуждениями о том, достойна ли Россия спастись при «общем сбросе» и нужен ли этот «сброс» вообще.
Ирина Тараканова, не пресыщенная благами мира, а напротив, дорвавшаяся до них после переезда из родного провинциального городка в Москву, мечтает о простом женском счастье – выйти замуж за любящего мужчину, или о непростой женской славе – заманить в свои сети, скажем, маститого советского писателя (любовная кличка – Леонардик, так его и будем называть) и с помощью его могущества вознестись над толпой, « осыпать своей милостью, щедростью, добротой, я бы смогла, <…> если кутеж, так кутеж, а когда благородная цель, то цвети, моя родина! » (РКрас). Однако ни один из любовников Русской Красавицы не решается полюбить ее и связать с ней свою судьбу, а престарелый Леонардик отказывается развестись и сделать ее законной королевой земного бала. Ирина умудряется вернуть Леонардику былую мужскую силу – и в тот же миг он, на радостях, умирает в ее постели. Ее подозревают, ей завидуют, ее выгоняют с работы, ее интервьюирует зарубежная пресса. Наконец, к ней обращается интеллигенция, которая и подталкивает героиню на первый акт мессианства. В романе появляется неопределенный образ колдовского врага России, правящего нашей страной по чертовским законам и не дающего нам расцвести-разъесться (позже этот образ оформится в менее демоническую фигуру Серого из «Энциклопедии русской души»). Ирина, заметившая в себе сверхъестественную способность « всю нечисть в себя всосать» , решается стать « новой Жанной Д’Арк » и принести себя в жертву через насилие – предполагалось, что она побежит по мистически-историческому полю, привлекая мужское внимание колдовского «врага» России, и когда тот овладеет ею – она погибнет, но поглотит своею плотью и его колдовскую силу. Далее – воплощение ваших самых радужных фантазий о румяной, толстой, сытой, экспортирующей ананасы России.
Однако, как выяснилось, для нашей страны « колдовство охранительно », и потому нечистая сила не поддается на соблазнительный бег героини, которая, выходит, « была не спасительница, а посягала на разрушение, …бежала против России ». «Врага» она не приворожила, зато открыла путь к себе покойному Леонардику. Тоже ведь сила темная: кающийся номенклатурный писатель, неудачливый любовник. От его посмертного посещения Ирина понесла. Эта беременность – второй акт мессианства Красавицы. Она знает, что ее ребенок – будущий губитель мира, а-ля Гитлер или кто похуже. И вот она размышляет, как будет размышлять ее брат по духу Сисин, – стоит ли, родив, отомстить миру за все обиды и унижения – или нужно убить плод и спасти человечество? Роман заканчивается самоубийством героини в день замогильной свадьбы с призраком Леонардика – видать, только поэтому мы все до сих пор и живы.
При сюжетном сходстве романов, при сопоставимости образов их главных героев, я хочу предположить, что только роман «Русская красавица» и ее героиня могут претендовать на какую-то беллетристическую художественную ценность, на читательское сочувствие. В романе о Русской Красавице Ерофеев, видимо, впервые высказал наболевшее – о попирании тела в родной культуре, о неустроенной отчизне, о любви. В этой книге есть что-то личное, лирическое, к тому же более или менее удачно передана типично-женская психология и речь, поэтому из всех произведений Ерофеева я бы оставила любопытному читателю будущего только ее. Привлекательность Ирины Таракановой, в отличие от абсолютно холодного и неумного образа Сисина, заключается в том, что она – героиня страдающая, с последовательно выстроенной судьбой, а Сисин – герой наказующий и претенциозный, при этом без лица и судьбы, с привычками и характером самого обычного, среднего, сытого и удовлетворенного мужика. В сцене бега Красавицы по полю есть драматичность, боль героини реальна, пусть и смешна со стороны, а всерьез подготовленное фарсовое «распятие» Сисина на цепях «не смотрится», оставляя желать лучшего воображения автору романа.
Тараканова – все-таки относительно живая (женщина), Сисин – только ходячий (слоган).
Ирину, как и Сисина, можно назвать любимой героиней Ерофеева. Она – воплощенная апология тела, не понятая красота. Ее судьба трагична. Ни один мужчина не осмеливается полюбить ее, хотя счастливый брак, в общем-то, является самой нежной ее мечтой, так что к концу романа она уже чуть ли не вымаливает его у первого попавшегося знакомого («Я могу только тогда, когда любовь. <…> я всегда искала любви»; «Я не машину, я счастья хотела»; «Андрюш, ты хороший, ты уступил мне свою полку, сам полез на третий этаж, ты хороший, женись на мне! Мы будем спать с тобой, прижавшись друг к другу спинами, мы будем слушать красивую музыку, а твои делишки – да ради Бога! Они меня не волнуют. Я буду верна тебе, Андрюш, а захочешь ребеночка, такого маленького-маленького, который будет похож на тебя, слышишь, Андрюш, я тебе рожу <…> – Разве это, милая, выход? [-] Ну, я что? Я и не такое прощала. Я простила. Накрылась с головой и простила»). Ее детство и юность отмечены трагическими событиями, в будущем ей предсказана смерть. Драма Русской Красавицы в том, что она живет в стране, где, по мысли Ерофеева, телесную красоту не умеют ценить по достоинству, а также в том, что эта красота, это тело – весь ее капитал. Ирина – «глянцевый деликатес, который <…> тащил на себе тяжкий крест». «Ксюша, бесспорно, красотка, только я красавица, я – гений чистой красоты, так меня все прозвали, и Владимир Сергеевич тоже говорил: – Ты – гений чистой красоты! – то есть без примесей, но красота твоя не бульварная, не площадная, красота твоя благородная, мочи нет оторваться!»; «Потому что сила моя в красоте – так писали в газетах и так же считал Леонардик, называя меня в этом отношении гением».
Неизвестно, понимает ли сам автор этих слов трагику тела, «крест» гения красоты. Ирина – гений не творчества, обеспечивающего человеку свободу выражения и самостоятельность реализации, а обладания. Гений «по обладанию» зависит от удачной продажи своего капитала, от достоинств покупателя, от степени удовлетворения своих потребностей. Ирина блюдет свою гордость, боясь сойти за « дешевку », но в одной из рецензий на роман я с легкой обидой увидела, что ее назвали куртизанкой. К сожалению, та или иная форма продажности – ее неизбежная судьба. Весь роман, в каком-то смысле, о том, что Красавица не находит покупателя своей гениальной красоты: замуж ее не берут, в блестящие фаворитки не пускают, замыслила принести свою красу в жертву интеллигентским мечтам о благе отчизны – так ведь и тут неудача, невостребованность. Нет человека, достойного владеть гением красоты. Лепится к Ирине только всякая нелюдь и нежить: все уродство (в том числе и моральное) мира лезет кусочек от красавицы отобладать. Ерофеев недаром заставляет героиню во время молитвы услышать такой ответ Бога: « Дано тебе <…>, чтобы ты ходила среди людей и высвечивала из-под низа всю их мерзость и некрасоту! » – эти слова созвучны упоминанию о способности героини «всосать» в себя нечистую силу. Красавица провоцирует людей на тоску по обладанию ею, а следовательно, на самые нечистые помыслы и поступки, насилие и предательство.
Помимо намеченной в романе философии красоты – намеченной, но отнюдь не выстроенной, так что я при осмыслении судьбы героини скорее додумала ее, чем проанализировала, есть в романе и тема красивого Тела как вызова русскому менталитету – и как его жертвы. Ерофеев не раз дает нам понять, что в стране с таким эстетическим безвкусием, как наша, красавица обречена на прозябание и напрасную гибель. «У меня были красивые пальцы ног, почти столь же музыкальные, как и на руках, <…> я посмотрела на пальцы ног и сказала себе: эти пальцы никто не сумел оценить по достоинству, ни один человек… да меня и вообще никто не оценил по достоинству»; «у него были красивые уши, породистые <…>. Я сразу заметила эти уши, хотя у нас уши – избыточный предмет беседы, и нет на них моды – народ неизбалованный – им бюст подавай да бедро, большие охотники бюста»; «редкий мужчина у нас не мужик, поистине: бюст и бедро – их убогий удел, хотя никогда не допускала вольности нахалу, нигде не бывала так одинока, как в его атакующем обществе, и с грустью глядела на низкопробные лица коммунального транспорта, пригородных электричек, стадионов, скрипучих рядов кинотеатров: им мои щиколотки и запястья, как мертвому – баня! <…> я оставалась непонятой в лучшем, что было в моем существе» (РКрас).
В отличие от Русской Красавицы, герой «Страшного суда» вполне благополучный, удовлетворенный жизнью и многими женщинами человек. Сисин наделен голословной божественностью, которая никак не проявлена в его существе, да и в сюжете едва заметна. Он искусственно набивает себе цену, как можно более свысока рассуждая о человечестве: «Сисин поморщился: – чем люди гордятся? – начальник похвалил! – отчего у них портится настроение? кто-то их не заметил, не так посмотрел – я без труда перерос человечество» (сравним: «однажды Манькина мама увидела Сисина по телевизору – я думала, он симпатичнее – сказала она дочери – я просто устал тогда – но Сисина это задело»); «Сисин готов был начать человеческую породу заново»; «вдоль дороги стояли покосившиеся автомобили мелких торгашей – <…> кто родил – кто неудачно порезал вены – тренировочные костюмы – <…> нет – думал медленно Сисин – проезжая все это мимо – нужен полный, исчерпывающий геноцид»; «Берман <…> продолжал учить Сисина, как жить – Сисин думал: – мудак! – учит Бога!»; «он спокойным, неторопливым взглядом смотрел на юманите – оно его не устраивало». «Ты жесток, Сисин – жесток и необычен», «он сеял безумие вокруг себя», – подпевает Сисину его оппонент по роману Жуков, – «они все считали его бесчеловечным». Эти авторские подтасовки смешны: даже читателю с самой малой способностью к анализу будет очевидно, что Сисин как раз обыден, рационален и человечен в самом земном смысле этого слова.
Сисин обыкновенен и даже хуже, он, прямо скажем, не лучший образец человека. Обидчив, привязан к благам, уныло-развратен, скуп на чувства и на подарки любимой женщине, боится обязательств и проблем, способен избить любовницу и убить идейного оппонента. Вот ряд цитат, характеризующих этого «Внука Божьего»: «в раю <…> я <…> четко понял – люблю комфорт и свою квартиру»; «почему царапина на моей машине для меня важнее любви, за которую я только что бился?»; «Сисин дал задание Крокодилу и Бормотухе унизить Маньку <…> – нассыте ей, девки, в рот»; «он был плохо приспособлен к любви – он не был циником – он просто полагал, что другие ниже его, и потому относился к ним с циничным чувством»; «Сисин закурил сигарету – ему было приятно убить знакомого человека – ему показалось, что он посадил дерево».
И вместе с тем Сисин еще больше, чем Ирина Тараканова, близок автору. Лично с Ерофеевым не знакома, но по его высказываниям, по повторяющимся в книгах мотивам и суждениям, наконец, даже по его лицу, выставленному на обложках, я рискую предположить, что автор относится к своему «божественному» персонажу без особой критики и вполне разделяет его взгляды на любовь, женщину, брак, человечество, родину и религию. Сисин не раз повторяет от своего имени ерофеевские мысли. Есть случай и почти дословного совпадения: « Сисин вел машину в сторону Европы <…> для того, чтобы несколько лучше понять свою уязвленную родину » (СС) и « наездившись по миру, чтобы лучше понять Россию… » (Э), – слишком точно для случайности. Сисин – автор скандально-эпохального романа «ВП» – не исключено, что Ерофееву хотелось бы создать нечто подобное или что он думает, будто все его книги складываются в аналогичный труд мирового масштаба о нашей современности. И не исключено, что Ерофееву так же хочется принести в мир некое псевдо-божественное откровение – слишком уж часто в его произведениях появляются персонажи-предтечи и мотив новой веры, новой истины и тому подобное.
В конце концов, не вырастает ли Ерофеев до фигуры сисинского масштаба, когда говорит: «Я испытываю боль за русский народ, потому что он вял и сир, а я излучаю энергию. Когда-нибудь я поделюсь с ним своей энергией, но еще не настало время» («Мужчины»).
Да минует нас этот котел. Аминь.
Тема любви в творчестве Виктора Владимировича Ерофеева
Любовь постоянно присутствует на страницах книг Виктора Ерофеева – во всяком случае, его герои постоянно ее делают , ею занимаются . Он даже книгу издал с подзаголовком «рассказы о любви» («Бог Х»). Между тем, как это ни прискорбно, тема любви находится вне кругозора этого писателя. Я имею в виду любовь в настоящем, философском смысле, ту, которую воспел еще… – ну, вы меня понимаете. Ерофеев думал, что он тоже воспел. То и дело в его эссе и рассказах появляются рассуждения о любви, призывы отказаться от половой любви – или полюбить весь мир, и тому подобное (БХ). Все это голословное великолепие не отменяет сути: любовь, как феномен духовной жизни человека, остается непонятной Ерофееву как апологету тела.