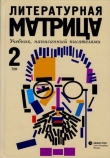Текст книги "Матрица бунта"
Автор книги: Валерия Пустовая
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 34 страниц)
Ерофеев, что очень органично для него, заостряет проблему тела в любви: «Преодоление газов, вони, пердежа, самого вида говна и грязной, запачканной говном любимого человека туалетной бумаги – может быть, самое высокое достижение любви, доступное единицам. <…> Примириться с тем, что любимая женщина срет, непросто. <…> Такая милая, нежная, трепетная – и срет» (БХ). И повезло же, елки-палки, фетишистам, чьи предметы обожания ведут себя куда более пристойно!
Ерофеев вполне наивно-подростково смешивает любовь и страсть, любовь и расчет, любовь и любовь к себе. Усердному читателю предлагается провести самостоятельный анализ состава странных любвей, при которых возможны такие высказывания: « слабая любовь порождает эротику, сильная – порнографию » [мой, прошу прощения, личный опыт подсказывает мне, что все обстоит ровно наоборот]; « новое тело Сашеньки волновало мое любопытство – оторвавшись от надоевших объятий Маньки, в которую я, очевидно, влюблялся… » [очевиднее некуда!]; « он долго растирал ей ноги – волнуясь будто бы о том, чтобы она не простудилась » [а это уж, товарищи, такая низость – без задних мыслей не растереть возлюбленной ноги, что я даже комментировать отказываюсь] (СС).
Рассказы же «о любви», собранные в книге «Бог Х», при ближайшем рассмотрении оказываются эссе о нелюбви, включая, само собой, и манифестационный текст «Как быть нелюбимым». Эссе очень прочувствованные и даже местами красивые, чего у Ерофеева, даром что автора «Русской красавицы», отродясь не бывало. Но все они, увы, о нелюбви, о переживании мужской оставленности и оскорбленности, об уязвленном самолюбии, наконец. Ерофеев отлично описывает психологию нелюбящей женщины, но вот психологию любящей (-щего) не умеет разгадать.
Любовные отношения изображаются Ерофеевым как непрерывная война полов, соревнование в правильности расчета, взаимное использование. И все это – без осуждения, а так, словно эта любовь и есть истинная, и никакой другой любви человек испытывать не может. Голос мужчины: «если он уклонится от признания [в любви], будут осложнения с последующим допущением к е… (СС); голос женщины: «была растерянность, неверие в себя – боязнь проиграть – лучше не любить, но не проиграть – чтобы не было больно – гордость – и подозрение, что Сисин – говно – и неверие в Сисина» (СС); и вот они вместе: «он хотел Маньку если не подчинить, то унизить – она успешно, упорно защищалась – с самого начала» (СС).
Ерофеев и его герои претендуют на выход за пределы традиционного русского менталитета. Так, в книге «Мужчины» писатель осуждает женское бесправие в России, мужское рукоприкладство, неуважение к женщине. Однако весь смысл любовных отношений ерофеевских героев сводится к древней народной догадке о том, что все мужики – козлы, а все бабы – дуры. Сисин вполне удостаивается указанного уподобления, когда, сам изменяя Маньке, бьет ее за попытку отомстить ему тем же способом или когда жмотится (иначе не скажешь) купить ей в подарок цветы или кофточку, выставляя ее требовательной стервой. Автор охотно поддерживает своего героя, призывая: « В любовной драке бей изо всех сил. Не щади эту сволочь. …Мужчина бьет женщину в учебных целях, в назидание » (БХ).
О том, как слово х… «облегчает тяжелое дело русской е..»
[111]
и об иных способах облегчиться
Ну вот, мы добрались и до «клубнички», а также до гнильцы и блевотинки. Сисин, помнится, мечтал «сочинить энциклопедию новейшего цинизма» (СС), и в цинических выходках самого Ерофеева есть определенный энциклопедизм. Исходя из этого, памятуйте, что каждый встреченный вами на его страницах «х..» – вовсе не х… а символ Откровения от Виктора Ерофеева. И все сцены соития, насилия и испражнения в его творчестве – это не просто эпизодические хулиганства, а, видите ли, концептуальная энциклопедия новой жизни.
«Ваши книги похожи на раскаленный паяльник, который вы засовываете читателю в жопу» (5РЕК), – такую автохарактеристику озвучивает Ерофеев устами персонажа-поклонника. В этих словах есть метафорическая претензия – с помощью «раскаленного паяльника» открыть читателю глаза на правду . Ерофеев претендует на открытие в человеке чего-то нешуточно нового: « Он стремится развенчать чересчур, на его взгляд, оптимистическое представление о человеке. Для Ерофеева и для писателей его поколения, с которыми он солидаризируется, человек – “неуправляемое животное”, он “способен на все”» (Ермолин Е. «Русский сад, или Виктор Ерофеев без алиби» // Новый мир // 1996. № 12).
В этой правде от Виктора Ерофеева сомнительны три вещи: ее достоверность, долговечность и эффективность избранного писателем способа ее «проповедовать».
Ерофеев – пророк 90-х. Он их предвестник и их орудие. 90-е – его время. В произведениях этого автора 90-е годы поданы как время революционного воцарения «русского тела», а вместе с ним и особой воли к земному потребительскому счастью, к полнокровной жизни, к свободе от телесных оков, будь то запретная ориентация, нецензурная лексика, неудобное белье или секс вне закона. В 90-е годы мы, как говорится, дорвались: «Это было десятилетие русского тела» (Э); «Россия рванулась к счастью» (СС); «сегодняшняя Москва производит впечатление абсолютно праздничной катастрофичности. Жизнь прет из всех дыр, бьет кровавыми фонтанами» (БХ); «Русская духовность уходит в небеса. В архив сдаются рулоны светлых помыслов. Сворачиваются в трубу миллионы стихов, прогрессивных рецензий, статей с направлением. Разорвалось сердце поэзии, отказывается работать печень прозы. Остановились миллионы часов кухонных бесед» (Э).
Ерофеев рисует нам образ масштабной материальной революции, с чуть ли не блоковским подтекстом, мол, « все стало новым; …лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизнью» [112] . Чем не переворот в идеологии? Однако когда пламенный революционер пытается на конкретном примере показать нам масштаб совершенного воцарившимся телом идейно-психологического сдвига, изменения не кажутся столь уж существенными. Ерофеев сравнивает двух женщин – Агату, падчерицу переходного периода, для которой 90-е были сломом и вызовом, и Женьку, дщерь новой России, для которой 90-е стали идеологической колыбелью. Естественная прогрессивность Женьки по сравнению с нарочитой продвинутостью Агаты выигрывает в том смысле, что « ее [Агаты] тело бежало из тисков власти. Женькино – убежало » (БХ). Женька, что называется, свободу тела впитала с кока-колой. Авторские симпатии несомненно на стороне Женьки, которая кажется и раскованной, и цивильной, и перспективной, но если вчитаться, то получится, что самоуверенную Женьку от потерянной в эпохе Агаты отличает только… отказ от ношения трусов.
Впрочем, нет смысла отрицать, что если для кого творчество Ерофеева и может быть некоторым «откровением» о человеке, то только для поколения Агаты и старше. Пока Россия «бежала из тисков», печатное сопряжение матерно названных органов и извращенно-садистские забавы их владельцев еще могли претендовать на некоторую свежесть. На излете советской эпохи тексты Ерофеева видятся как поворот винта в несмазанном совковом сознании, поворот мучительный, рождающий тоскливый скрип, ржавые кровяные брызги и скрежет любовный. Ранние рассказы Ерофеева, построенные на литературных полемизирующих аллюзиях, цитатах, стыдящихся самих себя, аналоанализе и шизошике, направлены на разрушение образа так называемого «хомы советикуса». Психолог найдет в них своеобразную умилительность подросткового бунта против запретов старших не ковырять в носу и не подглядывать за девочками. Правда, однако, не в заутюженно-добропорядочном образе советского человека и не в демонстративно-маниакальном образе человека «ерофеевского» – правда в самом Человеке, который вмещает в себя все и для изображения которого требуются гораздо более сложные формы и тонкие краски, чем у вооружившегося отверстиями и фекалиями Виктора Ерофеева.
Его Откровение о Теле постепенно превращается в бесстыдную банальность. Можно сколь угодно глубокомысленно рассуждать о мистическом значении мата, декларирующего протест русского тела против церковных запретов и государственных пыток (БХ), но постоянное употребление эпитета « ох……тельный » наводит на мысль о бедности даже матерного писательского лексикона. Можно принять фразу о том, что русский « лежит на кровати, яйцами болтает» за удачное выражение высшей степени легкомыслия, но « Серый на землю серит» – это сомнительная находка (Э). Можно предположить, что в сценке «Дети Пушкина» автор аллегорически изобразил современное русское общество, предавшее память о великом поэте, но фраза одной из дочерей: « Пушкин – это говно нации, которое любит делать порнографические снимки самого себя » (БХ), – по стилю и тематике метафор падет исключительно на совесть самого писателя. Я не говорю уже о романе «Страшный суд», который явно указывает на то, что Ерофеева в человеке интересуют только потенция, пищеварение и мастурбационная активность. Герои почти всех книг Ерофеева испытывают абсурдную радость от немотивированного насилия и хоть раз да устроят перед читательским взором какое-нибудь фарсовое Сад-шоу. Особый шик – поглумиться над дочерьми Николая II и перебить нос (заметьте эстетическую точность садистского вкуса) Ахматовой (Э).
Искусство строится на конфликте. Уже тот факт, что произведение претендует на создание вторичной реальности, создает между ним и реальной жизнью поле поэтического напряжения. Когда Ерофеев писал свои первые скандальные тексты (о вожделеющей к сыновьям матери, счастливом некрофиле-убийце, голове, отрубленной секатором, тяге интеллигенции к сексуальному унижению через властолюбивого «идиота» – читай: вождя…), напряжение между табуированной советской реальностью и его миром абсолютной вседозволенности было значительным. Эффект усиливала литературоведческая неординарность Ерофеева (автора небезынтересных статей, которые, сдается мне, в плане стиля и мысли достойны пережить его художественные тексты), использовавшего в роли оппонента не столько даже советскую реальность саму по себе, сколько ее образ, сконструированный в канонизированной режимом литературе. Есть известная доля вызова и в его замечаниях о России – опять-таки, не о действительно-современном облике ее, а о некотором традиционно-философском предании о ней. Постепенно, однако, ресурс напряжения стал иссякать. Книга «Роскошь» уже отдает откровенной творческой нищетой: новой российской реальности Ерофееву нечего противопоставить, он вполне успешно сливается с ней, превращаясь из ведущего актера в элемент декорации.
Когда кончаются революции – их провозвестники уходят в бессрочный отпуск. Нулевые годы Россия встретила с дезодорированными подмышками, удобными тампонами, в новом лифчике и без трусов. Правда Ерофеева была намотана на ус, а ус сбрит. Мы стали ерофейскими-европейскими, викторизованными-цивилизованными. И патриарха тела, пока он не оброс марксовой бородой, готовы сдать в «букинист» – с пометой «устаревшее».
«Дуракам надо сказать, что они – дураки»
«Критика писала гадости – <…> его приемы надоедливы, однообразны» (СС), – ясный взор Ерофеева угадывает мои подлые критические мыслишки и рубит ростки негодования на корню. Мне же не остается ничего лучшего, как признать правоту писательских прозрений: да, надоело, да однообразно, и вообще, сами Вы гадости пишете.
Ерофеев на удивление вооружен против возможного оппонирования, и фоторобот своего «врага» составил на славу. В «Мужчинах» это некий писатель К., прославившийся при советской власти, а после смены режима потерявший доход и популярность, в «Страшном суде» это оппонент «авторского» героя Сисина патриотический писатель Жуков (Ерофеев, чтобы оттенить Сисина и придать ему хоть какую-то творческую значительность, вводит в роман сальерианские мотивы). Ерофеев явно вымещает на этих образах давние обиды писательского самолюбия. Он мстит «пай»-литераторам за ту репутацию и востребованность, которая когда-то отличала их от вестников «зла»: « Писатель К. <…> задумался о правде и добре, как, может быть, и полагается русскому писателю. Он меньше стал ходить по мастерским, а больше – в лес, за грибами, за свежим воздухом, за свежими мыслями » («Мужчины»); « Жуков завел дневник по борьбе с деструкцией – <…> дневник постепенно принимал романные очертания – антицинического направления – против ерничества, душевного гнойника и глумления <…> – роман имел поразительный успех – Жуков разбогател» ; « Жуков обрастал новыми знакомствами – он нравился себе в роли предателя цинизма» (СС). Жукова Ерофеев не раз сюжетно унижает – будь то намеки на его зависть по отношению к «гениальному» Сисину (хотя последнее и не доказано) или назойливое напоминание о том, как Сисин совершил над Жуковым гомосексуальный половой акт.
В развенчании писателя К. Ерофеев более прямолинеен: мол, во время размежевания в литературе 1970-х годов «одни пошли навстречу<…> словесной вакханалии, может быть, даже наркомании зла, а другие<…> решили прижаться [заметьте лексическую оценочность!!] скорее к добру, к идеалу. Среди последних оказался и писатель К.»; «Во время перестройки <…> вся литература добра провисла. Зато русский постмодерн оказался созвучен каким-то всемирным настроениям и его стали печатать повсюду, и меня тоже»; «Сатанисты купили себе машины, а добрые писатели продолжали ездить на метро. <…> Казалось, божественной справедливости настал конец» («Мужчины»). Это злопыхательское бахвальство Ерофеев неосторожно заключает словами: «Писатель К. недавно умер. <…> Он шел наперекор времени. А мы, выходит, плывем по течению? Или как?», которые дают нам возможность ответить устами Е. Ермолина: «Принципиальный вопрос: хотим ли мы чего-то большего от себя, от людей, которые вокруг нас, от эпохи и страны – или мы удовлетворимся историческим прозябаньем и партикулярным нытьем. Будет ли литература фактором духовного роста – или только подвидом блажи. <…> Жизнь настоящего художника сегодня – поединок с тотальным нивелиром бездарной эпохи. Вызов текущего момента – самоумаление, минимализация рисков, соглашательство вплоть до капитулянтства, пиар вместо жизни. Если художник смирится с этим – пиши пропало. Он просто совпадет с эпохой в ее сущностном определении» (статья «Поворот руля» // «Ex libris-НГ». 2004. № 8).
В систему излюбленных ерофеевских оппозиций (дух – тело, «добрый» писатель – «злой» писатель) оказывается встроен и однофамилец нашего героя Венедикт Ерофеев, который подан как один из символов русского духа (БХ). Проблема однофамильства столь противоположных по репутации литераторов занимала и их самих, и читающую публику. Кому-то в этом виделось нечто оскорбительное для Венедикта Е. и незаслуженно-удачное для Виктора Е. Наш герой посвящает этой проблеме несколько драматично-находчивых страниц, показывая, что ему самому не так уж приятно бывает вляпываться в комизм однофамильства. По чести говоря, одинаковые фамилии при очевидном творческом несходстве – слишком малый повод для такого шума. Однако если исходить из предположения О. Дарка о том, что « писательская омонимия » не может быть случайной (смотри его остроумную по замыслу статью «В. В. Е., или Крушение языков» в журнале «Новое литературное обозрение». 1997. № 25), то я осмелюсь заметить, что в историко-литературном отношении Виктор Е. от Венедикта Е. не так уж далеко падает. Венедикт (лат.) – благословенный, Виктор (лат.) – победитель. Венедикт Е. – первое оправдание благословенной юродивости, благой слабородности, первое всепрощающее низведение человека (в противовес настырной советской героизации личности). Виктор Е. уже победа Благословенного, когда всепрощение переходит во вседозволенность, благость – в блажь, а трагическая динамика низведения – в утрамбовавшуюся плоскость самодовольного цинизма.
Как бы ни старался Ерофеев изобразить себя наместником зла и проводником мировой цивилизации, в противовес принятым в отечественную литературную традицию идеалистам русской ментальности, его тексты говорят о том, что нечего ему противопоставить этой самой традиции. Для полноценного спора необходим более высокий уровень аргументации – стиля, повествования, мировосприятия.
Ерофеев не выдерживает большой (от рассказа до романа) повествовательной формы. Его романы построены на ретроспективном объяснении одного события (демонической беременности в «Русской красавице» и убийства Сисина Жуковым в «Страшном суде»). Все остальные книги – это собрания малюсеньких эссе на заданную тему («Энциклопедия…», «Пять рек жизни», «Мужчины»), причем заявленная тема довольно быстро исчерпывается и Ерофееву приходится дополнять книгу текстами совершенно иной проблематики: так, в «Боге Х» полкниги вовсе не о любви, а в «Роскоши» немалую долю страниц занимают старые произведения, по настроению плохо стыкующиеся с новыми. Последний факт, кстати, не только явный симптом «исписанности», но и злосчастный повод убедиться в том, что Ерофеева как писателя создали постмодернистские приемы и описательное бесстыдство, то есть антисоветская стратегия поведения, своевременность которой позволила забыть о том, как досточтимый автор писал прежде. Теперь-то мы можем напомнить себе об этом, перечитав в «Роскоши» произведения 70-х гг. «Трехглавое детище» (выбранное Ерофеевым для публикации в альманахе «Метрополь») и «Коровы и божьи коровки». Тексты эти написаны традиционно, основаны на стандартно поданном конфликте частного и общественного (советского). Серодоброкачественный стиль, стандартные выражения: « Борис улыбнулся бледной хрупкой улыбкой человека, выздоравливающего после вконец измотавшей его болезни » («Коровы…»). Такое ощущение, что в последующих, прославивших его, произведениях Ерофеев вытравлял из себя эту серость, трезвость, неотличимость, придумывал свой имидж скандального писателя. Но эффект отрицания заканчивается, когда становится нечего опровергать. В новой литературной ситуации, свободной от прежних предрассудков и ложных канонов, Ерофееву оказалось не с чем воевать – а значит, и нечего предложить.
Ерофеева сделала идея, и даже не его , заметьте, собственная идея, а удачно уловленные общие места. Слом отечественного сознания, произошедший в 1990-е гг., обнажил месторождение русских стереотипов – и Ерофеев оформил на них монополию. Это открыло ему путь в литературу через публицистику. Отсюда пошли все его «реки», «энциклопедии» и «новые откровения». Как публицист Ерофеев может быть интересен. У него есть добротная журналистская поверхностность миропонимания – это когда не хватает глубины, чтобы понять и оценить, зато вдоволь остроты, чтобы уловить и уличить. Ерофеев не художественен – аналитичен. Он удачно и порой символично осмысляет детали быта, слова, анекдоты, пословицы, слухи и факты. Ему не откажешь в мастерстве придумывания заголовков, в нетривиальности композиции, в эффектном употреблении факта-иллюстрации. Ерофеев любит применять несложную газетную образность: представить, скажем, отечественную историю как футбольный матч (Э), описать « юбилейный банкет Иисуса Христа » (БХ), настрочить очерк от лица машины (РО) и вообразить свидание умершего Пушкина с умирающим Дантесом (РО). Стиль Ерофеева тоже бойкий, газетно-публицистический. Ему удаются краткие, анекдотичные эпизоды, афоризмы в картинках. Большинство его мыслей аксиоматичны: « Не важно, ошибочны или нет <… > [эти] амбициозные афоризмы. Важно то, что они – бесспорны. … Просто есть определенный уровень человеческого сознания (нередко именуемый обывательским), где востребовано именно такое красное словцо. Оно не возбуждает, но намертво припечатывает мысль – что и требовалось доказать » (Славникова О. «Шествие голого короля», // Октябрь. 2000. № 5). Ерофеев мыслит упрощенно, ярлычно. Он любит показную парадоксальность сравнений: вот, скажем, сортиры – это соборы « с куполами не вверх, а вниз» (Э), а « икона – это русский телевизор » (5РЕК). Для аргументации выбирает самые расхожие символы в сознании читателя: матрешку, чукчу, бабульку, анекдот (Э), тему реинкарнации, как самый культовый элемент в восприятии Индии (5РЕК).
В последних книгах Ерофеева немало серьезных опечаток и стилистических погрешностей. Корректор ли это виноват, или сам автор не дружит с орфографией, но в текстах его постоянно возникает путаница в употреблении не и ни, мягкого знака в третьем лице глаголов на – ся, возникают ошибки в падежных окончаниях существительных. Вот самое примечательное: «загнанная в проскрутово ложе святости» (БХ), «они хотят от меня не поступки, а завоевания» (РО), «в вновь…» и «во невкусном салате», «шопотом» (5РЕК), «кашелот» (БХ), «даостская» (БХ). И – в копилку стилистических жемчужин: «глубинное залегание неведения о нормативах людского общения» (Э), «историческая дестабилизация как следствие снижения пассионарного напряжения этнической системы» (Э), «сирень машет зелеными ветками с гроздьями сирени», «он не встретил больше ни одной встречной машины», «с маленькими аристократическими ручками плебея», «враги не обращали на Жукова никакого пристального внимания» (СС), «ход российской цивилизации от власти казенной власти к власти свободных денег» (БХ) – виртуознейше!
Наконец, нельзя не отметить лексические, тематические и образные повторы как излюбленный прием Ерофеева. То ли он хочет таким образом вбить в читателя свои истины, то ли боится, что никто не заметит однажды сказанной находки, а сам он в другой раз так ловко выдумать не сможет, – неизвестно. Однако единообразие произведений Ерофеева очевидно – скажем, для О. Славниковой: « Вообще “Энциклопедия русской души” как-то очень похожа на другие книги Виктора Ерофеева – больше, чем это обыкновенно бывает между детищами одного и того же автора. “Энциклопедию” можно, например, принять за свежую порцию книги “Мужчины”…» (статья та же). Дошло до того, что, открыв по ошибке книгу «Бог Х» вместо «Энциклопедии…» (обе книги изданы в «Зебре Е»), я обнаружила, что рассуждения о сходстве России и Африки помещены в них на одних и тех же – по нумерации – страницах!
Ерофеев поднимает одни и те же темы (скажем, Россия и Европа, страдание как судьба России, русский народ против роскоши, новая религия, тема женской измены). Тиражирует слова и фразы, так что научная « энтропия» по частоте употребления конкурирует с площадным « ох. ительно» , а сисинское « Между нами нет менструации! » не только повторено, но даже занесено в реестр мирового уровня писательских достижений: « Что остается от писателя? Три фразы. Шагреневая кожа. Красота спасет мир. Между нами нет менструации » (СС). Наконец, и сам Сисин скопирован из раннего рассказа «Болдинская осень».
Как литературовед, Виктор Ерофеев как будто четко представляет себе границу между качественной, перспективной литературой и массовым чтивом – знает, что в искусстве хорошо и что плохо. Но самые правильные рассуждения оказываются скомпрометированы его литературной практикой как голословные. В книге «Бог Х» он много говорит о « беде наших писателей» , о « каждый настоящий писатель знает », о « литература требует от человека », с иронией упоминает о « массовом, антиинтеллигентском сознании » и, наконец, заключает с оптимизмом: « Маскультуре надо указать на ее подлое место. С ней лучше не церемониться. Дуракам надо сказать, что они – дураки » (БХ).
Не поймать ли его на слове?..
… Ерофеев, создавший образ колдовского врага России, не раз проводил мысль о том, что в русских несчастьях виновата не метафизическая сила, не «Серый», а сами русские: « Зачем вступила ты в преступный сговор? зачем хотела ворошить эту жизнь? Не нужно никого спасать, потому что от кого! от самих себя? » (РКрас).
Вернувшись к началу и сопоставив Ерофеева с Серым, я так же спрошу: от кого спасать нашу литературу? От Ерофеева – или от нее самой? Выход – не в уничтожении Серого (Ерофеева) как враждебного феномена русской жизни (литературы), а в созидании новой жизни (словесности). Ерофеев существует, пока никто ничего лучшего не пишет, пока Жуков менее талантлив, чем Сисин. Ерофеев словно подмигивает нам и говорит: мол, если я настолько плохой, то почему мне не могут предложить ничего равносильно-хорошего? Указав ему на его «подлое место» в искусстве, мы повысили донельзя упавшую планку творческого мастерства.
Перепрыгнете?..
(Опубликовано в журнале «Континент». 2004. № 121)
Скифия в серебре
«Русский проект» в современной прозе
Небо вылакали. Подброшенный в воздух чепчик – воздуха не обнаружил. На земле его, кокетливый символ лояльности и консерватизма, уже угрюмо поджидал вольнодумец булыжник, которым прогрессивно мыслящая толпа погоняла историю. «Ура» в лентах и неотесанное «ужо тебе» таким образом примирились, подрезанные силой тяжести. Кликуши и радетели, монархисты и народовольцы сошлись вдруг в одном: Россия застряла.
Исчерпали ли мы бездарной междоусобной тяжбой отпущенный нам ресурс Исторических Свершений, а может, через тернии революций и пятиконечные звезды диктатур только-только пробрались к нераспакованным, ждущим своего часа коробам с ветрами перемен?.. Стоящие произведения о судьбе России, пожалуй, сегодня можно отличить именно по прикосновению к этой глубочайшей тайне русской жизни: писатели ставят вопрос не о существе нашего будущего, а о самом его существовании . Те, кто до сих пор увлеченно кидает кости то за коммунизм, то за монархию, то за мировую империю, то за компактный нефтяной эмират, уже не художники, а политиканы, уводящие читателя прочь от сути исторической проблемы России.
Авантюрные, сказочные, гротескные – произведения-фантазии о будущем России стоит различать не по рецептам счастья и политическим убеждениям авторов, а по их взгляду на возможность для нашей страны всамделишного, неподдельного, не запаянного в цикл, одним словом – небывалого будущего. Надежда, тупик, катастрофа – три литературные идеологии, из которых вдруг да сложатся истины искомой национальной идеи?
Когда же придет настоящий день?
Плюс-проект: «ЖД» – «2017» – «Спаситель Петрограда». Объемные романы Ольги Славниковой «2017» и Дмитрия Быкова «ЖД» (оба – М., «Вагриус», 2006) поражают близостью высказанных в них ключевых интуиций. Разница взятых масштабов и найденных исторических решений, противоположность стилей забываются, как только понимаешь, что оба писателя предъявляют одно и то же требование к одной и той же по сути, сходно понятой России.
Оба романа сильны требованием будущего, коренного переустройства российской жизни – на глубинном, мистическом уровне. Неподлинность, театральность, кажимость России Славниковой соответствует занятой самораспадом, убаюканной гнилью, отравленной всеобщим согласием на полужизнь России Быкова. Псевдожизни государственной в обоих романах противостоит личная жизнь главных героев: их любовь подана как опасная для мира гнили и театральности, а потому неугодная подлинность существования. Для обоих писателей важно несовпадение глубинного мира России с ее поверхностным образом, навязанным лжепатриотической (Славникова) или даже впрямую вражеской, оккупантской (Быков) властью. Мистическое бытие России выражено в двух взаимосвязанных образах – «земли» и, возьмем формулировку Быкова, «коренного населения», коренного в точном смысле укорененности в «земле», умения к ней прислушиваться, жить в рамках ее велений. Подобно тому как «коренное население» Быкова умеет «договариваться» с землей о всходах и плодах, так и «рифейские» хитники, подпольные добыватели драгоценных ископаемых, учатся прислушиваться к земле, уславливаться с ней о камнях. Не случайно одна из героинь Славниковой отмечает ключевое и для романа Быкова противопоставление «аборигенов» – «колонизаторам»: «Вы (рифейцы-хитники. – В. П. ) – аборигены, все остальные колонизаторы. Прекрасная местность каким-то образом сама вас воспроизводит – для собственных, совершенно не человеческих нужд».
Именно непроявленность глубинной, не официозной жизни России, подпольное положение ее «коренного населения» – признак и причина «необратимой порчи истории», «глобальной консервации новизны» (Славникова). История в России «прекратилась» (Славникова) или, радикальнее, «до сих пор не началась» (Быков).
Задачу своего нового романа сам Дмитрий Быков определяет внелитературно нагруженным словом «истина». В предисловии к фрагментам романа, опубликованным в журнале «Октябрь» (2006. № 8), он открещивается от выполнения любых литературных, эстетических ожиданий читателя: «Литература и не обязана быть хорошей, более того – в иные времена ей это вредно. Мне хотелось написать не хороший роман, а такой, какой мерещился». «ЖД» – роман-миссия, призванный стать толчком к запоздавшему началу русской истории. «ЖД» – роман-поэма, восходящий, по словам автора, к Гомеру и Гоголю, цель которого – объяснить нацию и «выдумать страну заново».
Выдумать страну – заполнить пустоту в ее историческом образе. В своей знаменитой поэме Гоголь исполнил первую часть миссии национального эпоса: объяснил. И Быков недаром среди приведенных им ироничных расшифровок заглавной аббревиатуры «ЖД» выбирает самый амбициозный вариант – «Живые души», претендуя таким образом на продолжение попытки национального эпоса, на создание ни много ни мало как своей версии второй части «Мертвых душ», России обетованной, которой искони бредят русские писатели и философы.
При всех несостыковках романа, а их немало, и главным образом смущают настойчивые повторы излюбленных обвинений, смешение наблюдений разного уровня типичности, когда личные обиды, булавочные претензии к узнаваемым фигурам и явлениям высказываются с той же серьезностью, что и масштабные сатирические обобщения, сбой проникновенной лирической речи на плоскую газетную интонацию, – при всех подобных шероховатостях, о которых автор и предупреждал нас во вступлении, роман Быкова – очень сильная книга. Она сильна ощутимым движением мысли – живой и острой мысли о России. Это книга-спор, книга-диспут, и в этом смысле она продолжает предыдущий роман Быкова, «Эвакуатор». Романы-полемики удаются Быкову благодаря его особенному чутью на неполную, не «белоснежную правоту», на его умение находить изъян в любой абсолютности. На этом и основана динамика текста «ЖД»: за каждой картиной реальности, которая нам представлена как обладающая последней правотой, все время открывается другая, третья, так что от поверхностной, казавшейся нам безальтернативной модели российской жизни мы постепенно доходим до ее невидимых глубин, но шагаем и дальше – в незримую даже для внутреннего взора автора, только обещанную и понуждающую к свершениям будущую жизнь России.