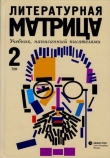Текст книги "Матрица бунта"
Автор книги: Валерия Пустовая
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 34 страниц)
«Этого я еще не понял. Но то, что я не могу этого понять, вовсе не значит, что это на самом деле не имеет смысла», – малолетний персонаж романа Ключаревой выводит нас к старинной догадке о том, что в Россию можно только верить. Мотив спасительной веры объединил у Ключаревой темы личного действия и личной подлинности. Недаром образы улыбающихся людей так настойчиво и, казалось бы, неуместно вкраплены в трагедийное поле романа, недаром именно «улыбаясь» умирает в тюремной больнице главный герой. Это улыбки не из злободневного плана романа – они о России будущего. России, открывающейся не через революционные коллективные эксперименты, а только в частном, личностном бытии. В добрых людях, которых все еще много на свете, в любви, которую предать – все равно что забыть самого себя, в индивидуальных поисках и видениях.
Священный восторг героя, прозревающего невидимую суть мира, – главный мотив, внешне выраженный в обмороках Никиты: «Так его восхищала жизнь. И так он переживал за свое отечество». Этому внутреннему, глубоко личному, прочувствованному восприятию действительности в романе противопоставлен поверхностный рационализм обличения, который обездвиживает преобразовательные возможности частной человеческой жизни и иссушает душу. С Никитой вступает в спор аристократично красивый Юнкер. Этот персонаж, как и архетипичный для русского сознания странник-дурачок Никита, метко угадан Ключаревой, что подтверждается знаменательным совпадением его образа с чертами другого прошумевшего обличителя – Гори Андреева из дебютной повести Сергея Чередниченко «Потусторонники» («Континент». 2005. № 125). И Юнкер, и Горя выбирают путь незапятнанности жизнью, своей непроявленности в ней. Это путь глубокого отчаяния, когда твоя принадлежность к невостребованным идеалам девятнадцатого века (ими увлечены оба героя) буквально не дает тебе выйти на улицы века двадцать первого (Горя днями лежит на диване, потому что уверен в бессмысленности любого действия в лживом мире, так же и Юнкер «не выходил из дома. <…> Потому что на улице стояла совсем другая эпоха. Мелочный и убогий двадцать первый век…»). Наконец, оба предаются совершенно тождественному по смыслу и даже форме обличению современного общества, сравните Горино: «Тут просто скрепя сердце приходится признать: мертвый человек. Живой труп. И такие ли будут строить Розу Мира? А с другой стороны – что с ними делать. Истребить всех? Да ведь что тогда от нас самих останется, кто мы сами будем после этого? Те же звери», – и Юнкерово: «В каждом или почти в каждом растет труп. Посмотри вокруг! Только ты, блаженный идиот, можешь видеть в этой мертвечине людей».
Благодаря сопоставлению образов Никиты и Гори – Юнкера понимаешь, что только тот, кто способен любить человека, выдержит и веру в Россию. Недаром Никита обручен любовью с мучительницей Ясей, а Горя Андреев спокойно предает добрую и терпеливую до неправдоподобности жену Кору. В отказывающихся от окружающих людей, от времени и пространства своей жизни Юнкере и Горе торжествует малодушный пафос непричастности, желание ни в коем случае не загрязниться появлением в «общем вагоне».
Но вагон-то – не общий! Россия в романе Ключаревой пока только вагон избранных, блаженных странников, ищущих подлинную Россию и себя в ней, передвижное Горинское, – общим вагону только предстоит стать, только предстоит России обрести единство верящего в нее народа.
Поэтому пока сам образ подлинной России открывается не всем, не скопом, не в транспарантах площадных – а в индивидуальном мистическом видении Никиты, человека, решившегося на приобщение к миру, на общение с людьми своей страны, на подвиг честного частного дела по спасению хотя бы малых одушевленных частичек огромной российской души. Сама душа эта и является ему в финале романа – в образе посмертно обретшей свой истинный, от цвета волос до характера, облик возлюбленной Яси. Потому что Россия будущего и есть – распрямившееся, избавившееся от искажений, истинного цвета пространство, где все люди наконец совпадут с собой и друг с другом, и реальность, от которой отреклись, будет прощена и принята: «Все вдруг разрешилось. Переломанные судьбы срослись. Вывихнутые души встали на место. Тот, кто искал любовь, – ее нашел. Тот, кто хотел свободы, – получил свободу. Даже беды и боль осознались как мосты, ведущие в счастье. И были прощены. И люди, почти неразличимые раньше сквозь суету каких-то ненужных, посторонних им движений, вдруг замерли и стали собой».
Призрак коммунизма vs призрак Птицы Паулин
Семнадцатый год и его отраженное повторение-реванш в девяностых выглядят теперь пробой судьбы. Ошибившись в шаге длиною в век, мы как будто вернулись на исходную позицию.
Век серебряный потому и глуше цветом, как бы сомнительней золотого, что ощущает себя расцветающим не к месту и не ко времени, призванным – и обманутым историей. Он прозревает неизбежность прихода Большого Скифа…
«В этих покуда не обжитых, вполне бессмысленных, диких краях за перевалом тысячелетия» обнаруживает русское общество Евгений Ермолин в своей статье-манифесте «Человек из России», посвященной творчеству В. Пьецуха и, благодаря предмету размышления, ставшей для критика поводом обосновать свое восприятие нынешнего лика отечества («Октябрь». 2006. № 9). Но «дикость» – это не только просвечивающее через салонный снежок культуры тление бурой степи, не только «примитивизация культурного ландшафта в теряющей свой смысл стране» (Ермолин). «Дикость» – еще и сброс ошибок культуры, возвращение на позиции чистой возможности старта с уже нажитым знанием об ошибочных путях.
Образ скифской «дикости» – это и есть интуиция того, что русская история «до сих пор не началась» (Быков). Интуиция, которая роднит таких предвещателей, как, скажем, Дмитрий Быков и… Татьяна Толстая.
Нашумевший образ читающего варвара Бенедикта из романа Толстой «Кысь» помимо воли автора, но благодаря ее художнической интуиции символизирует отсчет культурного времени в России. С культурологических позиций, Бенедикт с отрубленным хвостом – это испорченная первообезьяна . Сильное тело животного, подпорченное растущей в нем незримой душевной крепостью. Бенедикт совсем не так элементарен и однозначен, как многим показалось: тоска героя, его подверженность мечтательному, идеальному миру книги выдает в его полузверином образе – человечность.
Однако Толстая предпочла не заметить процесса внутренней порчи своего варвара. И решила дело его развития проще, извне, приохотив героя к плодам познания, опережающим его дикарские силы их усвоить, – к книгам, поскольку именно такой сюжетный ход соответствовал ее сатирическому замыслу. Толстая не развила героя, а оглушила. В жизни Бенедикта интересен не этот рациональный, умышленный писательницей поворот, а интуитивно намеченный ею иной, более органичный путь его развития.
Кысь ведь не одна в романе. По сути она – часть дикого, темного религиозного первочувства: в ней сгущен ужас человека перед внечеловеческой громадой мира. Такого первобога не умилостивить, ему ничего не объяснить – он равнодушен к добру и злу, как сам породивший его мир природы, он убивает только потому, что голоден. Таким образом, вселяя ужас, Кысь совершенно избавляет «голубчиков» (как самоназываются дикари в романе) от вины, от личного участия в деле своей гибели: при чем же тут голубчик «я», когда Кысь, страшное анти-«я», просто голодна?
Но Кысь, повторим, не одна, она в паре. Темному «богу» в романе соответствует «бог» светлый – Княжья Птица Паулин. Паулин – открывшаяся в мире возможность света, с которым Бенедикта связало бремя личной вины и покаяния, преломление примитивной религии страха (Кысь) в высокую религию любви: «Брел, волочил лапти на отвыкших, квелых ногах и знал ясным, вдруг налетевшим знанием: зря. Нет ни поляны, ни Птицы. Вытоптана поляна, скошены тульпаны, а Паулин – что ж, Паулин давно поймана силками, давно провернута на каклеты. Сам и ел. Сам и спал на подушках снежного, кружевного пера».
Над впавшим в зависимость от книги Бенедиктом можно глумиться всласть – равно как над впавшей в зависимость от воспринятых извне, готовых, вчитанных идеалов Россией. Коммунизм ведь и был дикарским опытом вчитанной культуры, теоретически идеальным проектом уже готовой, придуманной – только выучи! – веры.
Сегодня, однако, весь мир живет по лекалам вчитанных, готовых идей прошлого. «Коммунистическая модель провалилась тридцать лет назад, а сейчас потихоньку сдувается западная модель демократии и либеральных ценностей» (Славникова). Каждый новорожденный приходит в мир, где не надобен, – потому что в нем уже ничего нельзя сделать. Все расписано, и за много веков люди не нашли больше двух дорог: затхлый совок – или растленное делячество. Одиозность или нажива – тебе нечем больше увлечься. Это отчаянное заблуждение, ложной предпосылкой которого становится вера в то, что единственной альтернативой идейного насилия, идейной лжи может быть только вовсе безыдейное, свободное от любых принципов существование. Идея и деньги – эти разменные монеты торга капитализма с коммунизмом истерты экспериментами, не обеспечены запасом прочности, скомпрометированы подделками. Когда дихотомии обанкрочены, приходит время задуматься о числе «три».
Третий путь предвещает миру Леонид Фишман в статье «Смена ориентиров» ( www.politjournal.ru ). Он связывает перспективы « действительно иного будущего» России с «радикальным изменением миросистемы». В этом предположении отражена тоска современного человека по нескомпрометированному пути общественного развития, по возможности не покупать смысл жизни ценой идеологического рабства, а саму жизнь – бездумьем.
Третий путь – это код Птицы Паулин как метафоры неизвестного, но ожидаемого и дорогого будущего России. Конкретные догадки об исторических задачах России неизбежно огрубят тончайшее предчувствие миссии, то есть ненапрасности и самоценности существования русского типа в числе духовных разновидностей человечества. Наша задача пока жить честно, воплощая свою частную миссию, а проще говоря, делая свое дело, и верить, что «не будет обронена и потеряна человечеством Россия <…> как привилегированное пространство свободного, алчущего и страждущего духа» (Ермолин).
Ведь, что и продемонстрировала нам проза о «русском проекте», историю делает не политика, не строй и лидер, не революция или централизм, которые взаимообращаются друг в друга, а – душа.
Мы – каждый – рождаемся с будущим за душой. С Историей за пазухой тела.
(Опубликовано в журнале «Новый мир». 2007. № 1)
Человек с ружьем:
смертник, бунтарь, писатель
Ретро-война и современный ремикс
«Добровольцы (рекрутская)» – стихотворение просилось в эпиграф. Его подарил мне на последнем Форуме молодых писателей в Липках молодой поэт Сергей Михайлов, вместе с другими произведениями своего сборника [113] . Особого внимания в нем заслуживали два раздела свободных стихов, глубокое обаяние которых основано на соединении света «вечных» тем человеческого бытия и трагической мглы остро прочувствованной автором современности. Я отвлеченно наслаждалась искусством, как вдруг одно из стихотворений своей почти агрессивной злободневностью сбросило меня с ясных высей эстетики на хмурую твердь публицистики. «На войну собирались шестеро»…
Поочередный говор шести богатырей в стиле старинной баллады или народной былины. «Говорил один…», «Говорил другой…» – каждому из шестерых автор подбирает свой мотив идти на войну – в традиционно-романтическом ключе: первый идет «за родимый край воевать», второй – искать пропавшего на войне сына – или мстить за него, третий – испытать себя и славу заслужить, четвертый – за добычей, пятый – от одиночества бежит, а шестой, «самый молодой», – от несчастной любви. После зачина сразу следует развязка:
На войне оказались шестеро, В вертолете одном, лицом к лицу. Говорит один: И дурак же я! За Державу шел, а пришел, как вор, Не свое защищать, а чужое брать. Говорит другой: Старый я дурак. В мясорубке этой кого найдешь? Отомстить – кому? Черту с дьяволом? Третий говорит: Что я за дурак? Нет, война без разбору людей кладет. Я троих убил – все гражданские. Говорит четвертый: А я, дурак, Поживиться думал на дармовом. А теперь бы просто пожить еще. Пятый говорит: Дураком я был – Стал вдвойне дурак. Бедовал один, Так теперь со смертью в обнимку сплю. Говорит шестой (а висок седой): Не любил бы я – не страшна и смерть. Не страшна и смерть – только б свидеться. Ты меня, сержант, как-нибудь пусти, Мне проститься с ней, и достаточно. Но шестерым и еще шестнадцати. Не уйти на родную сторону. Всех накрыло одной гранатою – Замолчали они, убитые.
Никто из героев, пришедших на войну со своим дорогим умыслом, не нашел в ней мало-мальски ценного смысла. Сергей Михайлов представил нам войну-саму-по-себе, очищенную от наших иллюзий и украшательств – до состояния чистого понятия «войны» как воплощения противоестественного миропорядка, не управляемого разумом, абсурдной ситуации, неприменимой к живым нуждам человеческой жизни.
Независимо от провозглашаемой цели дело человека-воина заранее проиграно: войну не оправдать, не приспособить.
Эта чисто современная, сравнительно недавняя концепция войны нова для нас, со школы привыкших видеть в войне высокий подвиг богатырей Куликовской, Бородинской, Сталинградской. Война для традиционного сознания – это ратное дело, столь же благородное и извечное, как какое-нибудь кузнечное или земледельческое.
Во введении к текстам Олега Блоцкого, тогда под грифом «новое имя в молодой прозе» выступившего со своими «афганскими» рассказами и повестью («Дружба народов». 1993. № 2), писательница Светлана Алексиевич заявляет о сломе отечественного представления о войне: «Мы любили человека с ружьем. <…> Человек с ружьем нам обычно представляется солдатом сорок пятого – солдатом Победы. Каким-то гипнотическим образом из нашего воображения исчезало то, что творил человек с ружьем и что творило ружье с душой этого человека. <…> Нам нравились стихи о войне, но мы не представляли себе, как пахнет засохшая кровь на солнце и на что похожи человеческие кишки, выброшенные осколком из живота».
Афганская тема и слом военного самосознания – сочетание не случайное. Именно последние войны, афганская и чеченская, не говоря уже о других многочисленных межнациональных конфликтах на территории бывшего Союза и не упоминая о заморских вьетнамских и иракских кампаниях, подвели современного человека к мысли о драгоценной необходимости мира, сориентировав его не на победу над очередным врагом, а на одоление войны как таковой.
Из литературных произведений о Великой Отечественной повесть В. Некрасова «В окопах Сталинграда» оказывается наиболее близкой сознанию современных «военных» прозаиков. Быть может, это обусловлено ее пониженной беллетристичностью: повесть явно стремится к документальности, словно целью автора было не преломить войну писательским взглядом, а честно ее зафиксировать и рассказать о ней полную правду. Эта же цель присутствует в прозе современных молодых авторов: в виде сопутствующего мотива у З. Прилепина и А. Карасева и в виде главного – у А. Бабченко.
Некрасов разворачивает динамику войны в наибольшем отдалении от развития личности главного героя. Война у него не очеловечена, не одушевлена романтическим восприятием какого-нибудь юноши, мечтающего о геройстве во славу страны, или мудростью советского командира из старого фильма.
Война в изображении Некрасова обытовлена, бестолкова, нескончаема. В повесть легко вошли бы еще несколько эпизодов военных испытаний (известно, что в текст первой публикации не были включены многие из добавленных автором, но не поспевших к печати сюжетов). Повесть, как и война, бессмысленно растяжима на многие судьбы и годы.
Война Некрасовым не слишком твердо подогнана даже под идею о спасении Родины – война неразумна. В ней много случайного, беспорядочного, недостойного, часты несовпадения между верхоглядским пафосом командования и нуждами отдельных подразделений. В ней очевидно бессилие вооруженного человека.
То, что когда-то смутно подозревалось, теперь становится предметом твердой уверенности. Сегодняшние авторы «военной» прозы максимально деидеологизируют битвы, окончательно разводят войну и воина, выявляя в воине человека, а в войне – подавившую его махину античеловеческого.
Каждый из этих авторов лично прошел через армию и войну. Денис Гуцко (род. 1969; повесть «Там, при реках Вавилона» опубликована в «Дружбе народов». 2004. № 2) служил в Советской Армии. Александр Карасев (род. 1971; «Запах сигареты» и другие рассказы опубликованы в «Дружбе народов». 2004. № 4) служил в Советской Армии, по контракту служил во внутренних войсках командиром взвода, участвовал в боевых действиях в Чечне. Там же воевали и Захар Прилепин (род. 1975; роман «Патологии» опубликован в журнале «Север». 2004. № 1–2), и более знакомый читающей публике Аркадий Бабченко (род. 1977; повесть «Алхан-Юрт» опубликована в «Новом мире». 2002. № 2).
При том, что произведения этих авторов посвящены опыту очень конкретной войны (армяно-азербайджанский конфликт у Гуцко, чеченская кампания у всех остальных), в текстах изображается война не в истории, а в вечности, не документально запомнившийся солдату местный конфликт, а прочувствованная вообще-человеком – война вообще.
Война вообще – так называемая «сука»-война (например, у Бабченко). Определение невозможное, скажем, в песнях Отечественной, воспевавших светлый долг защитника страны. Современный человек воспринимает войну абстрактно, в отвлечении от ее цели – защиты или нападения. Потому что цели эти из смыслообразующих идей превратились просто в вид стратегии: нападать или защищать – но ради чего? У новых войн идеи нет, и поскольку их нельзя оправдать, отгородившись от правды смерти и убийства верой в насущную необходимость конечной победы и промежуточных потерь, постольку воин в ситуации новых битв оказывается безоружен. В произведениях молодых прозаиков обнажается хрупкость, нестойкость, одиночество человека перед лицом войны.
Но обнажается и сам человек – в лице воина. «Мы <…> никогда не были пацифистами, просто не хотели быть страстными солдатами. Как будто это возможно» – так в недавней повести Олега Ермакова («Возвращение в Кандагар» // Новый мир. 2004. № 2) отражен переход от солдата к человеку, совершающийся в сознании воина-«афганца». Не– страстный солдат уже не солдат, он свободен от войны, от прикипания к ней сердцем, от почитания ее долга.
Воин-без– страсти воспринимает свое дело равнодушно – как хорошо оплачиваемую профессию, или драматично – как ничем не возмещаемое насилие над своей человеческой природой.
У героев новой военной прозы – новые отношения с войной. Великая Отечественная сделала эталонной ситуацию, в которой война проявляет человека, обнаруживая в нем достоинства или слабости. Человек словно должен быть подтвержден опытом войны: «На войне узнаешь людей по-настоящему. Мне теперь это ясно. Она – как лакмусовая бумажка, как проявитель какой-то особенный» (Некрасов). Отзвук этой традиции можно увидеть только в романе Прилепина, персонажи которого ярко-характерны и в финальном бою вырастают до символических фигур воинов того или иного типа. У него же есть и подстрочный мотив так называемой фронтовой дружбы. Но, в общем, и в его романе, и в произведениях других рассматриваемых нами прозаиков война не проявляет, а убивает, обнаруживая в человеке только хрупкий сгусток страшащейся за себя телесности, так легко разбрызгиваемой на неопознаваемые осколки.
Героем новой прозы часто избирается вовсе не герой войны. Главный персонаж слаб, трусоват, нерешителен – а значит, наиболее человечен, наиболее чисто и бесстрастно (то есть адекватно современному сознанию) воспринимает войну. Такой герой сейчас максимально удобен для воплощения авторского замысла.
Напротив, совсем исчез типаж этаких народных умельцев войны, талантливых и на все сгодившихся и в бою, и в тылу. В этом смысле интересна повесть «афганца» Олега Блоцкого «Стрекозел», названная так по имени главного героя – лейтенанта Стрекозова. «Стрекозел» – это человек старого, советского воспитания. Он всерьез занимался обучением своих солдат, в большинстве своем не умевших ни стрелять, ни драться, ни прятаться от противника. Он смог вывести их из окружения. Он смел и честен. Настоящий друг, он спешит на помощь подразделению, попавшему в беду. Он силен, ловок и умен. Наконец, он идеалист, искренне считающий войну своим красивым разумным долгом. В Афган пошел добровольно, хотя имел возможность служить в Венгрии.
Потенциальный герой образцовой повести об Отечественной войне, Стрекозов в условиях Афгана гибнет. И гибнет глупо, пав жертвой собственной доблести, на которой и сыграло подставившее его под удар противника командование: Стрекозов мог помешать старшим по званию спекулировать и проводить расправы над мирными жителями.
Возникает ощущение, что доблестные, талантливые, верящие в свое дело люди новой войне не нужны – точно так же, как не нужна ей победа и окончание битв: нетрудно заметить, что все новые войны всегда проигрышны и, в принципе (а часто и на деле), бесконечны. К концу приводит достижение цели, смысла, а новые войны отчетливо сформулированной целью не освящены.
В новой войне все спутано. Чеченец воюет в рядах российского спецназа и едет в родной для него Грозный, «быть может, пострелять в своих одноклассников» (Прилепин). Бегут на «родину», спасаясь от погромов, армяне, которые говорят и верят по-азербайджански, и соплеменники не пускают их, мусульман, в свою страну. Маленькая азербайджанская девочка объясняет, как малым мальчикам, русским солдатам, что жертвы погрома пострадали поделом: «они армян» (Гуцко).
«Сейчас это единственное, что у нас есть, – вера», – писал в своей повести В. Некрасов. Теперь же вера – то главное, чего у нас нет. «Безумие какое-то – эта война в Чечне. Не могу понять, за что там борются? <…> За что отдал жизнь мой сын? Бывало, заговоришь с ним: “Сережка, куда ты собрался? Там же убивают…” А он полушутя: “Что такое? <…> Есть такая профессия – Родину защищать”. В ответ одно скажу ему: “Родины, сын, у нас уже нет – распродали ее и разворовали”» («Война матерей» – рассказы родителей солдат, не вернувшихся с афганской и чеченской войны, записаны В. Бакиным // Дружба народов. 2004. № 12). «Сережка», отправившись защищать родину, вдруг обнаруживает себя нападающим на чужую землю, вмешавшимся в совершенно чужое культурное и природное пространство. «Что он здесь делает <…> в этом чужом нерусском поле, за тысячу километров от своего дома, на чужой земле, в чужом климате, под чужим дождем? <…> Здесь же все нерусское, другое»; «К Чечне он не имеет никакого отношения, и ему глубоко по барабану эта Чечня. Потому что ее нет. Потому что тут живут совсем другие люди, они говорят на другом языке, думают по-другому и по-другому дышат» (Бабченко).
Это ощущение игры на чужом поле, этот подавляющий образ чужого пространства, которое уже само по себе, помимо местных людей, воюет против тебя, русского солдата, впечатляюще удалось воплотить «афганскому» прозаику Олегу Ермакову в романе «Знак зверя». Афганское солнце, замораживающее дневные часы в мертвой знойной вечности, афганское лето, вмиг старящее ландшафт, афганские «звезды грузны, горячи, русские – бледнее и легче», сеющая ужас догадка о слитности местных повстанческих отрядов с местной землей, которая им помогает: «Может быть, действительно они воюют на этих горах с духами? Бесплотными и неуязвимыми духами гор?» В новых войнах нет фронтовой полосы – есть дома, улицы и рынки, приспособленные под атаку и оборону. Постом спецназовцев может стать бывшая школа, орудием чеченских боевиков – школьные качели, которые они заминировали (Прилепин). Пространство межнациональной войны – мирное, обжитое чайханщиками и цирюльниками пространство. Люди по-восточному неторопливо и со вкусом гуляют, бреются, пьют чай, угощают русских солдат бахлавой – но «кто же все-таки громит армянские дома?» (Гуцко). На чужой земле победы неуверенны, обратимы: «Город в руках федералов, – слышу я разговор в другом месте, – но боевиков в городе до черта. Отсиживаются. Днем город наш, ночью – их» (Прилепин).
Не секрет, что новые войны проходят под знаком скрытности и видимой (или действительной?) бестолковщины. «Ничего никто не знает, бардак обычный» (Прилепин). Чаще всего тема преступно бестолкового ведения новой войны возникает в романе Прилепина. Публицистический пафос этих эпизодов тщательно замаскирован, аккуратно вписан в художественное движение текста – и все-таки правда о войне бросается в глаза, будто выделенная шрифтом газетной вводки. Противником расстреляны дембеля, отправленные в аэропорт уже без оружия. Пьяный прапорщик, стреляющий по своим. Задержка помощи, пренебрежение сообщениями о планах противника, недоверие солдат к командованию.
Такие особенности новой войны задают новое к ней отношение, немыслимое во времена Великой Отечественной. Так, для героя повести Некрасова ситуация боя, отчетливого присутствия противника желательней, чем скитание без дела вдали от линии фронта: «Хоть бы немцы где-нибудь появились. А то ни немцев, ни войны, а так, какая-то нудная тоска»; «отсутствие дела страшнее всего». Высказывания совершенно безумные в нынешней войне. Герои современной прозы все, как один, хотят отсидеть положенные по командировке дни в бездействии. Страшнее всего для них именно «дело», а уж фразу типа «хоть бы “чехи” где-нибудь появились» в их устах представить почти смешно. «Главное, чтоб командир у вас был упрямый. Чтоб вас не засунули куда-нибудь в… <…> у нас на пятнадцать человек – двое раненых – и все. Потому что клали мы на их приказы»; «“Вот было бы забавно, если бы мы в этой школе прожили полный срок и никто б о нас не вспомнил…” – думаю» (Прилепин).
«Если бы солдат был сыт, одет и умыт, он воевал бы в десять раз лучше, это точно» (Бабченко). Логика немыслимая для Отечественной войны, когда кормила и грела идея о неотвратимом, само собой разумеющемся долге, когда силы удесятеряло не условие: «если – то», а опрокидывание условий: «несмотря на то что – все-таки».
Для персонажей новой войны их дело – не кровная необходимость защитить родину (потому что вдали от нее, потому что в чужом пространстве). И не амбициозная боевая кампания (потому что организация бестолкова и любой успех с лихвой компенсируется нелепыми потерями, потому что нет доверия к планирующим кампанию верхам). И не путь к славе и подвигу (сама война как дело вообще и как конкретный конфликт с неопределенными правыми и виноватыми примешивает к мысли о всяком действии во имя нее язвительную нотку сомнения). Недаром мы встречаем у Карасева эпизод с выписыванием, по указанию начальства, наградных за вымышленные подвиги, медали по которым все равно не были получены, а у Прилепина читаем и вовсе нелепую для сознания воина Отечественной вещь: «Снова пили, приехав в Ханкалу, и наш куратор обещал нам ордена. Вася послал его на х… от всей души, и куратор ушел и больше не приходил» (Прилепин).
Что же тогда новая война для ее участников? Пожалуй, остается только один нескомпрометированный вариант: работа, «такая профессия» – не столько родину защищать, сколько выполнять для нее эпизодические боевые задания, без надежды на финал, итоговый результат, изменение ситуации. И должен ли, кстати, стремиться к окончанию войны профессионал, которому за каждый день конфликта набегает гонорар?
Нет, я не о том, о чем вы подумали: платить армии необходимо, и платить хорошо, как за одну из самых страшных и тяжелых работ. Но сам факт того, что появилась необходимость в ведении войн, которые не поднимают вынужденно всю страну на оборону, а требуют привлечения наемных сил, – сам факт этот убийственно характеризует нашу эпоху и показывает излишнесть, смысловую натужность новых войн, отсутствие связи их с традициями общенародного сознания.
В повести Бабченко есть замечательный по обличительному заряду эпизод – ситуация из центра войны. Вникайте в расклад. Чеченский снайпер «не прячась» бьет по нашим ребятам, которых нам из нашей точки обзора не видно. Зато нам отлично видно ходящих тут «вэвэшников», которым, в свою очередь, тоже видно снайпера, но наплевать. Ведь стреляет он не по ним, а нападешь – чего доброго, пристрелит кого-нибудь. Герой с напарником тоже видят снайпера и тоже его не трогают: у героя здесь своя задача – вернуть в часть для списания старый, на этом месте подбитый АРС. И снайпер видит героя и тоже не стреляет в него, метя в прежнюю точку. «А наши там, в той точке, видят только снайпера, и он для них сейчас – самое главное и самое страшное, и они хотят, чтобы кто-нибудь здесь его убил. Но его никто не трогает, потому что убить, выковырять его трудно, можно только обстрелять, временно заткнуть, но тогда он непременно начнет обстреливать нас в ответ и непременно кого-нибудь убьет. Но он пока по нас не стреляет, и лишний раз трогать его нет никакой необходимости» (Бабченко). Солдаты новой войны воспринимают свою задачу дробно, в отрыве от общего хода кампании. Это не их вина, а беда бессмысленности всей кампании – но как с таким отношением к войне можно ее выиграть?
Человек военный
Нарочно отданное под злободневность, вступление касается только публицистического смысла новой «военной» прозы. Теперь мы вольны отойти от актуальной темы войны к темам, более приближенным к вечности. Нас будут занимать самоощущение человека перед лицом смерти, и проблема свободы, и вопрос о художественности «военного» произведения, в котором часто значительность темы подменяет глубину эстетических достижений.
Ибо внутренний смысл и литературное значение «военной» прозы не исчерпываются ее посвященностью войне.
Более того, внутри рассматриваемых нами произведений как группы текстов возможно свое разделение: на произведения о войне и произведения об армии. Если роман Прилепина и повесть Бабченко это в чистом виде военная проза, то рассказы Карасева посвящены теме армии на войне, выявляют готовность военной системы к выполнению своей задачи, а проблематика повести Гуцко и вовсе далека от легшего в ее основу публицистического сюжета о межнациональном конфликте. Настоящей интригой повести становится путь героя к свободе от подавляющей его личность армейской системы, так что внутренним сюжетом произведения становится не «человек и война», а «человек и общество».