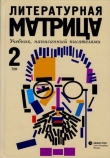Текст книги "Матрица бунта"
Автор книги: Валерия Пустовая
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 34 страниц)
Не сломался ли ветер? – вот чем озабочено стадо, мерящее свою подлинность правдивостью учителя, к которому притянулось. Феликс фон Вик не однажды поставлен автором перед необходимостью отстоять свою преданность любимой жене и любимому композитору – двум абсолютам его веры, попираемым выходками Пирумова. И он пасует перед новым кумиром: позволяет Пирумову вмешиваться в их с Ольгой общение, а на заявление охальника: «Поганец ваш Бах!» не возражает, а только спрашивает «с ужасом» готовой поколебаться веры: «Почему?».
Предавший любовь и Баха готов к иудству и по отношению к самому учителю. Маканин доводит эту игровую ситуацию отречения до ее логичного конца. Грех низкого, сусличьего ученичества показан Маканиным в образе тишайшего и вернейшего последователя знахаря – некоего студента Кузовкина, отличавшегося тем, что на собраниях якушкинцев всегда был кропотливо занят конспектированием «огненного бреда» знахаря. Когда стало ясно, что «полубог» Якушкин бесповоротно лишился дара, Кузовкин открывает конвейер апостольства: мы замечаем его конспектирующим на встречах с авторами иных методов нетрадиционного излечения. Кузовкин все придирчивее в выборе системы – и все дальше от истины: «он перебирал, складывая в стопки, тетрадку за тетрадкой – якушкинские – суханцевские – шагиняновские: темные слова, темные мысли».
Кузовкин – это предел «пирумовства». Низкий вариант последования, когда ученик видит в пророке готовую истину, которую можно купить свидетельством (конспектом!). Стадная «тяга» к пророку – это преданность не овец, а комаров. Не стадо за рожком, а рой над сосудом живительной крови. Паразитизм. Но вот принципиальный итог и маканинской повести, и левитинского романа: к «одиночке» нельзя присовокупиться, «оригиналу» нельзя уподобиться. Слава пророка венчает долгий жизненный поиск, его чудеса – огонь над жертвенником, его сила – не облегчение, а наложение такого бремени, которое для паствы было бы непосильно и которое она поэтому не умеет даже принять во внимание.
Левитин в своем романе как раз совлекает со своего пророка завесы тайны, славы и власти, открывая нам ночную часть дара, бремя силы пророка. То, что стаду видится всегда с собой совпадающей точкой, развертывается в путь с прошлым и неуверенным будущим. И здесь тоже «предтечей» Пирумова становится маканинский Якушкин.
Крест Якушкина – высокое бремя истинного дара. Бытовое переложение гимна, пополнившего классический свод мифопредставлений человечества: о призвании к священной жертве того, кто в миру всех ничтожней. Внешняя жалкость его – необразованность, судимость, потешность – только оттеняет своим комизмом драму внутреннего сокрушения. Венцом испытаний знахаря станет, конечно, прижизненная потеря дара и славы. Но и в силе знахарь часто предстает скорее трагическим поэтом правды, нежели лубочным стариком-травником. Якушкин предельно, невыносимо – то есть для пророка как раз посильно – одинок. Знахарь, едва не погибший в своем флигельке во время эксперимента на себе самом по исследованию жизненных сил человека, но не принявший сторонней помощи. Знахарь, потрясенно выходящий из комнаты к разозленным родственникам первого человека, умершего у него на руках, отягченный привеском вины за то, что, следуя обычному курсу лечения, даже не пустил никого напоследок поговорить с больной. Знахарь, сокрушающийся о своем слабосилии, в котором он может признаться только себе, и упрекнуть, и укрепить себя может только сам, о чем нам ненавязчиво и лаконично дает знать Маканин: «Болезнь не поддавалась, и Якушкин <…> жаловался – самоучка, мол, и какой я врач. Жаловался он, впрочем, себе же».
Сусальная легендарность пророка возвращена к истокам – живому, мучительному движению еще не завершенной судьбы. Ко времени, когда миф только творился. Нимб славы – итоговая точка смыкания двух потоков энергии: свыше – энергии дара и от мира – энергии личности. Пророк Левитина промотал свой нимб в стяжании земного венца. Мощнейший вихрь личностной энергии, жажды и дерзания, запускаемый им в небеса, врезается в пустоту, не встречая ответной вести оттуда. Пирумов и называем иронично автором: «г-н», потому что это званый, но не избранный, пророк, забытый небесами. Пророческое бремя Пирумова отяжелено прахом и гордыней. Его крест – это лукавая мука неблагословенной силы.
Театральщина, скользкость, сомнительность учительства Пирумова в том, что он обратился к пастве не от полноты знания – от нужды. В учительстве его занимает «чудо подчинения человека <…> чужой энергии и воле». Но власть – это несвобода пророка, зависимость от покорности ученических душ. Мейлахс в своем романе о самозваном пророке проговаривает то, что левитинский Пирумов выражает пантомимой исчезновений и гримас. Мучительный монолог Пророка № 1 раскрывает драму его разочарования во власти как «суррогате правоты». Покорностью чужих воль лжепророк меряет свою правоту. Духовный захват – его способ экстенсивно нарастить своей «правде» вес. Паства – участок отвоеванной реальности, в которой он может утверждать себя безраздельно и беспрепятственно.
Настоящий пророк силен, потому что правдив, – его оборотень, наоборот, прав постольку, поскольку силен. Ученики Пирумова жестоко ошиблись, приписав ему свойства гаранта правды. Пирумов сомнителен сам себе, его учительство – самообман, способ взять благословение не свыше, а от земли, завоевав признание у малых ее. Роман, начавшись как история группы людей, вовлеченных Пирумовым в поход к духовным авторитетам Персии, постепенно смещает акцент на духовный поиск их учителя. Кульминация разоблачения – посещение монастыря, в котором герои становятся свидетелями вочеловечивания «мага», впервые слыша не только его неожиданно простое имя, но и предысторию его пророческого пути.
Г-н Пирумов обличается как носитель вины человеческой отдельности, гордыни и своеволия. Лжеучитель вырастает из лжеученика – эту идею разделяет и роман Орехова, о котором речь впереди. Духовный масштаб Пирумова резко сжимается перед лицом монастырского старца, его первого учителя, – как повергается в бездну Люцифер перед гневом Творца. В их диалоге автор преподносит притчу о лжезнании, так что и вопросы, и ответы в ней нагружены знаковым содержанием. Учитель исповедует бывшего ученика о мере постигнутой им в скитаниях правды. «Кое-что узнал» – это о кусочности, неполноте знания. «Поделились с тобой? – Сам взял. – Украл, значит?» – о неблагословенности знания, Пирумов не был в самом деле посвящен. «Мучение одно», «а не все ли равно?» – отчаяние Пирумова, пришедшего в итоге к духовному релятивизму: есть практики, техники и системы, но нет истины, а значит, нет покоя и просветления, не на что опереться – только упереться в тупик всесилия. Проклиная бывшего ученика, старец заклинает неблагословенностью и его умения, которыми он пытался делиться со своими последователями: «И лица у вас хорошие, – говорит он Феликсу и его жене Ольге. – А благословить вас не могу. Пока вы с ним, не могу».
Лжепророческое бремя Пирумова – это метания духа, не сумевшего признать ничего и никого выше себя. В финале он говорит: «… теперь я могу признаться вам в этом, я совершенно не умею умирать, так и не научился». Не знать смерти – значит, не знать себе границ, – мы возвращаемся к фигуре «запредельщика» из романа Крусанова. Герой-пророк, отметающий смерть, как любые силы и законы, полагающие ему предел, участвует в мистерии под названием «Бог умер», где Бог суть прежде всего возможность высшей инстанции смысла и благословения, предельная несомненность, гарант мира, абсолют подлинности. Сила, неподвластная человеку, то есть существующая безотносительно, помимо нашей ловкости или мошенничества. Пирумов – типичный случай последнего века, оскопившего небо. Когда каждый – раз нет иерархии, структуры и формы овладения правдой – может самовольно объявить себя посвященным: пророком, художником, знатоком. Человек последнего века – это лжеученик, чей Люциферов грех обличен в его лжеучительстве, а в итоге – в недостижимости покоя, в неуверенности, неясности его, человеческого, образа.
«Сердце чувствует, дурит ваш маг, балуется», – один из двойников Пирумова в романе, предводитель банды дезертиров, точно улавливает состояние брата по самозваному духу. Реальность ученических душ слишком мало сопротивляется, она непостоянна и несамостоятельна, а значит, слишком эфемерна, чтобы подтвердить существенность Пирумова. «Вся эта история его больше не интересовала. Он жил будущим», – проповедническая деятельность «мага» была не итогом, а только этапом его духовного пути. Наречная проповедь, прочитанная Пирумовым в восемнадцатой главке романа, должна, по мнению и читателей, и героев-учеников, открывать историю передвижной «колонии» Пирумова, а на деле венчает его учительство концом.
В романах Мейлахса, Крусанова и Орехова лжепророк компенсирует обличенную в нем неправду – властью, подменяет знание – силой. Но Левитин решительно пресекает такой ход пророческого сюжета, воплощая идею близости лжепророка к вождизму иначе, косвенно. В одной из главок Пирумов попадает в лапы чекистов и встречает Сталина, абсолют земной силы и власти, с которым, по роману, учился в семинарии. «Он мой друг, он мой брат, свояк, соученик», – Сталин, абсолютный вождь, утвердивший свою правду на крови и кротости многомиллионного стада, мелькает в романе именно только как «брат», угроза пути лжепророка. Самого Пирумова автор ведет мимо, по пути дальнейшего, полномерного, сокрушительного вочеловечения. Как будто валится в яму браво дудевший оркестр – срыв сюжета учительства, который роман открывает и потому до последнего претендует в нем доминировать, придает тексту динамику стремительного, со свистом скатывания в пустоту. И завалил бы Пирумов роман, если бы наравне с ним в произведении не начал развиваться второй, противоположный человеческий тип. В рамках нашей темы Левитин делает решающий выпад против Курсанова: в своем романе он не гасит, а напряженно, до итогового торжества разгоняет линию ученика.
«Ты способностями мир понять хочешь, а тебя любой дурачок опередит, мир смирением познается», – насмешливые слова монастырского старца переключают наше внимание с феномена учительства на путь ученика. Левитин гармонизирует движение романа, дополнив воплощение самости, лидерства, своеволия – олицетворением самоотречения, преданности, послушания. «Сверхъестественной силой Феликс фон Вик не обладал», – первая же фраза романа ставит вторую центральную фигуру романа в оппозицию многосильному «магу».
Феликс фон Вик, офицер в отставке, встречает Пирумова в подходящий момент духовного опустошения, которое предопределило его интерес к будущему учителю. «Полный крах» упований на судьбу музыканта заставляет его мучительно искать иного призвания. Поначалу кажется, будто Феликс следует за Пирумовым по общей логике стада – в желании переложить груз ответственности за свое «я» на плечи пророка. Нельзя не признаться в том, что этот симпатичный, доброжелательный персонаж поначалу вызывает у нас чувство сожаления и даже презрения. Человек, так безболезненно, доверчиво, по-дурацки отдающий во власть едва знакомому ловкачу себя, жену, убеждения, поступки, свою дворянскую, офицерскую, мужскую, наконец, гордость, зримо проигрывает независимому верховоду Пирумову. Но автор недаром наделяет Феликса контрастными эпитетами – «Феликс фон Вик, легкий серьезный человек», контрастными свойствами – огромной силой и кротостью, внушительной наружностью – и склонностью к самоумалению. В предельной униженности, нелепости, самобичевании и сокрушении Левитин вдруг, от противного, находит основу для преображения, высочайшего утверждения человеческого достоинства.
В то время как учительские способности Пирумова сдуваются до нуля, ученический дар Феликса фон Вика приобретает неотразимую силу. В своем умении следовать потоку жизни, смиряться и жертвовать герой-ученик преодолевает все более сложные испытания. Ученичество открывается как истинное призвание бездарного музыканта Феликса фон Вика. Он наделен такой чистой, истовой жаждой благословения, что сам себя облагает виной, извлекает урок даже из самых абсурдных заданий и верит в дар учителя больше, чем сам наставник. «Феликс фон Вик, верите ли вы, что я могу накормить пятью хлебами сорок тысяч человек? – Верю, – тихо сказал Феликс. Даже г-н Пирумов опешил». Это идеальный ученик, сумевший сравняться с пророком в своем возвышении над стадностью. Его послушание так велико, что из принципа бездействия перерастает в поступок. Ученичество Феликса – духовное бодрствование ведомого, которое, прибавляя в напряженности, в итоге перерастает в откровение.
Неозвученное учение Феликса фон Вика – это правда любви. Итоговая правда повествования, благодаря которой, пользуясь ключевым выражением романа Крусанова, «полюса самодовольства и беды», силы и сокрушения окончательно поменялись местами. Финал выявляет, что Пирумову не дается ученичество, как не дается любовь. Влечение его к подлинному знанию так же нетерпеливо, заносчиво и потому безответно, как его влечение к хозяйке балетной студии Жанне Беньон. В ее лице Пирумов впервые сталкивается с равноценной, независимой личностью, которая сама по себе объективна и не подвластна его воле. Жанна становится его новым божеством, истоком, гарантом, к которому он припадает в надежде наконец обрести благословенность и покой. Но его душа не умеет любить, не покоряя, не покровительствуя, не ввергая в зависимость, а если покорить не выходит – убивает. Пирумову проще уничтожить фрагмент реальности, не подчинившийся ему и тем нарушивший миф о его правоте. И, поняв, что он Жанной непоправимо отвергнут и до нелепости не нужен ей, успешной, гордой, красивой, он с помощью высочайших своих умений, приобретенных в скитаниях, посылает ей убийственный гипнотический импульс.
Но ученическая бездарность преследует Пирумова до самого конца. Его финальное крушение автор предвещает в аллегорической сцене, посрамляющей безлюбовную, своевольную, дьявольскую силу Пирумова. От отчаяния и тоски «маг» просит Феликса научить его играть на рояле, скоро и с нуля, ведь он так «быстро схватывает». «Не давая отзвучать фразе», Пирумов «нетерпеливо отталкивал Феликса и повторял услышанное абсолютно точно, но с такой яростью, что Феликс с трудом узнавал музыку. – Так нельзя играть Баха, – сказал он наконец». Это драма неблагословенной, бессодержательной силы Пирумова, которому дано любым умением овладеть «безупречно точно», но не дается духовный прорыв. Его ловкость не рождает музыку, его властительность не внушает любви, его умения не составляют знания, его способности не слагаются в личность. «Так нельзя играть Баха» – так нельзя проповедовать, учить, утверждать себя. Финал романа показывает, что есть вещи, которые не взять силой и произволом. Есть то, что положит предел самому сверхчеловеку.
Крусановский текст двигала центростремительная динамика возносимой до небес башни. Реальность в нем подбиралась, подминалась под единую сюжетообразующую волю. Весь вытянутый к финалу, он увенчивал действие тотальностью исполнения надежд. Роман Левитина, напротив, бежит увенчания. Персонажи начали свой путь в Персию масочной «труппой», с пудреным благообразием и клюквенной болью. Финал приобщает их к нешуточной смерти, навечной разлуке, роковой немощи, предельной любви – подтверждая их новый, человеческий статус. Трос сюжета-путешествия лопнул: Персия осталась невиданной, духовные практики уступили место бегам и пряткам. Но эффект недоговоренности не должен сбивать нас с толку. Ведь вполне довершен внутренний сюжет романа: раскрытие героями своей предельной, освобожденной от домыслов и амбиций сути.
Развенчанный сперва в антихриста, духовного брата вождя, затем в лжеучителя, шарлатана, «божественный» г-н Пирумов в итоге из пророка превращается в профана, из «мага» – в жертвенную овцу. Посланный им за вестью о смерти Жанны Беньон, Феликс видит ее идущей в окружении поклонников после спектакля свежей, будто она не то что не умирает, а и «не устала вовсе». Но, возвратясь на вершину горы, где нетерпеливо ждет его наставник, он не сказал, что Пирумова обманули его восточные учителя или что он сам обманулся в себе. Потому что к этому моменту он уже выбрал свой путь, который отныне ни на йоту не зависит от силы и решений Пирумова. Феликс – «юродивый» любви, ученик, который не снял с себя бремени послушания, даже когда его покинула жена, и не отрекся от учителя, даже когда тот «раздавлен» и уже ничего не может ему дать. Духовная инициатива и сердечная преданность Феликса, по сути, ответ и совращенности Евграфа, уподобленного учителю «как запредельщик запредельщику» (Крусанов), и пожизненному, конвейерному ученичеству вечного студента Кузовкина (Маканин). Уникальный в рамках нашей темы случай, когда в образе героя-ученика утверждена правда смиренной, познавшей свои границы, страдательной, не сверх-, но высокой и сильной – христианской по тону человечности, христианской по исполнению любви.
Пробужденный дважды
Экзотичность сюжета «Будды из Бенареса», первого романа петербургского публициста и прозаика Дмитрия Орехова (СПб.: «Амфора», 2006), соблазняет рассматривать его особняком. В самом деле, публицистический пафос романа – ко времени его написания автор выпустил ряд популярных книг о православных святынях, так что и в художественном своем повествовании зримо преследует конфессиональные цели, – кажется, рассчитывает задеть прежде всего чувства востоковедов. Интрига романа строится на версии об историческом существовании не одного, а как минимум двух основоположников буддизма. Но, как это случается в искусстве, произведение перерастает замысел. Заведомость итогов, одномерность второстепенных персонажей, обывательская простота психологических мотивировок маркируют книгу как ладную, увлекательную и не безмысленную, но – беллетристику. Нам интересны в романе черты, которые авторскую прямоту, беллетристическое простодушие, публицистичность замысла – преодолевают.
Перед нами не что иное, как оригинальный поворот пророческого сюжета. К чести автора, за читательское сердце в романе борются не мировоззренческие системы, а полномерные образы, и два Будды в нем – это не исторические соперники, а прежде всего два духа, два антагонистичных пути к правде.
«Два брата, два кшатрия из рода шакьев, два отшельника» – Сиддхарта и Девадатта – в романе Орехова продолжают ряд пар героев, воплощающих в себе альтернативные взыскания истины. В рамках нашей темы роман подводит своеобразный итог, вмещая все намеченные ранее коллизии пророческого сюжета. Сиддхарта и его двоюродный брат Девадатта воплощают уже рассмотренные нами на примере других текстов оппозиции учителя и ученика, пророка и лжепророка, пастыря и вождя, посвященного и узурпатора. Орехов, по сути, подводит черту под перечнем вариаций на пророческую тему, отображая и чуть ли не формулируя главный, итоговый взгляд времени на путь веры и правды как направление нашей жизни.
Несмотря на напряженность и незатушеванность смысловых ходов, «Будда из Бенареса» выполнен вовсе не в духе романа идей. Повествование дышит простодушием и живостью приключенческой истории. Действие романа замешано на исстари движущих эпику битвах, тайнах, крови, любви, а рассказано с поэтичностью индийского гимна. Из исторических фактов, древностей быта, жреческой образности автор соткал покрывало майи такой плотности и яркости, что, кажется, от этой пестрой, страстной, живительной полноты только и скрыться, только и перевести дух – в зиянии пробившего материю мира учения о сладости развоплощения и благе пустоты.
Сиддхарта Гаутама сосудом небесной влаги является в изжаждавшуюся долину Ганги. Роман зримо воплощает крушение и надежду «осевого» времени, «брожение умов». Брахманские верования потеряли значимость духовного ориентира, стали предметом торга и средством кастового обогащения. Идейный разброд провоцирует людей видеть истину в хлопотах джайнов о всякой насекомой душе и кровавом культе бхайравов, поклоняющихся пожирательнице детей, глазеть на дюжего отшельника, протыкающего себе иглой шею, и задумываться о шансах на лучшее рождение самоубийц, утопившихся в водах священной реки. Сиддхарта совершает духовную революцию, находя истину не через культ и фокусы, жертвоприношения и пост, подражание наставникам или толкование о круге воплощений, – а исключительно благодаря своей способности, очистив знание до ясности жизненного принципа, сделать его законом своего пути.
Однако пророк действенной правды предстает у Орехова не просветленным, а борющимся. Знание наделило Сиддхарту волшебными умениями и даром власти над людьми, но не сделало его сверхчеловеком. Пророк в романе – живая, динамичная личность, чье знание – это прежде всего ее собственное испытание на подлинность.
Сиддхарта, учивший относиться к людям как к «пузырям на поверхности Ганги», на деле посвятил жизнь тому, чтобы добиться для них, «пузырей», счастья. Его учительство – это дело жертвенной любви к человеку.
Чистые воплощения вождизма и пророчества столкнулись в образах Девадатты и Сиддхарты. Воля к победе и самоотверженная тяга к истине. Инструментальная оправданность любого средства и бдительное продумывание пути. Действие и созерцание, сила и знание, власть и спасение. Драма подмены, положившая, по роману, начало мировым завоеваниям буддизма, на самом деле не так далека от нашего времени. Соблазн отмахнуться от выбранной автором темы, отправив книгу пылиться на полку древностей, вступает в противоречие с точностью и узнаваемостью сюжета духовного совращения толп, участниками которого мы можем стать в любую историческую минуту. Не надо ждать конца света, чтобы увидеть антихриста. Лжепророки в лице вождей самого различного масштаба готовы перекрыть любой свет, затмевающий их славу. Наше время сближает с невообразимой эпохой романа энергия разброда. Общество, в котором дважды отменяли предания старых вер, может, если воспользоваться образными антиномиями романа, пойти по пути Сиддхарты или Девадатты. Внутреннего выяснения – и внешней принадлежности. Самоопределения – и следования сильнейшей воле. Сюжет воцарения Девадатты как «Великого Шрамана» главной в долине, а в дальнейшем и в мире не последней религии показывает, с какой легкостью ложь завладевает массами, чьи духовные основы поколеблены историей, а способность к размышлению и исправлению ослаблена собственной ленью.
Девадатта профанирует духовную жажду масс, подменяя ее желаниями. «Люди, приходящие сюда, слепы. Они хотят для себя блага, которое понимают как удовольствие», – то, что для Сиддхарты было главной препоной учительства, его брат и соперник превращает в волшебный ключ. Объявляя себя ближайшим учеником и продолжателем дела Сиддхарты, Девадатта в корне меняет его подход к человеку. Кшатрий расшатывает крепости чужих душ, ввергая людей в желания и рознь, потакая их порокам и предрассудкам. И люди – миряне и отшельники – с тем большей охотой поддаются его власти, чем больше он облегчает им путь и понимание «правды». Сиддхарта отлучал мужчин от мира, восстанавливая против своего учения женщин всех возрастов, от дочерей до матерей, – Девадатта открывает женские общины. Сиддхарта запрещал убийство – Девадатта придумывает брить отшельникам головы, чтобы каждого из них вооружить смертоносным лезвием. Сиддхарта велел блюсти строгость нищеты – Девадатта добывает деньги на крепости монастырей. Сиддхарта укорял – Девадатта первым делом возвещает, что «даже самый последний из двухсот» учеников Сиддхарты «вошел в Поток, не подвержен возрождению в страдающем состоянии, и каждому в свое время суждено просветление». Община Девадатты прибавляет в социальном престиже, в защищенности и обеспеченности и – как следствие – в популярности. «Удовольствием» подменяя «благо», люди один за другим соучаствуют в великой подмене, в воцарении над ними лжепророка, вождя.
В свете этого любовная интрига романа разрешается не хеппи-эндом, как может показаться при поверхностном прочтении, а той же горечью подмены: любви – вожделением, понимания – совращением, душевного сродства – соучастием в преступлении. Танцовщица Амбапали, которой давно добивается Девадатта, захвачена тем же настроением разброда, что и все люди долины.
Предвестием духовного совращения через весь роман проходит сон Амбапали, в котором она пытается спастись от «темно-коричневого слона с клочьями пены на смертоносных клыках». Показательно, что сам Девадатта, начиная свой путь вождя, «представлял себя слоном». Именно опыт укрощения взбесившегося слона помогает Девадатте в его первом грехе убийства, когда он, оседлав сбежавшего зверя раджи, гонит его безумие к дороге, где, как он знал, привычно прогуливается и размышляет его брат Сиддхарта.
Бешеный слон-убийца – образ славы Девадатты. Удачная аллегория бесчеловечного, звероподобного запределья, введенного в нашу тему Крусановым. Девадатта и финиширует в романе как типичный «запредельщик», переступивший через альтернативу добра и зла, не знающий сострадания и человечности, променявший трепет веры на безраздельность власти, победивший именно за счет – в ущерб – истины. «Просветленному можно все, – высказывает он Амбапали ключевой принцип “запредельщика”. – Только жаждущие достигнуть должны быть твердыми в своем воздержании и постоянстве», – продолжает он в духе манифеста «трансцендентного человека», сформулированного героем Крусанова.
«Берегись, низкий человек! Жизнь еще перевернет тебя, как кувшин на водяном колесе!» – это звучное проклятие, ставшее последним, что сказал Сиддхарта замыслившему предательство брату и ученику, как будто готовит нас к показательной каре зарвавшегося пророка лжи. В действительности мы оставляем Девадатту в точке неколебимой полноты власти и жизни. Судьба его развернута на века вперед, в историю мировых завоеваний буддизма, недаром автор вкладывает в уста героя такие слова: «Это будет одно непрерывное завоевание! Колесо нашего учения покатится по всему миру, подминая царства одно за другим».
Роман о Девадатте заканчивается счастливым удовлетворением всех стремлений – и знаменует торжество лжи. Но есть и второй финал – судьба Сиддхарты. Задуманные автором как равные центры повествования, герои развиваются неравнозначно. Сиддхарта перетягивает роман на себя, терновым венцом страдания затмевая венец славы вождя. Девадатта, начинавший комическим героем, не знавшим, куда применить свою дурную молодецкую силу, финиширует не более чем персонажем исторической хроники. Что его драма? – бытовуха: предательски напал на брата, зарезал предсказателя, донес на конкурента-отшельника, переоделся, наврал, украл чужие мысли и общину. Все это на уровне Ричарда Третьего. Напротив, Сиддхарта, одически воспетый в начале романа, и заканчивает его в высоком духе настоящей трагедии. Девадатта только соблазнен, то есть укреплен в лжи, – Сиддхарта сокрушен до основания, и в этом его надежда. Он вступает на путь короля Лира, познающего новую правду через катастрофический срыв прежней убежденности.
Драму решающей исторической подмены, ставшую центральной интригой романа, автор рассчитывал использовать как компромат на буддизм. Орехов совершает контрнаступление на плоды победившей в нашей стране, как сказано в романе, «оккультной революции». «Красные монахи» самой мирной, по незрелым суждениям, мировой религии – это облаченные в кшатрийский цвет воины. Учение о недеянии – в спину атакующая сила. Мировая поступь буддизма – средство обездвижить народы, оскопить этику, лишить человека выбора, убедив его в том, что проблемы выбора нет и не только зло, но и добро давно должно быть преодолено как отягчающая карму страсть.
Неравнозначность добра и зла для автора подразумевает прежде всего неравнозначность правд буддизма и христианства. Одна из наиболее отчетливо прописанных идей романа – протест против релятивности истины. Не все равно – уйти в себя или спасти, верить в нирвану или воскресение, как никогда не сотрется для человеческого сердца разница «между мальчиком, восседающим на слоне, и мальчиком, насаженным на остро заточенный кол, словно дичь на вертел».
Уже восходящего к нирване, почти растворенного в откровении Сиддхарту автор сдергивает в битву земли: учителя недеяния заставляет совершить Поступок. Отрешенность медитации делает Сиддхарту легкой добычей демонов разброда, бхайравов, исповедующих спасительность человеческих жертвоприношений. Страх смерти, эта главная цепь, привязывающая к бытию, уже преодолен героем в созерцании. Он совершил духовный прорыв, обогнав себя, когда-то застигнутого слоном братоубийцы, на огромную духовную дистанцию. И что же? Все напряжение медитации, всю накопленную силу иддхи, все учение о недеянии и освобождении от кармы он в едином порыве воли, опередившей разум, отдает за жизнь другой жертвы бхайравов – мальчика, воспитанника старого брахмана, которого Сиддхарта встречает в самом начале своего отшельнического пути, в самом начале этой книги.
Опытом действенного сострадания, по замыслу автора, должна быть развенчана отрешенная этика буддизма. Но в свете нашей темы и непублицистического смысла романа это развенчание получает иное, общечеловеческое значение.
Сиддхарта ведь и впрямь погиб – был кончен как носитель дара, волшебных умений, пророческой силы. «Мой третий крик разметал бхайравов, словно ветер – прошлогодние листья, но он сделал меня слабее, он снова сделал меня человеком». Этот сокрушительный опыт сближает Сиддхарту с героем пророческого сюжета Маканина, тоже пережившим свой дар. Пафос их вочеловеченного существования – это утверждение силы обыкновенного человеческого сердца, укрепление бывших пророков в правде любви. Схожие подлинностью своего дара и чистотой своей веры, эти герои породнены и испытанием бессильного милосердия, которому их подвергают авторы. Их путь снимает ключевую для нашей темы оппозицию пророка и частного человека. И Маканиным, и Ореховым пророк уподоблен любому из его паствы, и тяготы немощи усилены для него бременем бескрайней любви к людям, порывом действенного милосердия.
Сиддхарта спасен автором от релятивизма как запределья, от сверхчеловечности как звероподобия. Финал «Будды из Бенареса» возвращает нас к гуманистической проблеме, заявленной в произведениях Крусанова и Левитина. Безбожный гуманизм титанов и чавкающая гуманность двуногой биомассы равно низводят человечность до звериного образа. Но, по стихотворению Гумилева, «все в себя вмещает человек, который любит мир и верит в Бога».