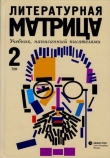Текст книги "Матрица бунта"
Автор книги: Валерия Пустовая
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 34 страниц)
Но когда мы уже готовимся, не дрогнув, принять ложечку противофилистерского сиропа, праздничный ландшафт романтической фантазии приобретает эзотерическую серьезность. Добро и зло, романтическая мечта и действительность – знакомые ориентиры тускнеют, и наш внутренний компас настраивают по новым сторонам света: крест и круг, зима и солнце.
В ситуацию мифологического противостояния зимы и солнца мы попадаем вслед за Мишатой, которую, сбежавшую из детдома, нашли в лесу снеговики. Лесная «обитель» снеговиков-схоластиков живет обетованием Полярной ночи, когда Солнце раздаст тепло «земляным» существам, а снежным подарит нетающую зиму. Вместе со снеговиками Мишата учится наблюдать за «партизанами» в ядовитой оранжевой форме, работающими на железнодорожных путях недалеко от их забеленного снегом леса. «Партизаны» – «предатели Солнца, убийцы зимы» – агенты города.
«Горожане солнца» – само название отсылает нас к утопической мысли, по Боровикову, реализованной в современной Москве. Но эта культурная цитата требует уточнения: солнце-то краденое, не настоящее. Ядовитая солярность городской цивилизации святотатственна, потому что дерзнула нарушить естество смены дня и ночи, лета и зимы. Вытеснение зимы у Боровикова – мотив, аналогичный теме утраты архаической памяти об инобытии в прозе Старобинец. Городская утопия цивилизации в обоих случаях показана как лишенная прочных оснований, преступившая вселенский закон, подделка мироздания.
Круговая заведенность городской жизни – противоестественная имитация временного цикла. Выразительно первое впечатление Мишаты от сердцевины города, метро: ловушка. Долгая спешка расчесываемой турникетами толпы, из прекрасного зала в еще прекраснейший, к невидимой, вершинной по красоте, цели – Мишата устремляется вместе со всеми, и с удивлением понимает, что в результате только вернулась с другого входа в зал, где начинала путь. Метро – циферблат Часов, беготней ворующих у горожан жизни. Поиски героев приводят к догадке о сердцевинном механизме большой суеты города, который необходимо остановить. Против Часов выставлена обетованная Елка.
Битва с Часами – это сражение с временем, взыскание вечности. Эсхатология – закономерный, по видимому совпадению мотивов у Старобинец и Боровикова, итог литературной антицивилизационной мысли. Часы города, идущие против мирового хода, – самоубийственный механизм. Мир нулевых воспринимается как последнее время , за которым только бесконечное, а потому бессмысленное повторение дня в день, и, значит, свобода возможна только за пределами этого времени, за порогом социального и повседневного, пора свершить суд.
Детский праздничный антураж сказки Боровикова приобретает грозный смысл: новогодье разыгрывается как мистерия. Каждый из образов, задействованных сказкой, постоянно преображается, отбрасывая громадные причудливые тени. Сказочник Директор растет вместе со своей сказкой, и, начав в подвале школы каноническим заточенным царем, в лесу приобретает зооморфные черты яги, а в свете елочного шара – титаническое величие: «человек-великан, высотой как царь, одеждой как Пушкин-поэт». Небьющийся паровозик, который ищут дети, раздвигается до вместительного бронированного экспоната музея революции. Сам город, цитадель краденного света, продлевается в высь крыш планетария, в глубь подземных рек, в ширь «окраинных лесов». В этом укрупнившем масштабы пространстве очередной Новый год проживается не как суета вокруг подарков и посуды, а как торжественная встреча последней на свете ночи. Человек – «никакой не хозяин тепла и стола, а бездомный скиталец» во тьме, сирота, удаленный от истинного Солнца, – готовится окончательно преодолеть границу тьмы и света. Город, «отпущенный с привязи», на которой Солнце удерживает его от падения, – что станет с ним? «Белая пустыня в непроглядной тьме» или ледяная утопия кристаллов, о которой рассказывает Мишата скептически фыркающей Фамарь?
Религиозные мотивы оставленности и возвращения, плена времени и вечной свободы вот-вот этот измученный постаревший мир разрушат и приподымут, разобьют и омолодят, грохнут и вызволят…
Но с последним ударом поезда в грандиозный циферблат метро сказка обнаруживает свою фантазийную природу. «Здравый смысл» злой колдуньи, филистерши Зауча, торжествует: вместе с таинственной цитаделью Часов осыпается мишурным прахом весь мир Директора – призванные рабочие выносят из магического подвала «старые карты, глобусы, картонные цилиндры и обклеенные фольгой доспехи, вороха детской одежды с обрывками лесочек на рукавах и штанинах и прочий мусор». Директор, по ходу игры поверивший в собственную сказку, разбит созерцанием мира, не дрогнувшего под напором его воображения. Герои вытолкнуты из сложно, но ясно расчерченного мира сказки в обыденность, где только предстоит отделить вымысел от правды, ложь от знания.
Однако итог романа деликатно подправляет традицию романтической самоиронии. Подобно сказке Старобинец, фантасмагория Боровикова спасена от судьбы сказки-лжи подключением к космическому пространству мифа.
В воспроизведении канонов мифосознания – главное достижение и самобытность романа Боровикова, лауреата Национальной детской литературной премии «Заветная мечта». Ценностной энергией здесь пронизан каждый образ, о загадке существа жизни задумывается каждая детская беседа, каждый предмет участвует в базовой бинарности мифопредставления – так создается в романе чудо, ткется волшебство. Антуражная праздничность повествования только выражение этого внимания к внутреннему торжеству мира, вместе с нами и сквозь нас проживающего судьбу своего невообразимого века. Сказка Боровикова поэтому, несмотря на образную выразительность, чуждается истерии украшения, мишурной помпезности, к которым стремится актуальная культура зрелищ. «Теперь, когда огоньки погасли, в елке не осталось ничего игрушечного, а одна только серьезная и тревожная тайна», – думает не спящая в детском доме Мишата. Если убрать профанные раздражители, сакральный восторг праздника развернется в полную силу.
Финал романа тоже гасит огоньки, оставляя совсем настоящим центральный образ Мишаты, девочки, призванной найти волшебный небьющийся паровозик для мистерии Директора. Мишата, в отличие от «реальных», характерных персонажей, истинно герой сказки, обладающий магической силой. Но сказка ее впитана мифом, и потому магическая сила Мишаты приобретает качество духовной доблести. «Это не ребенок <…> это волшебница и воин», – говорит Директор и, в ответ на насмешливое требование Зауча продемонстрировать какой-нибудь фокус, уточняет: «Ей нечего демонстрировать, она сама – волшебство». Так магия преображается в дух, безвинный страдалец – в героя, а приключение – в подвиг. Мишата убеждает читателя длить свой путь, хотя сносит и кружит, сопутствовать, когда замыслили предать, и продолжать верить после того, как все пали духом.
Новаторская сказка – попытка выйти к более архаичным пластам коллективного сознания, чем те, с которыми предлагает взаимодействовать олитературенная память жанра. Сказка вспоминает свои исторические корни, переворачивая вектор своей истории как профанной деконструкции мифа. Поэтому восстановление сказочного двоемирия у Старобинец и Боровикова – это акт постижения мифологических оппозиций как полюсов мирового целого. Частному сюжету сказки при этом сообщается космический масштаб: антиутопия цивилизации, отпавшей от инобытия, приводит авторов к эсхатологии как антиутопии земного времени мира. Таким образом, сказка вновь оказывается способной переживать пограничье .
От элемента к цельности – такая трансформация сказки призвана выправить разорванность, рассеянность постмифологического сознания. Канон обретает глубину дыхания, канонная мораль укрепляется философией духовной жизни. В центре сказки оказывается сюжет личности, в которой космическое напряжение полюсов должно найти разрешение. Это свободное включение в противостояние света и тьмы, добра и зла, жизни и смерти вновь осознается как существо человечности, отличающее природу сказочного героя от детерминированных каноном демонов, насекомых, кукол, механизмов, бессильных сделать сказку пространством своего духовного выбора.
Авторский миф
Д. ОСОКИН: Барышни тополя (М.: Новое литературное обозрение. 2003)
Ангелы и революция (Знамя. 2002. № 4)
Новые ботинки (Октябрь. 2005. № 9)
Танго пеларгония (Октябрь. 2006. № 11)
Три книги о городах и пригородах (Октябрь. 2008. № 8)
Овсянки (Октябрь. 2008. № 10)
Возведя сказочный конфликт добра и зла к мифологической бинарности, мы запустили сюжет взаимодействия мира и антимира . Обнаружить следы этого взаимодействия в личном опыте – значит создать литературный миф. «Писатель-фольклорист» – это оксюморонное определение призывает настроить архаический глаз для наблюдений за актуальностью. Денис Осокин, однажды увидев в облетающем тополе «модель существования мертвых среди живых», создал метафору «тополиной литературы» как художественного исследования сущностей .
Сопряжение с антимиром открывает доступ к чистой информации – «тополиная литература», она же «литература для мертвых», занимается не случайностью, а законом. «Мертвое» – это застывшая существенность, предельная неслучайность свойств, которая проявляется в любом явлении, выпавшем в антимир. Отсюда давший название книге текст «Барышни тополя», посвященный исследованию «мертвого», архетипического существа женских имен.
«Барышни тополя» одновременно « трактат» и « перечень» – это принципиальные для «тополиной литературы» жанры. Перечень составляет список явлений, подключенных к антимиру, трактат исследует их сущностные свойства. Персонажи трактатов и перечней разделяются на фигуры (существа и сущности, «вдавленные в антимир», принадлежащие одновременно миру живых и миру мертвых), ключи (предметы, магически открывающие доступ в антимир), пароли (ключи-слова).
«Мертвые», «вдавленные в антимир» фигуры могут быть опознаны по своей причастности к грусти, границе, травме, искажению, сексуальному напряжению – любому связанному с ними переживанию, в котором искрит незримое. Самый ранний опыт Осокина заимствовал фигуры из культурной мифологии – в тексте «Ангелы и революция», получившем премию «Дебют», авторская образная система выпрастывается, разрывая исходные смыслы, из коллективной исторической памяти. Исследовав напряжение антимира в историко-культурных представлениях, Осокин обнаруживает неисчерпаемый ресурс художественной мифологии в повседневности. Библиотекари, парикмахеры, зеркала, балконы, клоуны, птицы, огородные пугала, земля и ветер – все это фигуры. Подзорная труба, керосиновая лампа, горсть земли – все это ключи. Свойства фигур выводятся из их способности проникать из мира «единицы» (посюсторонней реальности) в «двойку» (инобытие), сочетание свойств дает основу для магических рекомендаций, а сочетание фигур и ключей – для ситуации опасности или блага для живых, страдания или радости.
Постепенно, однако, эта прагматичная магическая философия начинает осознаваться нами только как материал для образа, который от сопряжения с мифологией антимира приобретает сверхтипичность, повышенную объективность, словно и в самом деле был увиден с другой стороны мира. И этот образ, как водится в литературе, объясняет существо магических фигур, выталкивает наше воображение в антимир стремительней и точнее, нежели сухая логика трактата. Едва ли былички о «зеркальной» причине иных смертей и заболеваний в трактате «Ребенок и зеркало» страшнее образов, выражающих энергетику антимира в тяготении «к густому фиолету» или совокуплении с «пятнами женской крови» и «разбитой бутылкой», или «евгении – королеве ртути», или «сердцевине двойки», бибколлекторе, – настоящей фигуре отсутствия, где «никого нет – ни людей ни мебели. там стоит на сломанной треноге старый zeiss-овский фотоаппарат, на полу лежит смятая перфокарта. все в толстой пыли. ни следа – ни движения. <…> любой сотрудник коллектора любой предмет видимый нами если заглянуть в окно – в реальности не существует. зачем библиотекарям нужна эта тревожная фикция? что означают фотоаппарат, перфокарта, пыль? для чего пустота? для чего чувство страха, смущения и неловкости у тех кто проходит мимо?» (здесь и далее в цитатах пунктуация и орфография авторские).
Связь с антимиром становится все более опосредованной, а образность свободней. Сравнительно с трактатом «Библиотекари», в «Балконах» магическая связь предметов уступает место более тонкой ассоциативной связи. Появляются пароли с могуществом символа. Таковы «Анемоны» не цветы и «Скаты» не рыбы , выражающие сложное эмоциональное переживание, которое пытаться буквализовать было бы так же глупо, как пересказывать стихотворение. На ослаблении магического смысла образов построена композиция «Танго пеларгония», где трактаты соседствуют уже с миниатюрными рассказами. Переход от жанров мифоконструкции к рассказу и повести завершается в таких произведениях как «Новые ботинки», «Ветлуга», «Овсянки».
Тут особенно интересно: что остается от метасюжета, когда заработала сюжетность повествования? Взаимодействие мира и антимира создает в позднейшей прозе Осокина напряжение профанного и сакрального. Сюжет такого произведения становится своеобразной динамической фигурой, создающей у читателя ощущение причастности к инореальности. «Перечень» трансформируется в череду действий, не связанных логически: связь устанавливается по магическим законам антимира. Поездка старшего жреца за новой обувью вызывает цепь бытовых чудачеств его односельчан, декабрьское ритуальное уединение то и дело прерывается непрошеными встречами, покупка птичек овсянок предвещает путешествие… На последнем сюжете нужно остановиться особо.
«Овсянки», как никакой другой текст Осокина, показывает природу мифосознания – его опору на сакральное в трактовке блага и худа, преступления и правила. Текст – его можно было бы назвать повестью – интересен тем, как он может быть прочитан в рамках параллельных мифосистем. Ядро сюжета – ритуал похорон в малочисленной народности меря – принадлежит глубокой архаике. Порядок его проведения магичен, а результат освящен древним верованием. Не подготовленный этими соображениями читатель может быть этой архаикой веры шокирован.
Рассказчик помогает другу сжечь, по местному обряду, тело его умершей жены. По дороге образ умершей «оживает» в самых интимных подробностях ее семейной жизни, после обряда погребения герои проводят ночь с проститутками. Их затянувшееся похоронное путешествие заканчивается автокатастрофой: машина падает в реку. Что видит в этой магичной истории более позднее религиозное, христианское сознание? – цепь нарушений . Траур профанирован в кутеже, безмолвие смерти опошлено в болтовне о заповедном, за преступление сакрального закона герои наказаны внезапной гибелью, к которой даже не успели духовно подготовиться…
Но тут уже шокирован автор. Ибо «Овсянки» – это история о правильном проживании смерти, вознагражденном ее преодолением. Определения сакрального и святотатственного задаются мифом, устроенным принципиально иначе, чем та этика, которую мы пытаемся призвать на головы персонажей. Местные обряды поминания («дым», предвещание погребального огня) и погребения («дымить теперь не имело смысла. ведь дымом мы пропитались насквозь. впервые мы закурили», – играет с фольклорным словом автор) сопряжены с переживанием границы. Эротическое наполнение поминания в этом смысле обозначает еще-присутствие мертвого среди живых. После ритуала сожжения: «запах керосина самурайской саблей рубанул воздух и разорвал все наши связи с танюшей», – «дымить», обозначая еще-присутствие , невозможно. Ночь отпаивания весельем замыкает обряд, возвращая живых живому, восстанавливая непроницаемость границы. И вот поскольку обряд был исполнен героями правильно, провожающие мертвого за пределы живого получают благословение: тонут в реке.
«Мы не верим в жизнь после смерти. и только утонувшие продолжают жить – в воде и вблизи от берега. только лучше тонуть в реке – чтобы не сидеть как скучный карп в глухом озере <…> вода – сама жизнь. и утонуть – значит в ней задохнуться: одновременно от радости нежности и тоски. утонувшего если найдут – не сжигают – а привязывают груз и опускают обратно в воду. вода заменит его тело на новое, гибкое, способное к превращениям. только утонувшие могут встречаться друг с другом». Этот речной полюс сакрального оправдывает и высокое значение внезапности катастрофы – обрести речное бессмертие своей волей нельзя: «нельзя утопиться. меряне не топятся. это нескромно. это по-русски чересчур. как мчаться в рай обгоняя всех. от русских святых катерин в волге не протолкнуться. чопорные дуры. река сама отберет для себя людей. вода – суд наивысший». Герои могли только просить о такой милости – что и сделали: уезжая с места погребения, загадали о бессмертии сопутствовавшим им овсянкам.
«Тополиная литература не ради мистики – ради вдумчивого волшебства», – подчеркивает Осокин. «Овсянки» рассказывают о чуде, а чудо в мифе, если вспомнить Лосева [109] , есть подтверждение законов реальности, выявление ее существа.
Искус леса
Цивилизация, избалованная убавлением ночи, утратила живое чувство горизонтов существования. Истощение сакрального привело к упадку жизненной силы и оскудению представлений о предельных основаниях человечности. Обращение литераторов к сказочной и мифологической архаике сродни реальным погружениям горожан в дичь природы: цивилизованный человек отправляется в темный лес, взбадривая себя ситуацией пограничья между миром повседневным и миром незнаемым.
Страх леса, когда-то породивший сказочное волшебство, – это осознание жизни как испытания. Жизнь и есть – темный лес при границе между суетой и вечностью, страданием и радостью, утратами и благом. Человек, как заблудившийся в сказке ребенок, горюет – бессознательно ли, осознанно ли – о своей оставленности в чаще мира. Сюда, в эту дремучую чащу, послан он, чтобы пройти жизнь, как обряд посвящения, и в конце пути вернуться в место отправления. Вернуться инициированным – искусом реальности. Добыв дар, отважившись на поединок, испытав свою силу – начав сказку с начала.
Давным-давно у нашего порога жил-был лес.
(Опубликовано в журнале «Новый мир». 2009. № 3. Печатается в дополненном и исправленном варианте)
Серый мутированный гот с глазами писателя
Виктор Ерофеев
«Серый» – это код. Разоблачение тайны, вскрытие комплексующего и вожделеющего «Оно», одушевление тени. В своем романе «Энциклопедия русской души» Виктор Ерофеев предложил разгадку всех бед России: Серый. Не то резонерствующий персонаж, не то судимый демон, не то обычный «русский мужик», типаж из анекдотов. Найти и обезвредить – такую, вполне триллерную, задачу ставит Ерофеев перед своим героем. Вот убьют они Серого, палача и революционера, бродягу и пьяницу, подминающего нашу страну под свое подобие, – и славься, отечество наше свободное.
Охота на ведьм – многообещающий сюжет. Для романа, и для критической статьи.
Пока писатель Виктор Ерофеев охотится за метафизическим героем по кличке «Серый» – колдовским врагом русской жизни, – я прицеливаюсь в самого Ерофеева – колдовского врага русской литературы. Возведем его на черный пьедестал позора и примем всерьез. Представим, что, подобно тому как после гибели Серого начинается на Руси праздник живота (смотри ерофеевскую «Энциклопедию русской души»), так и после свержения Ерофеева с постамента славы (успеха, шума и тиражей) русская словесность объявит именины сердца и на радостях тако-ое откаблучит…
Ибо не возлюбил он много, и за то ему не простится.
А не возлюбил он, граждане присяжные заседатели все, что дорого и мило душе истинно-русской (-духовной, – просвещенной, – добродетельной). И о том, не стесняясь, дает показания в каждом своем произведении, демонстрируя себя человеком как бы противоположной души.
Как бы?..
Виктор Ерофеев живет по не принятым – не приятным у нас (в стране, словесности, менталитете) – законам. Ему предъявимы обвинения в заигрывании с жесткой эротикой и садизмом, в попрании основ и символов русской культуры, в ополчении на духовность, в богохульстве.
А также в банальности мышления, бедности слова, автоплагиате и бесхудожественности.
Ерофеев дерзок – и тривиален. А сегодня это стопроцентная гарантия успеха.
И если вы захотите увидеть, как расходится земная слава, пройдите вслед за мной вот к этой полке в одном из центральных книжных магазинов, целиком заставленной гладко-блестящими, стильно оформленными книгами издательства «Зебра Е». «Энциклопедия русской души», «Страшный суд», «Русская красавица», «Роскошь», «Бог Х», сборники ранних рассказов и «Лабиринты» статей – полное собрсоч! Но вместо заголовка на всю обложку и строгой нумерации томов на переплете красуются серийная буква Е и сам автор, то ноздреватым демоном выглядывающий из-под нимба ангела с русской иконы, то головой закрывающий солнце, то плывущий в розовой водице со следами бурной ночи на многомудром лице.
Нежность к мешку костей
Осудить легче, но понять интереснее. Что такое Виктор Ерофеев в русской жизни? Масштаб вопроса можно не занижать: что бы ни говорили о Ерофееве как писателе (и я скажу – несколько страниц терпения), его мировоззренческую позицию нельзя игнорировать. Ерофеев талантлив как публицист. В этом смысле он – явление скорее злободневное, чем злокачественное. И вполне достоин исследования.
Виктор Ерофеев – контр-эго русской души.
Заметно, что книги этого автора, несмотря на видимое различие повествовательных форм, сюжетов, героев и заявленных в подзаголовках тем, строятся вокруг одних и тех же оппозиций: Россия – Европа, духовность – роскошь, несчастье – счастье, народ – индивидуум. А они, в свою очередь, исходят из базового противопоставления духа и тела. К развязыванию конфликта между «земным» и «небесным» можно свести абсолютно все мыслительные движения Ерофеева. Родись он в другой стране, может быть, и не получилось бы из него автора романов и эссе. Но русская действительность пришла в такое очевидное противоречие с его представлением о жизни, что ему не осталось ничего иного, как озвучить свой протест.
Свою веру Виктор Ерофеев нашел не сразу. Об этом говорят его ранние произведения (помещенные, кстати, и в новой книге «Роскошь») и рассказы, которые снискали ему славу постмодерниста. Именно эти, более поздние произведения Ерофеева, демонстрируют зрелый этап его творчества: не ученическую обыкновенность, как в ранних повестях (например, переизданные в книге «Роскошь» произведения 1970-х гг.: «Трехглавое детище», «Коровы и божьи коровки»), не «юношеский» манифестальный вандализм, как в рассказах (типа «Жизнь с идиотом», «Девушка и смерть», «Ватка», «Дядя Слава», «Мать» и тому подобное), а установившуюся творческую (вз)рослость («Русская красавица», «Энциклопедия русской души», «Пять рек жизни», «Мужчины» и, так уж и быть, «Страшный суд», хотя это действительно роман-страхолюдина). Дальше расти некуда, дальше потолок возможностей и – сгорбленность под пудом уже обыгранных и обжеванных тем (что отчасти заметно в книге «Бог Х» и очевидно в «Роскоши») [110] .
«Зрелый» период творчества Ерофеева целиком посвящен апологии тела.
«У Бога есть воинство душ, это его дети, хорошие и не очень, у него на них свои виды, свои с ними счеты. А тело – мешок костей и производитель новых мешков, случайное убежище, исправительная колония души. Тело он не берет во внимание. Поэтому оно такое дырявое, скоропортящееся. За телом нужно следить самим» (Э).
Ерофеев с готовностью принимает земные правила жизни, согласно которым тело – единственное, что зависит от человека, и потому служит удобным критерием человеческого развития. Бедность, битость, некрасивость, неловкость, неустроенность – как очевидно и легко такие «грехи» подводят человека под приговор в жизненной несостоятельности! И дело здесь не только в высокомерии обласканного фортуной писателя, не признающего ценность менее благополучной судьбы, но и в изначальной неоднозначности правды. Идея о двойственности истины и пути – основа не одной мировоззренческой системы. Столкновение «телесной» и «душевной» (или, выше, «жизненной» и «духовной») правд – проблематика, возникающая почти во всякой ситуации серьезного выбора. Грехопадение ли виновато, или это особые условия свободы, или полярность – свойство создавшего мир Божества – каждому вольно верить как угодно, ясно одно: на предельном выборе из двух «правд» основана вся наша жизнь и всякая неординарная судьба. Противостояние правды «земной» и «небесной», а также попытки разрешить его в гармоническом соединении отражены, в частности, в произведениях таких писателей как Гессе, Толстой, Мережковский, Достоевский, в судьбе манновского Ашенбаха, в конфликте героев «Трамвая “Желание”» Уильямса… Кем же выглядит Ерофеев в этом ряду блестящих перечислений?
Увы, как писатель он не поднимается ни до философского осмысления собственной проблематики, ни до полноценного художественного отражения двойственности бытия.
Но она его задевает – как человека. И в человеческом отношении Ерофеев вполне тянет на одного из последовательных и в чем-то символичных носителей земной (телесной, жизненной – хотя до последнего он все-таки не додумывается) правды бытия. Этакая самодовольная ограниченная половинка, желающая стать абсолютом.
Взглядами Ерофеева можно возмущаться, а можно принять их как неистребимую часть истины, памятуя о том, что горделивая ограниченность духа может быть ничуть не менее противна, чем высокомерие абсолютизированного тела.
«Почему она так мерзка?»
Для таких людей, как Виктор Ерофеев, гармоничное развитие тела является залогом правильного строя души, неухоженность для них – грех, равный закапыванию таланта в землю, ведь краса и удобство мира – тоже вышние дары, достойные человеческого внимания: «Роскошь благотворно сказывается на мне. Хочется быть светлым и здоровым – желание, которое редко забредает в русскую голову» (РО); «В Москве висят рекламные щиты со словами: у кого нет вкуса, у того нет совести. Это новый для многих взгляд на вещи. Вкус связан с совестью по принципу “красота спасет мир”» (БХ).
Эти высказывания смотрелись бы совсем невинно, если бы не были началом пропаганды против любого выхода за пределы туловища. Тело единовластно правит миром: « роль шоколада в культуре Франции не меньше готики и Виктора Гюго» (РО), СССР развалила легковушка «Лада», привившая советским людям новое отношение к вещам и частной жизни и ставшая в этом смысле « диссидентнее диссидентов» (РО), а демонстрация женских гигиенических средств явилась «компасом новой жизни» (БХ). И «реабилитация Дантеса» в одноименном рассказе происходит по логике тела, материальной справедливости: « Дантесы нужны жизни не меньше Пушкина. Иначе исход дуэли был бы другой» . Пушкин – Дантесу: «– Будем снова стреляться? – Я снова тебя убью. <…> Все нормальные люди, – Дантесы. Правда жизни на моей стороне» (РО). В полемическом запале Ерофеев обзывает духовность – « духовкой» (БХ) и попирает ветошью – смерть (об экипировке американской армии времен Второй мировой войны): « Что за ботинки! В таких ботинках и умирать не страшно» («Мужчины»).
Если принять позицию Ерофеева за точку отсчета линии телесного х , то наперерез ей тут же помчится линия духовного y , исходящая из непознанно-нулевой мифологемы России. Общего графика не получается: Ерофеев и Россия живут в разной системе координат – для разгадки русской судьбы нужен другой, «духовный» писатель– х , для Ерофеева нужна другая, «телесная» родина– у . Россия – страна не вполне реализованная, даже не вполне нашедшая себя, но ее предполагаемая культурная индивидуальность отчасти уловлена некоторыми русскими поэтами, писателями и мыслителями (Гончаров, Блок, Бердяев, Достоевский…). Ерофеев, сопоставив эти черновые наброски культурного облика России с непосредственным опытом проживания в российской действительности, вынес приговор: Россия до невозможности антителесна, а русские ценности постоянно выходят за пределы правды земной – той, которая одна ему по сердцу и по плечу.
Забавно иллюстрирует позицию Ерофеева тот факт, что демонстрируя пренебрежение к духовным основам русской жизни, он не отказывается от русскости как параметра породистого тела – русскости на все кровяные 100. « Я чистокровная русская» , – с достоинством произносит героиня «Русской красавицы», « Я – русский на все 100 %» , – вторит ей сам писатель (РО). Но телесно-национальная принадлежность ничего не значит в сфере культурного менталитета, и Ерофеев, как и большинство его главных героев, оказываются духовными чужеземцами, проклинающими дикие диковинки Руси с видом, ясно говорящим: «а черт-ть-его знает, как нас сюда занесло!».
Возможно, Ерофееву не дает покоя слава великого антипророка отечества Чаадаева. Он хочет встряхнуть засидевшуюся в девках Русь и выдать ее за мистера Мировое сообщество. Смешав тезис « Русские – позорная нация» (Э) с антитезисом « Россия нужна для продолжения человеческого проекта» (Э), Ерофеев синтезирует образ России, вполне годный для пропаганды в широких массах заграничных читателей. В их глазах Ерофеев может видеться как имиджмейкер России, которому удалось запатентовать ее бредовый бренд и получить прибыль от рекламной кампании: « Я учился смотреть на Россию как на иностранное государство. <…> Я торговал перегаром, запахом “Примы” и мочи. Мне крупно повезло. Я умудрился продать обвалявшуюся родину, которой никому не надо » (Э).
Как в большинстве рекламной продукции, в брендовом образе России очень мало подлинной оригинальности: Ерофеев, претендуя на дерзкий вызов потребителю, на деле не выходит за рамки его веками сложившихся страхов и упований. В ерофеевской «России» собраны самые внешне-популярные, поверхностно-всплывшие представления и предрассудки о русском национальном облике.
Очевидно, что Ерофеев оценивает свое отечество с точки зрения европейской, которая в то же время выступает и как точка зрения «тела». П. Басинский в статье «Перемелется – мука будет?» (Октябрь. 1999. № 3) сопоставил два суждения о русском народе. Одно – Ерофеева: «Что с ней (с русской людской массой. – П. Б.) делать? Обманывать? Отмывать? Перевоспитывать? Ждать, пока она перемрет? Но последнее иллюзорно – старики тащут [орфография сохранена] за собой внуков, правнуков. <…> После первого петушиного крика молодости от них больше нечего ждать, кроме рабской зависимости от вечного повторения. Все идет по кругу. Остается одно – поместить их в концлагеря. Но они там уже и так». Противоположное по мысли высказывание принадлежит священнику о. Дмитрию Дудко: «Господи, не могу судить мой народ, не суди его и Ты. Прости его за муки, вольные и невольные. Великомученик мой народ – он свят. Он кается в своих грехах, я не раз слышал: “Какие мы люди теперь…” Ты смиренным даешь благодать. Дай благодать моему народу, очисти его, убели. Да будет свят! А я дерзну назвать его святым, великомучеником…».