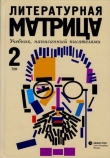Текст книги "Матрица бунта"
Автор книги: Валерия Пустовая
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 34 страниц)
История службы Алексея Холмогорова тишине так и остается прелюдией, нужной только для объяснения его действий в пространстве текста последующего. И даже жаль, что сатирическое, абсурдное развитие повести в итоге перевешивает органику и мудрость этого зачина.
Несоразмерность фабульного и смыслового плана видна и в одной из последних книг Быкова – романе «Эвакуатор». Если в повести Павлова меня привлекло начало, то роман Быкова я вполне оценила только к его концу. События в «Эвакуаторе» в самом деле анекдот, к тому же анекдот политический: в годину ни много ни мало как гибели нашего отечества, а затем и всех стран от мирового терроризма, а также всечеловеческой тупости и бездарности – Быков предается как социологическому, так и нравственному морализаторству. Одной москвичке от большого везения перепадает «инопланетянин», вовлекающий ее в жесткий квест-сюжет: найти пять человек, успеть вернуться и в этом случае всем вместе эвакуироваться на его родную планету. На оценке этого почти компьютерного сюжета, отлично закрученного ушлым журналистом Быковым, и останавливалось большинство рецензентов. Единственно, кто, на мой взгляд, по-настоящему сумел проникнуть в смысл романа, это критик Ольга Рогинская («Критическая масса». 2005. № 2). Она одна догадалась заметить, что главных героев «Эвакуатора» связывают не только любовные отношения, но и конфликт, чуть ли не поколенческий. В Игоре олицетворен новый тип в нашем обществе – человек частного права, в момент общей катастрофы считающий возможным и правильным скрыться от нее в пространстве игры для двоих. Достаточно внутри себя создать иной мир – и беды реальности, которая, по его мнению, сама виновна в разыгравшейся трагедии, потеряют власть над тобой. Катька же, по выражению критика, «человек ветхий», выступающий за старую идею нашей интеллигенции об ответственности за мир, о личной вине каждого в общем крушении, и этим она ближе Быкову, чем в самом деле «инопланетный» для него Игорь. Отдавая должное интерпретации Рогинской, ставшей неким ключом к разгадке романа, все же замечу: герои Быкова вышли у нее уж слишком цельными и последовательными типами.
Трудно не заметить сходство идеальных героев Павлова и Быкова. Юродивость, бремя ущербности в чужих глазах, искреннее «удивление жизнью» (Павлов) роднят Алексея, Катьку и Игоря. Но идеальный герой Павлова – это герой Быкова с поправкой на цельность. Если Катя чувствует себя обреченной своей юродивостью, то Алексей воспринимает себя «награжденным» ею. И, по вере их, ему в самом деле все время своеобразно везет – у нее же, кажется, весь мир валится из рук. Таким станет и Игорь, когда герои «попадут» на его планету, загубленную в его отсутствие неведомым злом. В земных же условиях Игорь исповедует правоту личной свободы и частного дела и тем временно спасен от маргинального самоощущения, в отличие от Катьки, обо всем, начиная с себя, судящей по принципу личной вины и наказания. Катька у Быкова неспокойная, катастрофичная, раздвоенная, влекущаяся к разрушению – существо же павловского Алексея стремится к покою, прихотливо избегает сомнений, которые разрушают, изводят душу.
Мотив ответственности за общий мир высветлен в героине «Эвакуатора» только в финале. Потому что только тогда он перевесит в ней противоположное стремление – почти инстинктивное влечение маргинальной личности к разрушению общего благополучия. «Ты эвакуатор, я детонатор», – говорит она Игорю. И, в самом деле, к концу романа с удивлением понимаешь, что не кто иной, как Катька, срывала все эвакуации Игоря, губила его миры, начиная с его «родной» планеты, что именно ее воображению принадлежат самые трагичные, обидные ситуации романа. Совсем в духе статей автора: Игорь – Быков-утопист, Быков-деятель, недаром ведь несущий чисто писательское бремя эвакуации людей в воображенные миры; Катька – отчаянная, это Быков, сопротивляющийся утопии, предвидящий роковой исход любого начинания.
Роман Быкова – гимн маргинальности. Начавшись как история одинокой в своей подлинности любви двоих, изолированных от общества в карантин особости, он в итоге возвышается до пафоса строчки одного из стихотворений, приложенных к роману: «Собственно, я не жалуюсь, я хвалюсь». История любви героини позволяет ей увидеть в своей непохожести на других духовную миссию избранности, которая дает ей силы выйти из убежища не только игры в эвакуацию, но и замкнутых на них двоих отношений с Игорем – выйти, чтобы «маленьким печальным солдатом» еще попробовать что-то «спасти» в ее не понарошку гибнущем мире.
Повесть Павлова, напротив, сначала поднимает героя до его идеальной вершины, а потом инерционно сбавляет обороты пафоса. Пафос Павлова, продолженный и в его критических выступлениях, – это внутреннее преодоление человеком окружающего и подавляющего его мирского зла. Окончание службы выталкивает главного героя из обители полигона, где он смог победить в самом себе мир, в обширные владения зла. Атмосфера угнетенности, неволи, подавленности, в которой персонажи Павлова тщетно пытаются распрямиться, начинает постепенно теснить чистый дух свободы и добра в Алексее Холмогорове. Его непротивление обстоятельствам и волям других людей в какой-то момент оборачивается сломленностью, карикатурно обличаемой в финале: герой, отпущенный наконец на полную свободу, вырванный из лап зависимости от других персонажей повести, предлагает свою волю первому встречному патрулю, испрашивая у него разрешения на мельчайшие бытовые действия.
Совпадение принципов критического суждения с миром прозы видно и у Кирилла Кобрина. Недавние рассказы, опубликованные в «Октябре» (2006. № 4), развиваются в сфере мыслимостей. Воображенный город, угаданное по воспоминаниям будущее («Его пути»), детектив о взаимоубийстве идей («Финальная реплика»), конспект задуманного романа («Угловое кафе»). Характерно, что, когда в финале последнего рассказа реальность воображенная и физическая пересекаются и автор едва законченного романа о посещении Бен Ладеном Праги становится жертвой теракта в пражском кафе, нам ощутимо жаль не погибших людей, в том числе и рассказчика, а его роман, так и не увидевший свет. Таков мир в глазах Кобрина: живые явления в нем кажутся куда менее достоверными, а следовательно, и менее достойными интереса и сопереживания, чем явления мира слов и идей. Даже в книге нон-фикшн «Где-то в Европе», основу которой составляют воспоминания о конкретных приметах времени детства и юности автора, реальность не обживается непосредственно, а познается через ее антураж – языковой, бытовой, пространственный. Гул жизни словно подслушивается автором через щели словечек и вещиц. Показательно признание, что именно привязанность к быту по-европейски сделала автора убежденным западником.
Герой Кобрина, выпавший из всех связей и контекстов, обнаруживший себя в жизни, о которой промечтал всю юность и которая, однако, на поверку заметно уступает его мечте, напоминает самоощущением Кобрина-критика. Выпав из любых обязательств и долженствований, потому что сама литература перестала вдруг быть делом непременным, Кобрин-критик частно блюдет добровольно взятые на себя обязательства последнего ценителя того, что больше, кажется, никому не нужно. И не потому ли он так увлечен историей литературы, в пику ее актуальному бытию, что самоощущение его, как и его героя, разомкнуто в прошлое? Кобрин-критик – точка, в которую сходятся лучи золотой эпохи замечательных книг, достойной филологии, добросовестных издателей и комментаторов, гениальных классиков. И пусть в эту эпоху ему и его сверстникам не так уж хорошо жилось, зато как мечталось, как верилось – ведь и «Европа» в книге прозы «Где-то в Европе» не реальное географическое пространство, обжитое ими гораздо позже, а идеальное пространство мечты! Европу в ее высшем выражении знала только эта советская, не выезжавшая из Союза интеллигенция, которая и потеряла свою мечту, едва обрела возможность в ней поселиться. Недаром герой Кобрина признается в тавтологичности своего бытия, обреченного теперь закатившимся шаром вертеться в комфортабельной лузе. Остается одно – растворяться в книгах, в мыслимом мире сберегая свой идеал.
Братание Городов
Не секрет, что усы Ивана Иваныча отлично пошли бы лимузину Петра Петровича. Гадая на лучшего критика среди писателей, я чувствую, что голосую за подход к литературе и аналитическую честность Кобрина, но подтасовываю и Быкову, в ком интересны мировоззрение и живость мысли, а что уж говорить о вере и пафосе всепреодолевающего духовного стремления у Павлова?.. Кажется, если соединить разобранных нами писателей в одно, получится идеальный критик. И в то же время каждый из них по отдельности – это воплощение идеальных черт критика: искреннего переживания за судьбу литературы, неравнодушия и бескорыстия в оценках, которые расставляются не в угоду, а наперекор предрассудкам общего мнения, веры в подлинность творческого импульса, которую не заменить ни расчетом, ни подражанием, наконец, решимости строить собственный мир ценностей. Строить священный Град литературы, который ежедневно атакуют воды сиюминутной жизни, но который благодаря тем, кто в него верит, а значит, и благодаря героям этой статьи, в нашем сознании – непотопляем.
(Опубликовано в журнале «Октябрь». 2006. № 10)
Крупицы тверди
Александр Иличевский
Как говорил Лев Толстой, чтобы рассказать, о чем роман Александра Иличевского, придется переписать его слово в слово. Цитата – лучшее средство представить этого писателя. Вот и С. Беляков, отметив в одной рецензии [19] , что мало кто поставит под сомнение «мастерство» его героя, набирает побольше воздуху – и следует кусок зачаровывающего текста. Прием цитирования – не только самый убедительный, но и простой: Иличевского можно цитировать наугад, тыча пальцем в любые страницы, на каждой из которых нас ждут образцы неординарной словесной живописи.
Чтобы не быть голословной, тоже приведу любимый отрывок – из рассказа «Горло Ушулука». Тем более что выраженное в нем «ощущение затерянности» человека в ландшафте как «смерти наяву» нам пригодится:
«Пространственная ориентация от усталости дала сбой, все направления сломались или скомкались, голова медленно плыла над сочной степью, постепенно кругами подымаясь в вышину, но не обнаруживала вокруг ничего – кроме необитаемых белых пятен, залитых солнцем, как будто мира – внешнего этому острову – вовсе и не существовало <…> Белоголовый орел-курганник следовал надо мной беспрестанным надзором. Птица плавала восходящими кругами над луговиной, и голова темно кружилась от запрокинутого взгляда. Дикие кони, играя, валялись в духовитых травах. Почуяв человека, они взметывались, с грохотом кастаньет стакивались копытами – и я обмирал перед их демонической мощью: вспыхнув, кони неслись гнедым ветром, блистающим потоком мышц, стрелами шей. Избегая быть затоптанным, я прятался в тальник у ильменя, на лету распугивая зайцев, фазанов, пушечных коростелей, мгновенных гадюк <…> Редкая смесь восхищения и жути переполняла меня. Я не хотел и вспоминать о своем прошлом мире, он словно бы не существовал. Смерть наяву очаровывала меня, и если б друзья тогда меня сыскали, я бы сбежал, чтобы хоть еще немного продлить это ощущение затерянности, попытку проникнуть в забвение…»
Лишенные возможности сомневаться в изобразительном даре писателя, критики нападают с иного фланга. Диалектические вилы, на которые оказывается возможным поддеть Иличевского, в последнее время стали популярным оружием. Как бы ни сетовал М. Эдельштейн на «невероятный анахронизм дискуссии» «в координатах “чистое искусство” vs. “социально ориентированная литература”» [20] , разлад формы и содержания в произведениях современных, по большей части двадцати– и тридцатилетних, писателей остается главным предметом тревоги и заботы литературной общественности.
«Сказать ему нечего», – отрезает Е. Ермолин в отзыве на один из рассказов Иличевского, дежурно произнеся перед тем все положенные комплименты «таланту рассказчика», «образному видению», «свежести взгляда» и «сочности языка» [21] . А М. Кучерская, прочитав последний по времени роман Иличевского «Перс», упавшим голосом рекомендует «стремительно наступающими на тебя громадами описаний» – «просто любоваться» [22] . Однако рассматривая произведения писателя как единый текст, нельзя не заметить, что в самом характере его образов есть определенная последовательность и что проза эта не только изображает , но и выражает .
Необъяснимость, неясность писателя («волнистый рог непонятностей», – иносказательно выразилась об одном из романов Иличевского А. Ганиева [23] ) – всегда провал. Но вот чей: его самого, читателя или критики? Попробуем отжать эту набухшую прозу, отделив закономерное от случайного, крупицы тверди от каплей тумана.
Первая же ассоциация, которая приходит на ум в связи с Александром Иличевским, кажется еще одним взглядом в никуда. Путешествие – сверхсюжет этой прозы, герой Иличевского охотно перемещается по карте – Москвы, России, мира. Но что такое эти перемещения: психологический мотив? повод к рассказу? философия?
Странно, что никому пока в голову не пришло задуматься, почему герой Иличевского так маниакально увлечен ландшафтом, и вообще – увидеть в этом влечении болезненность. Путешествие автоматически воспринимается как знак жизнестойкости, любви к жизни. И. Роднянская человеколюбиво мечтает, что герою Иличевского, в отличие от персонажей его более депрессивных коллег по поколению, «есть вроде бы куда двинуться»: «И он, и автор – захвачены чудом жизни». Но «размыкается» ли его герой-путешественник «навстречу миру» [24] или еще чему – надо выяснить.
«Содержание нескольких рассказов, причем – лучших рассказов Иличевского, можно определить как вглядывание в ландшафт», – справедливо замечает Беляков, а мы добавим: и романов тоже. «Вглядывание в ландшафт» – точная формула этой прозы. Взаимоотношения зрения и ландшафта здесь развиваются как сквозной мотив, организующий и внешние события, и внутренний строй героя.
Иличевский буквально заклинает, гипнотизирует и себя, и читателя словами из двух взаимодействующих смысловых рядов. Нарочитость слов: «ландшафт», «пространство», «глаз», «сетчатка», «зрение», их ощутимая, но не вполне понятная смысловая нагруженность вынуждают воспринимать ландшафт и зрение как двух действующих субъектов, двух сверхперсонажей этой прозы. «Приоритет визуального» [25] в таком случае не следствие стилистической избыточности, а принцип самого авторского мышления. Герой Иличевского влюбляется, теряет работу, похищает сына, берет пробы нефти или участвует в камланиях – но никакие социальные и личные связи не отвлекут его от главных отношений в его жизни: визуальных. Глаз – своеобразная метафора личности, глаз представительствует за всего человека. Ландшафт – лишенное человечности, безличностное. Именно в таком виде, разросшись до метафоры философских категорий «я» и «не-я», глаз и ландшафт образуют в прозе Иличевского исчерпывающую модель мироздания.
«Пространства <…> настолько насыщенны, что в конце концов просто поглощают героев» [26] – Л. Данилкин обнаруживает чудесное свойство пейзажа в романе «Матисс». Но на самом деле оно ключевое для пространства в любом произведении Иличевского. Взаимоотношения глаза и ландшафта, человеческого и нечеловеческого , «я» и «не-я» принимают одно и то же направление: глаз-личность растворяется в пейзаже. Душу «утягивает» «в огромный простор страны» («Перстень, мойка, прорва»), ей кажется «упоительным отдаться всей этой великой массе природы» («Горло Ушулука»), «поместиться» в пейзаж целиком («Известняк»). Эту тягу героя к саморастворению подчеркивает настойчивый мотив слепоты. «Затопленный солнцем глаз» героя в «Персе», слепящий свет шаровой молнии, притянувшей героя «Матисса», метафоры ослепления и второстепенные персонажи-слепцы – все это знаки свершившегося перехода, развоплощения глаза, конца зрения.
Парадокс прозы Иличевского: герой, воспевающий зрение, на деле ищет незримого. Таков изначальный смысл его путешествий: не увидеть больше, а увидеть – Иное.
Да, психологически «путешествие» в прозе Иличевского часто переживается как бегство от страха и несвободы обыденной жизни. Но стоит оказаться за пределами дома, «бегство от…» стремительно превращается в «странствие к…». Перемещения тут же приобретают совсем не географическую логику: цель героя можно было бы обозначить как жажду Откровения. Но что именно должно ему открыться и почему он, покинув науку и семью, ищет истины в путевых впечатлениях – вряд ли можно понять, не разделяя философию зрения Иличевского. Откровение переживается героем на иррациональном уровне и выражено поэтическими символами: ритуальная смерть с бараньей головой в руках («Курбан-байрам»), превращение («Дизель»), погребение красавицы («Перстень, мойка, прорва», «Кефаль»). Наиболее маргинальный в этом отношении текст – повесть (поэма?) «Ай-Петри»: мотивы смертельного риска, очарованности красотой и мистической любви переплавляют долгое путешествие героя в метафору духовной жажды. Исключительная же удача романа «Матисс» в том, что маргинальному, символистскому сюжету такого путешествия к Откровению Иличевский придал социальную значимость. Откровение «Матисса» внятно читателю. Роман выражает тоску общества по обновлению и свободе, так неоднозначно реализовавшуюся в 90-е, жертвой которых ощущает себя герой: «спазм пространства» в «Матиссе» – не галлюцинация физика Королева, а реально переживаемая им ловушка, теснота социальных отношений.
В романе о физике, сознательно ушедшем странствовать, путешествие приобрело вес поступка, нравственного выбора. Герой бежал из социального измерения жизни в ментальное : его бродяжничество не обусловлено ничем, кроме поиска свободы. Это радикально отличает Королева, героя философского опыта, от его спутника Вади, героя физиологического очерка о бомжах, – и предопределяет их конфликт и расставание в финале.
Абсолютная свобода, обретенная героем «Матисса», – оптимистическая вариация на тему перехода в незримое, как правило осуществляемого в этой прозе через смерть или риск на грани смерти. Называя Персию, страну грез Иличевского (ее постоянно воображает герой, но не изображает автор), – «страной смерти» и удостоверяя связь нефти, «слова персидского», «со смертью», Беляков сужает место этой темы в прозе Иличевского. На самом деле со смертью здесь связано все – проницателен А. Немзер, раздраженно обличивший Иличевского в «поэтизации небытия» [27] .
Развоплощение, влечение к смерти – это и зачарованность героя неживым: девами-статуями (ощущающая родство венецианским изваяниям молдаванка Надя из «Облака » ; гипсовая возлюбленная героя « Матисса » , принесенная в дом, наряжаемая, как невеста), неорганикой – нефтью и известняком, помнящими пейзаж Земли до первого человека, ландшафт до зрения («когда некому было наблюдать и мыслить», – сказано в «Персе»). «Уподобление» человека «Неживому» («Известняк») вызывает при чтении внутренний протест, как насилие над природой героев. И эта насильственность дает знать о себе в художественном плане.
Самое загадочное и самое раздражающее в прозе Иличевского – женские образы. Их смысловой ореол создает идея неживой красоты – застывшей, недвижной, удобной для любования, как ландшафт. По сути, женская красота в этой прозе и есть вариация на тему ландшафта, в созерцании которого растворяется (сходит с ума, гибнет) герой.
Не случайно героиня и безмолвна, как ландшафт. Лунные, каменные девы Иличевского – мертвые, безответные царевны: покоятся в гробу, заключены в тюрьму, взяты в плен, в тиски болезни. Описание возлюбленной намечает контуры скульптуры: лоно, сосок, бедро – эта архетипическая триада женственности исключает психологизм, но именно такая, лишенная индивидуальности и воли (а часто и – жизни), архетипичная возлюбленная соответствует представлению Иличевского о красоте. Такую красоту лучше определить не как “животную” (Беляков), а как мертвую. «Животная» красота не вяжется с идеей «смерти желания», на которой настаивает герой Иличевского. «Красота порождает смерть желания», – утверждает герой раннего романа «Дом в Мещере», а его собеседник уточняет, что речь идет не о «воздержании, а устранении желания, переводе его в непредставимость, в Бога». Умершая для желания , отвлеченная от жизни красота в прозе Иличевского служит проводником в незримое: «Да – так я и думаю о Боге: сначала думаю о женщине и, ослепленный совестью и яростью желания, возношусь взором к Богу. Женщина, сокрытая слепящей наготой, стыдом, – незрима, она и есть мысль о Боге”; “человеку, который не любим этой высшей женщиной, остается только полюбить раскаленную пустоту…» («Перс»). Поэтому, какие социальные и этические трактовки ни выдумывай для истории убийства высокомерной содержанки мойщиками-гастарбайтерами («Перстень, мойка, прорва»), в контексте прозы Иличевского это убийство – услуга ее красоте, сбереженной от вмятин жизни, запечатленной смертью в момент расцвета.
И опять: можно ли принять это откровение умершей для желания красоты, не разделив убеждение автора в духовных возможностях зрения? Мертвенная, лунная, каменная красота героинь Иличевского самодостаточна, а потому – разлучена с душевностью, не привязана к личности. Неживое ее обаяние усиливают искусственные декорации. Иличевский горазд предаваться эстетскому любованию красотой на фоне безобразия: спелый гранат и разделанный баран («Курбан-байрам»), девочка-подросток и ее любовник-старик («Штурм»), цветущая красавица в услужении у старухи («Облако»), красота, подточенная болезнью (паралич молодой жены в «Улыбнись», уродство таинственной Изольды в «Ай-Петри»). Такая грубая контрастность подчеркивает холодную, измышленную природу красоты и в итоге противоречит тому духовному, почти религиозному наполнению, какое пытается придать ей автор.
Исключительный случай – героиня «Матисса». Сопряжение идейных исканий с социальными реалиями укрепило здесь не только сюжет путешествия. Именно благодаря тому, что слабоумная Надя – бомжиха с правдоподобной биографией и хорошо прорисованной динамикой душевных состояний, она стала не повторенным в прозе Иличевского образом живой женственности – той, которую не надо конструировать в удаленном любовании, полуночных грезах и размышлениях про «смерть желания», той, что вызывает любовь. В читателе – точно.
«Тема Нади» – так Беляков обозначил еще один путь саморастворения в прозе Иличевского: «Надя – из любимых Иличевским имен <…> Нетрудно заметить, что эти женщины являются как бы антиподами и автора, и его неизменного героя – исследователя и мыслителя. Нади Иличевского ведут естественное, природное, доинтеллектуальное существование». Ничего себе “природное”, заметим мы, вспомнив мигрень и раздвоение личности, отравившие жизнь (но питающие мистическую красоту образа) молдаванки Нади из «Облака». Да и бродяжка Надя из «Матисса» не живет, а мучается над задачником, пытаясь удержаться в уме, а странствие закончит в психиатрической лечебнице. Но удивляет даже не эта натяжка – а то, что критик не замечает, насколько крепко «тема Нади», тема убывания разума , связана с образом самого героя – как там? – «исследователя и мыслителя».
В герое Иличевского – начиная с ранних рассказов и до последнего романа – нет и следа того «здравого сциентизма», который выдумал для его трактовки Сергей Беляков. Героя влечет к состояниям, явлениям и ситуациям, которые способны вытолкнуть его сознание в поле действия откровения: безумие, растворение личности в созерцании, упоение застывшей красотой, смертельная опасность. Это влечение иррационально, как и его смутная цель – не рассуждением добытая истина, а озарение, вдохновенная догадка. Поэтому нельзя не согласиться с Беляковым, что проза Иличевского устремлена к «познанию». Но вот то, что средством познания у него выступает «образ мысли ученого», – никак не следует из его прозы, иррациональной и по строению, и по сюжету.
Страсть к отвлеченному суждению да иногда затуманенная наукообразными словами фраза («Долго Королев основывал содержательность своего существования на приверженности научно-естественной осознанности мироздания…») – вот, пожалуй, все последствия физико-математического прошлого писателя. Герой Иличевского много, упорно и трудно мыслит – но метафоры выплавляет мастеровитей, чем тезисы.
Рациональным выкладкам героя не хватает связи с задачами жизни: слишком многими слоями выдумки отделены они от существа человека. Есть какой-то перебор безумия в том, чтобы «дать Имя ландшафту» через календарные числа, вычислить «кривую пера» для полетов воздушного змея («Перс»), «придумать язык, которым можно было бы разговаривать с Неживым» («Матисс»). Можно заметить и то, как часто обманывает тон героя, обещающий удивительные открытия. «Как поймать Принца? (Бен Ладена. – В. П.) » – завлекательный заход. «Очень просто», поясняют нам, как льва в клетку – «закрыть ее, и после совершить преобразование инверсии относительно границ клетки. В результате лев окажется внутри, а ты сам снаружи. Так же следует поступить и с Принцем. Следует выплеснуть себя во вне – во всю Вселенную, а Принца всунуть в свою оболочку». А вот герой готов поделиться выводами из самобытного опыта своей жизни: «Я крепко уже поездил по стране и могу сказать…» – что же? – «что жизнь в России сравнима с предстоянием на краю пропасти, когда, вытянув шею, вглядываешься в падение, от плечевого пояса – воронкой в разворот – подсасывающую в солнечном сплетении, и в то же время пятишься к простому грунту, с высоты в шесть футов три дюйма…» («Перс»). Объем метафоры впечатляет, но где тут мысль? Где обещанное тоном рассказчика откровение? Разве «предстояние на краю пропасти» – не самое банальное, что может сказать и русофобская, и русофильская мысль о судьбе России?
Досадна и сводящая скулы неточность иных формулировок, претендующих, однако, на литую афористичность. «Любая машина – прах перед раскаяньем» («Курбан-байрам»), «он был уверен, что роскошная бездна детства менее бесстрашна, чем смысловая разведка будущего, каким бы царством оно ни обернулось» («Матисс»)… Вопрос «о чем это?» становится тут для читателя и вовсе насущным.
Иличевский приближается лишь к изображению мысли, подобно герою «Матисса», рисующему на карточках свои озарения: «Родина горит как сердце», «Все перевернулось: нет теперь ни добра, ни телесной дисциплины, ничего – все прорва безнадеги», «Новости таковы, что вокруг – стена дезинформации», «Ложь правит историей. Дыхание мира горячечно» и т. п. Могу предположить, что автору жаль расстаться с этими черновиками художественной интуиции – и он всерьез повторяет в романе любую шалость ума: «“Пупок – провод для мира, неотмершая пуповина”, – приходит вдруг зачем-то ему в голову» («Перс»).
Слабость отвлеченной мысли в прозе Иличевского особенно проявилась в последнем его романе, центр которого – религиозная утопия, реформа веры. Герой «Перса» – привычно полубезумный, мечущийся, бегущий от дома и себя, упоенный зрением – приводит с полдесятка разномастных причин, почему ему следует вернуться в места своего азербайджанского детства. Пространство романа охватно как никогда: Америка, Голландия, Москва, Апшерон. Смыслообразы предельно разнородны: игра и театр, карта и огонь, море и земные недра, похищаемый сын и разыскиваемый первопредок, вожди мировой революции и поэт Хлебников. Центральный сюжет романа, однако, и в географическом, и в композиционном отношении займет мало места. Вернувшись к истокам своей биографии, герой встретит друга детства Хашема, такого же полубезумца, притом артистически одаренного. Оказалось, пока наш герой выяснял отношения с нефтью и бывшей женой, Хашем объединил егерей Ширванского заповедника в религиозно-поэтическое сообщество, в рамках которого воплощает свои языковые, литературные, театральные и богословские идеи…
Сюжет религиозной реформы в прозе Иличевского появился не вдруг. В рассказе «Штурм», а затем и в «Матиссе» мы встречаем мимоходные, но прочувствованные предположения о необходимости связать иудаизм и христианство в личном религиозном опыте. Мысль эта высказана, как всегда у Иличевского, «в порядке бреда», как прозрение, оправданное своей интуитивностью и потому не нуждающееся в доказательствах. Ничего, что «подлинный путь христианина» – предмет вековых размышлений людей, посвятивших жизнь духовному деланию: раз Иличевскому пришло в голову, что «прежде, чем креститься, следует стать иудеем», он не задумываясь делится этим соображением («Матисс»). Но что такое «подлинный путь христианина» для сумасшедшего физика Королева, нашедшего свой особенный путь к откровению – ногами за солнцем? Христианская вера, христианская этика не занимали – до самого момента высказывания – ни пяди в его напряженной душевной жизни.
Меня вообще удивляет, чем (если все-таки принимать эти вывороты мысли всерьез, а не как расчетливую спекуляцию с энергетически насыщенным образом) притягивает писателя фигура Христа? Ведь, судя по текстам, бог Иличевского – это бог степных пространств, безмолвно высящегося над человеком неба; бог, пронизывающий и человека, и траву, растворенный в ландшафте. По правде говоря, его точнее называть Природой, нежели Абсолютом. Переживание Христа закрыто для такого мироощущения – недаром герой Иличевского ощущает, что «Бог не имеет к людям никакого отношения» («Матисс»): ведь именно через Христа личности открывается путь к Богу.
В «Персе» писатель возобновляет упражнения на евангельскую тему. Но очевидно, что Хлебников ему понятнее Христа. Духовный реформатор и богоборец Хашем, властитель религиозной утопии Ширвана, волей автора копирует сразу два образца – романтический миф о поэте-пророке и евангельский путь страдания и воскресения Богочеловека. Просветительская энергия Хашема при этом обращена к мусульманству – и подминает, искажает христианскую идею для удобства аналогии. Христос, приравненный к поэту, – это мусульманский Христос как пророк, а не Богочеловек.
Цель Хашема – дать новую жизнь историческому образу Христа, пережить Евангелие как историю, а не законченное предание. «Хашем основывается на идее о непрекращающемся откровении, о том, что Бог говорит с народом при помощи истории. Хашем хочет столкнуть остановившееся над эпохой время <…> Пусть Евангелие – миф, но он отобран и напитан верой. Неверно думать, что все есть в Писании, ничего подобного: откровение находится в становлении». Идея может вызвать интерес – пока не попробуешь осознать ее в рамках жизненного целого. А осознать придется: Хашем выступает против мертвой догматики, но ведь прилагать Писание к каждодневной жизни, обыденность проживать перед лицом Бога – и значит разомкнуть Предание во время. И вот у меня возникает вопрос: если – «пусть»? – Евангелие только «миф», если уже записанное Откровение так мало имеет власти над жизнью и душевными движениями героев, зачем вообще его продлевать?