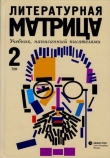Текст книги "Матрица бунта"
Автор книги: Валерия Пустовая
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 34 страниц)
Жизнетворческое перемоделирование сознания состоялось, но в бедной философии социального успеха юнейших действователей уже нельзя узнать радикальное по масштабу дерзание их недавних предшественников. Прилепин с тревогой отмечает отсутствие даже закономерного, возрастом и неустроенностью обусловленного, бунтарства в нынешней молодежи (эссе « Молодежь к выходу на пенсию готова. Самая реакционная часть общества »). Но и сам он, вследствие выбранной литературной стратегии, все убедительней демонстрирует в прозе хладнокровное владение навыками эстетического маркетинга.
Литература. Почвенник Прилепин пишет неорганическую, измышленную прозу. Он вдохновляется насилием над реальностью – во имя идеи. Энергетическое зияние между идеалом героя и его человеческим существом, ретроутопией России и ее актуальностью, мифологией жизни и ее естественным ходом создает в его произведениях эффект эстетической и идейной неправды. Образы и высказывания здесь рождаются под давлением авторской воли, сламывающей, искажающей их природу, а главный герой делает и чувствует не то, что ему присуще, а то, что ему вменено.
Идейный напор выплавляется в эстетику крика. Образы Прилепина функциональны и предназначены для художественного доказательства идей. Умышленность обрекает автора на повтор удачных, «работающих» находок и их, как следствие, постепенное смысловое истощение. Первоначальный живой дар экспрессионизма, резкости, символической насыщенности вырождается в механическую эффектность плаката.
Двойственность мировоззрения, толкающая искать вечной радости в преходящем бытии, придает экспрессионизму Прилепина двуличную, гламурную красоту. Ужас бытия трансформирован в источник наслаждения, и начинается эстетическая торговля кровью: параллель избиения и орального секса в романе «Санькя», смакующее «разглядывание» крысы, которой только что переломили хребет, в рассказе «Грех», несдержанная эксплуатация «мясных» метафор, вплоть до вовсе не нужного в нейтральном эпизоде сравнения вышедшего из электрички персонажа с аппендиксом, который «отрезали» дверями (« Санькя »).
Эффектная контрастность метафор достигается в прозе Прилепина рассудочным усилием по сближению наиболее далеких представлений; прием этот повсеместен и наиболее любим. Так появляются глаза-пельмени, в одном случае «переваренные», в другом «примороженные», лицо-перелом, грязные дрожащие пальцы в белом густом меду (« Санькя »), «ириски в табаке» (« Кровь поет, ликует почва »), розовые батоны в грязи (« Карлсон »), рифма белизны холодильника и трусиков в руке изучающего его героя, розовый йогурт на асфальте (« Какой случится день недели »), свиные внутренности как «букет цветов» (« Грех »), двойная вычурность в образе водки и подогретой, и налитой в ботинки (« Ботинки, полные горячей водки »), номер телефона, оставленный девушке на фото мертвой старухи (« Колеса »). Подобного же впечатления можно достичь, максимально усиливая растяжение между фактурой образа и чувством, которое он вызывает: делает «красивые круги» боеопасная цепь в руках героя, и так же «красиво» машет ножкой брошенный в атаке стул, «очаровательно» оружие в захваченных ящиках (« Санькя ») и «восхитительно тяжел» упившийся товарищ (« Блядский рассказ »).
Гламур направлен на то, чтобы создать у читателя впечатление приподнятости над землей, не отрывая его при этом от созерцания сугубо земных приманок. «Розовый» – один из частотных эпитетов Прилепина, и все его образы, настроенные не на крик, а на утешение, предельно розовы. Продажная контрастность и гламурная розовость сходятся в бронебойной сладкости женского образа. Намеренно или из-за отсутствия вкуса женщина рисована Прилепиным таким образом, чтобы впечатлять максимально дешевыми средствами: сочетанием чистоты и блудливости, закрытости и доступности, телесной силы и душевной немощи. Прагматичное сластолюбие плакатной, публичной эротики задает привкус инцеста в здоровом половом переживании ( «Грех» ), долготу описания сексуального акта, единственное оправдание которого в целом романа разве что небанальность способа (« Санькя »), «чистоту» и «искренность» в образе проститутки (« Блядский рассказ »), непременную и повсеместную белизну открывшихся трусиков героини. Параллель «девочки» и «сучечки», обозначенная еще в романе «Патологии», где герой болезненно и одновременно вспоминает измену любимой девушки и любимой собаки, развивается в животный, бездушный образ «любимой», который всегда сладко усечен в зрелости по сравнению с мужественным героем: уменьшителен, инфантилен, художественно несамостоятелен, – как жена-«дочка» в одноименном рассказе о любви.
Расчетливый повторяющийся крик – частотные словечки: упрощенное образное впечатление, кодовый набор чувств. Повторяясь к месту и не к месту, яркое словечко утрачивает точность, становится означающим без означаемого: пшикает, но не задевает. Такова судьба слов «забубенный» (изношено до «забубенных тапок» – « Бабушка, осы, арбуз »); «легко» и «весело», маркирующих подряд все симпатичное рассказчику; «нежно» и «нежность», которые подсовываются, как джокер, на место слов самого разного значения (можно даже поиграть в игру восстановления исходных смыслов, угадывая за «нежным» и «нежностью» то признательность, то наслаждение вкусом, то расслабленность, то просто – сентиментальное кокетство автора); концептуальных слов типа «жилка», «мужики», «пацаны», «русское», употребление которых со смыслом и без смысла уже понятно из нашей статьи.
В чем бы ни предполагать источник эстетики крика, одно представляется ясным: крик выражает принципиальную неспособность писателя думать. А в сочетании с умышленностью образов это снимает с бездумья единственное оправдание искренности: эстетика крика преломляется в красивость художественного вранья. Стоит заметить, однако, что такая эстетическая манера вполне соответствует медийному характеру прилепинского бунта: в кругозор телекамер не попадают жесты более сложные, чем брошенное яйцо, и образы менее ясные, чем расколоченный манекен.
В эпоху, когда признаком «большого писателя» может считаться умение «писать заразительно» [56] , деятель культуры попадает в зависимость от склонности масс «заражаться» его трудом и, раз угадав щекотное место публики, работает на самоимитации. В медийной фигуре мельчает «большой писатель» как властитель дум, мельчает сама дума, власть сдувается до заискивания.
Роль в культуре. Несовпадение с собой разламывает Прилепина, искажая все его писательское бытие: от образной системы до способа присутствия в литературном процессе. Неудивительно поэтому, что он ощущает писательство как вынужденную позицию, отчужденную от его существа.
Разлом в том и состоит, что, как литератор (а Прилепин все же «работает» в медийном общероссийском пространстве не нацболом, не шоуменом, а именно литератором), Прилепин чувствует себя призванным говорить о том, что молчит. Его ценности не требуют говорения, и наоборот, говорение не приумножает его ценностей – только бросает тень самоотстранения на отцовство и троих детей, которыми он кроет оппонентов в передачах и статьях, на семейную любовь, используемую как часть жизнетворческого имиджа, на нацбольскую лысину, позирующую для обложек.
«Я уверен в этом ликовании, как в своем имени» (« Кровь поет, ликует почва »), – клянется Прилепин продуктом литературной игры, ставку в которой обдумывает А. Латынина: «Захар Прилепин – звучит шершаво, словно трут наждаком по стеклу, тяжело, угрюмо, но почвенно, кондово. И в этом выборе имени сконцентрирована писательская стратегия автора, сочиняющего свой образ-маску. Романом «Патологии» Прилепин заявляет о себе не как писатель-интеллектуал, щедрый на вымысел, экспериментирующий со словом, играющий с ним (постмодернистские стратегии отвергнутой эпохи), но как очевидец, рассказывающий о «правде жизни», скрытой от «чистой» читающей публики. И тут принципиальное значение имеет позиционирование себя как человека «из глубинки», «из народа» [57] . Клясться выдуманным именем – значит заиграться в неразделимость правды и фикции, внутреннего и обращенного вовне, творческого и функционального.
Прилепин, избывая разламывающую его существо задачу играть в политика и семьянина для нужд литературы и в литератора для нужд политики и семьи, высказывает косвенное пожелание отказаться от слова во имя дела: «Я просто и вправду не считаю писательство мессианством. Когда я напишу то количество книг, которое сможет прокормить мою семью, я поставлю точку» [58] ; «Мы ждем и справедливости тоже, но не только строгости. И не только в делах литературных. Потому что, когда не все в порядке на Родине, литература – дело десятое» [59] .
3. Зыбь – дума – слово
(Роман Сенчин)
Контекст. Противоречие между: «Жить надо», – и: «А смысл-то? Смысл какой?!» – волнует и героев Романа Сенчина (роман «Лед под ногами »). Но драма бессмысленности осознается ими в ином ключе: дело не в том, что «времена надломлены», как пишет Прилепин (эссе « Петр на просторах и Стенька в застенке »), а в том, что ход времени именно что надломить, повернуть вспять, изменить не дано. «Не в распаде общества дело, ведь экзистенциальное одиночество и экзистенциальный ужас – вовсе не плоды современной цивилизации», – расширяет С. Беляков социальную по виду проблематику прозы Сенчина [60] . Сетование на бессмыслицу государственного масштаба тут выглядит даже мелочным – в сравнении с «досадой <…> на нечто слишком огромное, непобедимое; может, на саму жизнь» (повесть « Ничего страшного »).
Беспочвенность в прозе Сенчина – это катастрофическая непрочность человека в принципиально устойчивых обстоятельствах. Пока Прилепин, взвинчивая героический пафос, вскрывает драму исключительных состояний – войны, поединка, роковой случайности, – Сенчин нарочито сбавляет тон, повествуя о роке правил без исключений, о драме жизни «без катастроф» (« Ничего страшного »).
Экзистенциальный ужас будней – в их безличности, принудительности и беспредельности. Повседневность – единственный несломимый ориентир человеческого существования, но это не почва – «тина» (« Ничего страшного »). Драма ветшания и исчезновения человека в мерном ходе естественной жизни не нуждается в дополнительных, государственных или социальных, перипетиях. «А сейчас, Санькя, и не пойму, к чему жил – ничего нет, никого не нажил, как нежил», – реплика умирающего деда, в прилепинском романе призванная заострять тему государственного коллапса, в прозе Сенчина обобщала бы катастрофу человека в любую эпоху: «много возможных путей у жизни, а судьба одна» (« Ничего страшного »).
Старинный вопрос, что разделяет русских радикалов и русских художников [61] , при сопоставлении прозы Прилепина и Сенчина получает не новое по смыслу, но свежее по времени разрешение. То, чему радикальная интеллигенция ищет обоснования в актуальных социальных обстоятельствах, художник признает базовым, неизменным условием жизни, с которым придется считаться при любом политическом строе. Темы разоренной деревни, утраченных устоев, неприкаянной молодежи, пустоты городской цивилизации присутствуют в произведениях Сенчина. Но ситуация общегосударственного слома становится для него поводом постичь существо хода жизни, в историческом бытии пережить тлен вещей.
Вера. Способы укоренения в мире Роман Сенчин исследует в своей прозе с дотошностью тяжело больного, пробующего подряд все предложенные методики излечения. Обыватель тянется «налаживать реальную, нормальную жизнь» (« Лед под ногами »); маргинал взыскует «тотального куража» (рассказ « Афинские ночи »); романтик пускается в мечты о бегстве в далекие страны (повесть « Минус »); отчаявшийся параноик идет убивать, кончает с собой, накликает конец света (рассказы «Фильм », « Глупый мальчик », « Наш последний эшелон »); писатель имитирует одновременно романтическое бегство и смерть в уединении письменного стола как «теплой надежной норки» (повесть « Вперед и вверх на севших батарейках »). Что объединяет этих людей, по видимости столь различным, даже противоположным образом проживающих отпущенные им дни? Иллюзия обретенной опоры, успокоенность найденного смысла, уверенность в своем исключительном праве на спасение от общей судьбы вещей.
Декларациям каждой из спасительных моделей существования аккомпанирует в прозе Сенчина тоненький и тревожный присвист, – как будто надувной, накачанный рассуждениями, тугой от надежд плот смысла дал воздушную течь.
И действительно, лопнет.
Выбить почву из-под ног – сильно сказано. Закрылся облюбованный пункт приема бутылок, а в комнату подселяют соседа (« Вперед и вверх на севших батарейках »), после хорошо спланированного, успешного рабочего дня застаешь дома бардак и отбившуюся от рук семью (рассказ « Регион деятельности »), хозяйка квартиры ставит перед необходимостью переезда (« Лед под ногами »), праздник перетекает в унылую ссору (рассказ « Афинские ночи », повесть « Конец сезона »), в литературной Москве оказывается так же скучно, как в рабоче-крестьянской провинции (рассказы « Вдохновение », « Чужой »)… Заминка в ровном течении будней как будто поправима, однако за нею героям открывается препятствие такого масштаба, что решительно нарушает комфорт их мерного, налаженного, год за годом бытия к смерти.
«Я <…> тоже думал: или жить по-настоящему, или вообще не жить. Но получилось, что ни то, ни другое. Третье» (« Лед под ногами »), – данность обобществляет индивидуальное, истончает крепкое, мутит чистое, растрачивает насущное, смеется над дорогим. Имя ей – время, тлен, угасание, немощь, смерть. Ни бегство, ни забвение, ни вызов, ни отчаяние не трогают ее безличного существа, не прерывают мерного хода, – ибо в конечном счете предусмотрены заведенным от начала мира порядком. Срыв операции по спасению от инерционного хода жизни наиболее пронзительно выражен в теме любви.
Любовь – один из способов создать иллюзию выпадения из общего хода жизни, и это роднит ее с романтическим бегством. Но Сенчин, несмотря на выраженный антибуржуазный, антицивилизационный, анархистский пафос социальной мысли в его произведениях, отнюдь не романтик. Его проза – повод подумать о жизни, тогда как произведения Прилепина – повод о ней помечтать. Познать реальность любви – не то, что искать в ней спасения от познания жизни: «смотреть друг другу в глаза и не замечать окружающего» (« Вдохновение »).
Так, в основу последнего по времени произведения Сенчина о любви – рассказа «Персен» – лег как будто романтический сюжет: чувство к девушке показывает молодому офисному служащему отчужденность и ничтожность дела, на которое тратится его жизнь. Но откровение любви, в котором герой ощущает себя «человеком, узнавшим, зачем живет, ради чего», обманчиво, как всякий домысел о подлинном существе земных дней, земных чувств. Поэтому рассказ Сенчина не о романтическом пробуждении, а романтическом сне любви. Срыв очередного свидания возвращает героя к будням, установившемуся, не знающему исключений ходу его жизни. «Не мог он, встретившись с ней, узнав совершенно новые чувства, оставаться прежним», – ощущает герой бунтарский пыл любви, но автор его охлаждает: в том-то и дело, что «мог», что останется прежним – и он сам, и управляемые им передвижения канцелярских тонн по российской провинции, и регулярное, с понедельника по пятницу, осознание себя одним из полутора тысяч обедающих в офисной столовой людей.
В теме семьи заострена эта неизбежность проникновения логики будней в романтическое убежище любви – об этом рассказы «Погружение», «Афинские ночи», повести «Вперед и вверх…», «Конец сезона». То, что для взыскующего почвы Прилепина является благословением семьи, для Сенчина – ловушка.
Ценности героя Прилепина стремятся к максимальной коллективности, безличности. «Моя родина, ее почва, ее дети, ее рабочие, ее старики» – все это явления внеположенные герою, далекие от связи с его индивидуальностью, зато вполне определяющие и исчерпывающие его существо как единицы общности. Чтобы вернуть прочные основания жизни, стоит только перестать сопротивляться действующему в тебе и за тебя безличному принципу. Семейное счастье – один из наиболее пронзительных мотивов в произведениях Прилепина – привлекательно для автора выраженной в нем обобщенностью, повторностью опыта поколений. В полюбивших мужчине и женщине действуют «простые и ясные побуждения» (« Санькя »), отвлеченные от их индивидуального существа, и можно легко представить молодую жену на месте своей бабушки, а себя самого – пахнущим «непременно табаком» небритым добытчиком, привезшим рыбу на большой лодке (« Бабушка, осы и арбуз », « Грех »).
Но именно потому, что семья основана на обычае и инстинкте как безличных, коллективных законах существования, она, по Сенчину, сковывает самопознание личности. «Соединившись, решив шагать по жизни рука об руку, парочка на самом деле стремительно идет ко дну. Многие одумываются и поскорей разбегаются. Чтобы спастись. Пока <…> не начали растворяться» (« Погружение »).
Семья, природой и традицией предназначенная для соединения двоих, в прозе Сенчина открывает драму их разъединения – кардинального несовпадения их усилий по избеганию бренности. Каждый из двоих одинок в ситуации срыва жизненных упований. Об этом одиночестве – сцены ссор мужа и жены: он задумывает забыться в роли примерного главы семейства как раз тогда, когда она отправилась искать спасения в прерванной творческой работе (« Вперед и вверх на севших батарейках »); он решается поделиться с ней соображениями о туманности своего профессионального будущего как раз тогда, когда она мучается сомнениями в полноте своей реализации в браке (« Конец сезона »).
«Мне хочется пожалеть ее, подбодрить, но я вспоминаю о себе, – мое положение немногим лучше…» – размышляет герой «Афинских ночей» о параллельном, его и жены, проживании жизненного тупика. Здесь место обратить внимание на женский образ в прозе Прилепина, подломленный под идею природой благословенного счастья брака: Прилепин рисует героиню как образцовое сочетание природно-родовых моделей женственности (наложница и мать), что исключает какой-либо психологизм и тем более нравственный или смысловой конфликт в ее образе, равно как и полноценное участие в сюжете душевных метаний героя. В прозе Сенчина, напротив, женщина – соучастник, партнер, двойник, потому что затронута той же смысложизненной драмой, что и герой-мужчина. Немотивированная с виду апатия героя рассказа «Погружение» находит зеркальное духовное соответствие в кипучей суете его жены. Женщина и выступает для героя неисправным зеркалом, доказательством от противного: попадая в ситуацию смысловой пустоты, она уходит от осознания ее существа, пытаясь забыться в ролевой игре праздничного уикенда, позе жены и матери, профессиональном статусе.
Каждая из попыток индивидуальности освободиться от власти безличного, обобщенного закона терпит крах: «Мир не перевернулся» (« Глупый мальчик »). Данность – «безразличная, объективная, все принимающая почва» (« Наш последний эшелон ») – пронизывает все планы бытия человека, но в этой тотальности заключена невозможность осознания ее как опоры. Если в каждом движении жизни заложена смерть, то, значит, мы заведомо лишены жизни; если каждое наше достояние принадлежит времени, значит, мы сами не обладаем ничем. Иллюзии мира, ловящего на блесну сонные рыбины душ, должен быть возвращен ее сущностный облик – нуля.
Сюжет осознания пустоты как существа видимого, наличного бытия роднит реалистические произведения Сенчина с постмодернистской прозой Пелевина. Писателей объединяет пафос краеугольного знания о существе жизни, разница же в разрешении этого пафоса – освобождение у Пелевина, драма осознания несвободы у Сенчина – обусловлена мировоззренческими возможностями их эстетик. Бытовой поддых оставляет героя Сенчина наедине с необходимостью продолжать жизнь в условиях тотального смыслового нуля, мозговая же атака Пелевина призвана подарить герою такое знание, которое бы принципиально сняло жизнь как задачу. Как постмодернист, Пелевин может себе позволить вырвать героев из хода жизни, художественно реализовав инобытие. Сенчин же, ментальный сюжет разворачивающий в исключительно вещественных обстоятельствах, не удовлетворен художественной инструкцией спасения: практика действительной жизни требует решить, как распорядиться знанием о существе жизни тому, кто, благодаря этому знанию, не стал сверхчеловеком.
Обличая «необоснованность, ветхость, легковесность вещей» [62] , Сенчин раскрывает потенциал отталкивания от мира вещности, жажду неисчерпаемого источника жизни как существо человека. «Не всякий, говорящий Мне: “Господи! Господи!”, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного» (Мф 7:21), – этот евангельский завет впору вспомнить, сопоставляя религиозную риторику Прилепина с безбожным по виду отображением жизни души в прозе Сенчина.
Духовная жизнь начинается с самопознания и отречения от затуманивающих иллюзий. Бодрствование – духовный идеал Сенчина, правда в его прозе заменяет благодать. Поэтому с такой сокрушительной иронией обрываются в его прозе сцены праздника: ведь праздник – это прельщение, плен сознания. Чтобы «разбудить и очистить глубины», «нужны только горькие лекарства» (« Наш последний эшелон »).
Болезнь души и импульс к ее самоизлечению – вот амплитуда развития персонажей Сенчина. Человек пробуждается от духовного сна: из инерции будней, из прельщения праздника он спасен пониманием, что жизнь пошла «не так», и очищается в плаче о себе.
Мы начали с рассмотрения драмы срыва – нарушения заведенного порядка, сбоя планов, утраты и разочарования. Но настоящая катастрофа в прозе Сенчина – это бездумье, а потому срыв и страдания назначены героям во спасение. Спасение от убаюкивающей иллюзии, что временное дано им навсегда, тленное принесет утешение, а растворение в наличном бытии отменит их исчезновение в смерти.
В глазах Сенчина фатально именно то, что для Прилепина составляет предельную цель исканий: почувствовать себя «приятно пустым», «не думать», скатиться в бездумье той глубины, «где нет уже слов» (« Ничего страшного »), «скользить по струям жизни, как щепка в спиралях вихря» (рассказ « Говорят, что нас там примут »), ощутить «отключение чего-то главного, делающего его человеком, но мешающего будничной жизни, мешающего хорошо работать» (рассказ « Сорокет »). Опасность бессознательного включения в ход вещей выражена в мотиве «дремы» (повесть « Один плюс один »), перетекания «изо дня в день» (« Минус »), жизни «по инерции» (« Ничего страшного »), «черной легкости бесчувствия» (« Погружения »).
И растворение личности в инстинкте, семейном долге, социальном порядке Сенчин, в противоположность Прилепину, расценивает как один из вариантов духовной гибели.
«Все стало как надо. Все стало просто и правильно» – эти для Прилепина ключевые, маркированные жизнеутверждающим пафосом слова в рассказе Сенчина «Первая девушка» обозначают подлом личности под коллективный порядок: «Я стал таким, каким должен быть человек», – думает юноша, принявший участие в групповом насилии над девушкой, в которую был влюблен.
Половое влечение – это порабощение личности внутренним «вторым» («И в ней, в той, что сейчас внизу, в ней тоже появился второй: от этого она и испугалась тогда, в умывалке, почувствовав его оживание, она сопротивлялась. Но – бесполезно. Они, эти вторые, победили нашу глупую робость и толкнули сюда, на кровать» – « Минус »). Семья – отчуждение личности в других («Человек все равно, <…> как бы ни распылял себя в заботах о своих близких, все равно больше думает о себе. <…> Словно бы опомнившись, человек задумывается о себе самом, оглядывается назад, видит огонек настоящей жизни. <…> И что значат в такие минуты для очнувшегося давным-давно переродившаяся в нечто совсем иное любовь? Дети, которые, взрослея, становятся все дальше и дальше? Что такое обязанности перед семьей, бескорыстные жертвы, удобства, проблемы, компромиссы? Обиды, прощения? Три гвоздички на день рождения?» – « Погружение »). Дети – иллюзия исправления личного опыта в новой жизни («Самое идиотичное, скорее всего оставлю потомство – нового маленького кретина, который повторит мой никчемный жизненный путь» – « Говорят, что нас там примут »).
«Я» в отличие от не-«я», «я» в отличие от «мое» – этот экзистенциальный конфликт пронизывает бытие личности, побуждая ее осознать свои пределы, а значит, и свое существо.
«В эпохи, когда все принципы расшатаны, сильно развитая личность находит опору в самой себе» [63] , – к интеллигентскому идеалу самосознания как стержня личности стремится рефлексивный герой Сенчина: «Быть одному. Тогда есть шанс не пропустить правду. Правда появляется лишь тогда, когда не на ком отвести душу, нечем обмануться, не в кого спрятаться» («Вдохновение») . Его опорой становится правдивое сознание своей безопорности – как единственный «ресурс для поступка» у «человека с голыми руками» (« Глупый мальчик »).
Герой. Рассказики начала девяностых годов (представлены в книге «День без числа») показывают героя Сенчина наблюдателем или пассивным участником событий, существо которых он пока не пробует сознавать. Но подобно тому, как из сентиментального мальчика Прилепин силой идеетворчества выпестовал Воина, так Сенчин из героя, пассивно переживающего свою отчужденность от мира, силой рефлексии воспитал Писателя.
На этом эволюционном пути герой варьирует степень своей отчужденности: неудачник, маргинал, романтик, художник. Но эти ипостаси героя, как и наиболее автопсихологичная фигура писателя, в сердцевине своей сводятся к одной и той же модели существования. В культурной мифологии она сакральна, как и любимый Прилепиным образ героя-воина, но только эталонность ее с противоположным знаком: центральный образ сенчинской прозы – человек подполья, или, по принятой фразеологии, антигерой.
Мифоматрице «подпольного» в русской литературе посвящены два эссе В. Бирюкова [64] . Они выполнены в самобытной стилистике антиномичного размышления, с помощью которой автор выражает сам принцип отрицательного самоутверждения «подпольного», само его бытие, осуществляемое через небытие. Человек подполья «опосредован отрицанием всех социальных ролей, всех определенностей, всех твердых жизненных форм, но отрицание это – тотальное и потому абсолютно тождественно утверждению» [65] . Герой Сенчина надламывает любое позитивное определение себя, выражая себя через тотальное «нет» с тем же надрывом, с каким герой Прилепина следует наложенным на себя «да»-обязательствам.
Страх погружения, поступка, воплощения, определения, утверждения, присоединения, владения – всех вариантов положительного бытия создает в прозе Сенчина образ героя апатичного, боящегося жизни, нерешительного, не умеющего выбрать, отстраненного, пусто мечтательного и криводушного, постоянно не совпадающего с собой. Зрелое воплощение этого типажа – образ Чащина, главного героя повести «Лед под ногами», полемизирующей с социально-политическим романтизмом новейших поколений.
Чащин – герой, восходящий к русской литературной традиции, и в этом смысле он зеркально соответствует образу Нетагива в романе Прилепина. В антиномии Чащин – Негатив воспроизводится антиномия Рахметова – Обломова как альтернативных вариантов отрицательного (бунтарского) самоутверждения русской интеллигенции. Чащин, как и Обломов, воплощает собой апатию как идею существования, бездействие как позицию. Чащин – антигерой, высвечивающий пустоту положительного героизма; обличаемый, которому властью русской литературной традиции возвращено право обличать. И его смерть в финале – предельное утверждение отрицательного бытия, радикальный способ уберечь себя от растворения в коллективной иллюзии (сравним с высказыванием подобного персонажа о своем великом прообразе: «трагическая, но героическая жизнь Ильи Ильича Обломова. Вот он, ярчайший тип неприятия действительной жизни – тупой суеты. <…> Толкали его в эту гниющую жижу <…>. И, в конце концов, бросили израненного, обессиленного, но все же чистого, непокорившегося, непорочного», – из раннего рассказа « Глупый мальчик »).
И все-таки Чащин, несмотря на культурное обаяние этого образа, не является воплощением сенчинского героя в его существе. Это зрелый вариант одной из отчужденных его ипостасей: выкристаллизовавшийся тип героя-обывателя, соприродного персонажам таких произведений как «Один плюс один», «Нубук», «Конец сезона», где фигура главного героя проработана Сенчиным только психологически. Когда в эту поведенческую модель включается процесс рефлексии, герой научается отстраняться от собственной психологии, с тем чтобы понять ее основания. Инстинкт маргинала трансформируется в философию подполья.
«Бытие антигероя все целиком и без остатка сводится к сознанию», «антигерой делает самосознание краеугольным камнем своей мыслежизни – или жизнемысли» [66] , – рефлексия осознается героем как достаточный способ существования, что исключает для него возможность иных моделей бытия: «принципиально объектных», «равных себе», не сознающих себя [67] . Одно из ранних выражений самосознания человека подполья наблюдаем в рассказе «Вдохновение», бросающем блоковский вызов укорененному, обусловленному, бездумному существованию: «Я опустошен, я спокоен, совершенно холоден. В такие минуты я знаю цену себе, как знает себе цену Андрей и тысячи подобных ему. <…> Я горд тем, что я все-таки сильнее их. Они скрывают, гримируют», «попробуй их затронь за живое! <…> У них столько болезненных мест! <…> А у меня ничего нет. У меня есть слишком много, чтобы бояться, что все отберут» [68] .
Кем ты хочешь стать? – ошибочной постановке задачи личностного осуществления нас учат с детства. Придумать, кем ты хочешь стать, и тянуться к этой выдумке о себе – не то же самое, что понять, кто ты есть, и постараться быть им. Прилепин ужимает героя до точного соответствия вымечтанной модели – Сенчин раскрывает полноту его природных свойств. Антигерой, рефлектер, интеллигент, беспочвенник, «подпольный» – это герой, ткущий тень бытию («вяло, как посторонний, я размышлял о своем будущем» – « Чужой »), вырабатывающий ухмылку («давно я не улыбался, в основном усмехаюсь, ухмыляюсь, хмыкаю» – « Минус »), не доверяющий сам себе (интересно сопоставить совершенно культурное восприятие убийства свиньи героем прилепинского рассказа «Грех» с осознанием культурного эха в аналогичном переживании героя сенчинского «Минуса»: «Зачем-то именно в такой момент, в момент начала праздничной трапезы, мне захотелось прокрутить в памяти процесс добывания этого мяса. Почувствовать снова маслянистый, густой запах кровавых внутренностей <…>. Пытаюсь зачем-то внушить себе отвращение к мясу <…>… Не получается, отвращения нет, нож, кишки, <…> закопченная, без языка в блаженно улыбающемся рту свиная голова на колоде кажутся чем-то естественным, нормальным, как вот этот процесс питания, как скоро возникнущая потребность выделить лишние вещества из организма»).