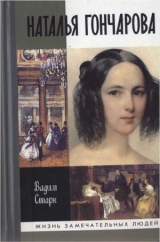
Текст книги "Наталья Гончарова"
Автор книги: Вадим Старк
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 42 страниц)
На листе письма князя Вяземского Наталье Николаевне от 13 декабря 1842 года опять стоит ее помета в том же роде, как и в отношении Гриффео: «Aff
Еще на одного безымянного поклонника, как рассказывала Арапова, Наталья Николаевна вовсе не обращала внимания, ибо единственным его достоинством было значительное состояние. Иногда он даже подкарауливал ее на прогулках с детьми в Летнем саду, становясь мишенью для проказ Александра, старшего сына Пушкиной, который норовил попасть мячиком ему в спину. В конце концов он прекратил свои ухаживания.
Сам Вяземский, все эти годы оберегавший Наталью Николаевну от поклонников, по определению Нащокина, «волочился» за ней, что на первый взгляд подтверждается его письмами к ней. Так рассудили и наши современники, читая эти письма. Однако и Нащокин, постоянно живший в Москве, и наши современники, отделенные от Натальи Николаевны временем, думается, не до конца оценили линию поведения Вяземского. Как только Наталья Николаевна остановила свой выбор на Петре Петровиче Ланском, тональность писем Вяземского переменилась – из них исчез элемент ухаживания, который поддерживался им, как представляется, для того, чтобы отвлечь ее от других поклонников.
Другой интересный мотив писем Вяземского Наталье Николаевне – стремление отвратить ее от дома Карамзиных, что может показаться странным, ведь речь идет о доме его сестры. Но объяснение тому находим в письмах Плетнева. Так, в 1840 году он писал Гроту по поводу посещения Карамзиных 20 октября: «В воскресенье я пошел на вечер к Карамзиным. Признаюсь, одна любознательность и действительная польза от наблюдений в таких обществах еще удерживает меня глядеть на пустошь и слушать пустошь большесветия». Позднее в том же духе он пишет и Жуковскому: «Всех нас связывала и животворила чистая, светлая литература. Теперь этого нет. Все интересы обращены на мастерство богатеть и мотать. Видно, старое доброе время никогда к нам не воротится».
Вяземский же прямо написал Наталье Николаевне 12 августа 1842 года о Карамзиных: «Это дом, который в конце концов принесет вам несчастье…» А 13 декабря он подробно разворачивает свое утверждение: «Вы знаете, что в этом доме спешат разгласить на всех перекрестках не только то, что происходит в гостиной, но еще и то, что происходит и не происходит в самых сокровенных тайниках души и сердца. Семейные шутки предаются нескромной гласности, а, следовательно, пересуживаются сплетницами и недоброжелателями. Я не понимаю, почему вы позволяете в вашем трудном положении, которому вы сумели придать достоинство и характер святости своим поведением, спокойным и осторожным, в полном соответствии с вашим положением, – почему вы позволяете без всякой надобности примешивать ваше имя к пересудам, которые, несмотря на всю их незначимость, всегда более или менее компрометирующи… Все ваши так называемые друзья, с их советами, проектами и шутками – ваши самые жестокие и самые ярые враги».
В том же письме, стараясь доказать, что он вовсе «не помеха веселью» и не «собака, которая перед сеном лежит, сама не ест и другим не дает», Вяземский пишет: «Но признаюсь вам, что любовь, которую я к вам питаю, сурова, подозрительна, деспотична даже, по крайней мере пытается быть такой». Без этого разъяснения некоторые пассажи писем Вяземского Наталье Николаевне могут быть приняты за банальные изъяснения в любви: «Прошу верить тому, чему вы не верите, то есть тому, что я вам душевно предан», «Целую след ножки вашей на шелковой мураве, когда вы идете считать гусей своих», «Вы мое солнце, мой воздух, моя музыка, моя поэзия», «Спешу, нет времени, а потому могу сказать только два слова, нет, три: я вас обожаю! Нет, четыре: я вас обожаю по-прежнему!», «Любовь и преданность мои к вам неизменны и никогда во мне не угаснут, потому что они не зависят ни от обстоятельств, ни от вас».
Наталья Николаевна вполне понимала позицию Вяземского, старавшегося уберечь вдову друга от неосторожного шага, но однажды все-таки упрекнула его в недоверии, причем сделала это в письме, написанном по-русски, как она переписывалась некогда с Пушкиным: «Не понимаю, чем заслужила такого о себе дурного мнения, я во всём, всегда,и на все хитрыевопросы с вами была откровенна, и не моя вина, есть ли в голову вашу часто влезают неправдоподобные мысли, рожденные романтическим вашим воображением, но не имеющие никакой сущности. У страха глаза велики». Однажды Наталья Николаевна что-то в этом духе высказала ему прямо в лицо, судя по одному из писем Вяземского к ней: «Вы так плохо обходились со мною на последнем вечере вашей тетушки, что я с тех пор не осмеливаюсь появляться у вас и еду спрятать свои стыд и боль в уединении Царского Села».
Вяземский не только засыпал Наталью Николаевну письмами, но почти ежедневно появлялся в ее доме и сопровождал ее на прогулках, так что надоедал даже детям. Понимая это и собираясь на время оставить Петербург, в письме от 26 июня 1843 года он прямо говорит ей: «Чтобы не иметь более безрассудного вида, чем на самом деле, прошу вашего разрешения объяснить, почему я не пришел к вам перед отъездом. Много раз я готов был сделать это, но всегда мне не хватало смелости. А знаете ли – какой смелости? – Боязнь показаться смешным перед вашими детьми и прислугой. Ваша сестра меня нисколько не смущает. Она разумна и добра, а следовательно, беспристрастна». Заканчивается письмо словами: «Во всяком случае, вернувшись в Петербург, я воспользуюсь предлогом моего отсутствия, чтобы появиться перед вашими детьми в качестве Петра Бутофорича, как и прежде».
Тем не менее Наталья Николаевна прислушивалась к суждениям Вяземского. В письме уехавшим за границу Фризенгофам от 16 декабря 1841 года она заметила, что «настоящие друзьявстречаются редко, и всегда чувствуешь себя признательной тем, кто берет на себя труд ими казаться…».
В том же письме, как бы заочно отвечая Вяземскому, она пишет Фризенгофам о чувствах, «которые мы можем ещеиспытывать, принимая во внимание наш возраст»:«Могу сказать вам откровенно, заглянув в самые сокровенные уголки моего сердца, что их у меня нет».
Второй брак мог решить материальные проблемы Натальи Николаевны, но руководствоваться только этим соображением она никак не считала возможным.
Одним из «настоящих друзей» мог бы стать для нее Михаил Юрьевич Лермонтов, что доказал ставший для нее особенно памятным день 12 апреля 1841 года, когда состоялось их прощание. Как зафиксировал Плетнев, Наталья Николаевна встречалась с ним в доме Карамзиных. Поэт вначале держался от нее на расстоянии, что не могло ее не задевать. И только перед самым своим отъездом на Кавказ, навсегда покидая Петербург, Лермонтов неожиданно подсел к ней и, по позднейшему рассказу А. П. Араповой, завел задушевный и искренний разговор. На этом вечере присутствовал В. А. Соллогуб, вспоминавший впоследствии, как «растроганный вниманием к себе и непритворной любовью избранного кружка поэт, стоя в окне и глядя на тучи, которые ползли над Летним садом и Невою, написал стихотворение „Тучки небесные, вечные странники!..“ Софья Карамзина и несколько человек гостей окружили поэта и просили прочесть только что набросанное стихотворение. Он оглянул всех грустным взглядом выразительных глаз своих и прочел его. Когда он кончил, глаза были влажные от слез…».
Наталья Николаевна, как и все присутствовавшие при поэтическом прощании Лермонтова с Петербургом, была тронута этими стихами, в которых она могла найти отклик своим душевным переживаниям:
Кто же вас гонит: судьбы ли решение?
Зависть ли тайная? злоба ль открытая?
Или на вас тяготит преступление?
Или друзей клевета ядовитая?
Атмосфера, сложившаяся после чтения стихотворения в гостиной Карамзиных, как нельзя более могла способствовать тому доверительному тону и исповедальному характеру разговора, который затеял вдруг Лермонтов с Натальей Николаевной. На прощание он якобы сказал ей: «Когда я только подумаю, как мы часто с вами здесь встречались!.. Сколько вечеров, проведенных здесь, в этой гостиной, но в разных углах! Я чуждался вас, малодушно поддавшись враждебным влияниям. Я видел в вас только холодную, неприступную красавицу, готов был гордиться, что не подчиняюсь общему здешнему культу, и только накануне отъезда надо было мне разглядеть под этой оболочкой женщину, постигнуть ее обаяние личности, которое не разбираешь, а признаешь, чтобы увезти с собою вечный упрек в близорукости, бесплодное сожаление о даром утраченных часах! Но когда я вернусь, я сумею заслужить прощение и, если не слишком самонадеянна мечта, стать когда-нибудь вам другом. Никто не может помешать посвятить вам ту беззаветную преданность, на которую я чувствую себя способным». «Прощать мне вам нечего, – ответила Наталья Николаевна, – но если вам жаль уехать с изменившимся мнением обо мне, то поверьте, что мне отраднее оставаться при этом убеждении».
Но новой встрече не суждено было состояться. Вскоре Лермонтов был убит на дуэли. 15 июля 1841 года, в день роковой дуэли, Лермонтов в последний раз увиделся с Львом Сергеевичем Пушкиным, с которым познакомился еще в 1837 году. Тот приехал к Лермонтову из Пятигорска и принял участие в пикнике, откуда Лермонтов отправился прямо на дуэль с Мартыновым. Петр Тимофеевич Полеводин, приехавший лечиться на Кавказ в начале июня 1841 года и оставивший воспоминания о гибели Лермонтова, писал: «Пушкин Лев Сергеевич, родной брат нашего бессмертного поэта, весьма убит смертию Лермонтова, он был лучший его приятель. Лермонтов обедал в этот день с ним и прочею молодежью в Шотландке (шести верстах от Пятигорска) и не сказал ни слова о дуэли, которая должна была состояться чрез час». В отклике Полеводина сопоставляются фигуры противников Пушкина и Лермонтова: «Мартынов – чистейший сколок с Дантеса».
Весть о гибели Лермонтова застала Наталью Николаевну уже в Михайловском, куда она наконец отправилась после получения 23 января известия от Опеки о назначении ее опекуншей Михайловского вместо Сергея Львовича. Только теперь она получила полное основание для поездки в Михайловское, куда уже отправила памятник на могилу Пушкина.
Незадолго до отъезда Натальи Николаевны Вяземский подарил ей купленный в английском магазине изящный альбом в зеленом сафьяновом переплете с тиснением и преподнес стихотворение «При подарке альбома»:
Два лета в Михайловском
На память обо мне, когда меня не будет,
В альбом впишите:
«Здесь он был мне верный друг,
И там меня в своих молитвах не забудет,
И там он будет мой».
Потом, когда досуг
Украдкой даст вам час, чтобы побыть с собою,
На эти свежие и белые листы
Переносите вы свободною рукою
Дневную исповедь, отметки и мечты.
Свои невольные и вольные ошибки,
Надежды, их обман, и слезы, и улыбки,
И вспышки тайные сердечного огня,
И всё, что жизни сны вам на душу навеют,
Записывайте здесь живую повесть дня
И всё, что скажут вам, и то, чего не смеют
Словами вымолвить, но взор договорит,
И всё, что в вас самих таинственно молчит.
Но будьте искренны – нас искренность спасает…
Да не лукавит в вас ни чувство, ни язык,
И вас заранее прощеньем разрешает
Ваш богомол и духовник.
Проведя после возвращения из Полотняного Завода два лета в Петербурге, Наталья Николаевна собралась посетить Михайловское и установить памятник на могиле Пушкина. После смерти Надежды Осиповны Пушкиной Михайловское долями принадлежало Сергею Львовичу, Ольге Сергеевне Павлищевой, Александру и Льву Сергеевичам. Свою седьмую часть имения Сергей Львович уступил дочери Ольге, которой самой принадлежала всего лишь его четырнадцатая часть. Сразу после гибели Пушкина Николай I в числе других милостей по отношению к вдове и детям повелел «заложенное имение отца очистить от долга», полагая, что речь идет об имении, где похоронен поэт. В. А. Жуковский прояснил недоразумение в письме на имя императора: «Что же касается до заложенного отцовского имения, то по справкам оказалось, что Пушкин не владел, а только некоторое время управлял имением отца, который теперь им владеет сам, и что то имение, которое было благоугодно В. В. выкупить, не отцовское, а материнское, что оно разделено между отцом, двумя сыновьями и дочерью и что оно к выкупу не следовало бы и тогда, когда бы принадлежало Пушкину, ибо те причины, для коих В. В. желали его выкупить, не существуют; Пушкин погребен не в этой деревне, а в Святогорском монастыре, неподалеку от оной». Как это ни странно, в данном случае Жуковский действовал отнюдь не в пользу вдовы и детей Пушкина. Если следовать букве распоряжения императора, то заплатить долги следовало именно по отцовскому имению, то есть по Болдину.
Тем не менее по просьбе Опеки 18 мая 1838 года была произведена опись сельца Михайловского: господского дома и других строений, мебели, столового прибора, скота, наличного хлеба. В соответствии с подробным перечнем крепостных, как дворовых, так и живущих в приписанных к Михайловскому деревнях, общее их число составило на тот день 71 душу мужского и 98 душ женского пола. Были также зарисованы виды Михайловского и могилы Пушкина.
В девятом номере «Современника» Плетнев описал свое посещение могилы Пушкина: «Площадка – шагов в 25 по одному направлению и около 10 по другому. Она похожа на крутой обрыв. Вокруг этого места растут старые липы и другие деревья, закрывая собою вид на окрестность. Перед жертвенником есть небольшая насыпь земли, возвышающаяся над уровнем с четверть аршина. Посредине водружен черный крест, на котором из белых букв складывается имя „Пушкин“…»
Пушкин намеревался купить Михайловское целиком, заплатив соответствующие суммы брату и сестре, но долгие переговоры с Павлищевым на этот счет ни к чему не привели. Теперь за это дело взялся Соболевский, получив на ведение дел доверенности от Льва Сергеевича и Ольги Сергеевны. Соболевский вступает в переговоры с Опекой, предлагая выкупить Михайловское из расчета по 500 рублей ассигнациями за каждую ревизскую душу. Эта оценка совпадает с той, которая была дана еще самим поэтом в письме брату Льву Сергеевичу от 3 июня 1836 года: «Вот тебе короткий расчет нашего предполагаемого раздела: 80 душ и 700 десятин земли в Псковской губернии стоят (полагая 500 р. за душу вместо обыкновенной цены – 400 р.) 40 000 р.». Павлищев в ответе поэту от 11 июля 1836 года преувеличил стоимость Михайловского: «Оценка ваша по 500 р. за душу не имеет, позвольте сказать, никакого основания» – и предложил отдать имение за 64 тысячи рублей, то есть по 800 рублей за душу, заключив свои алчные расчеты словами: «Ниже этого нельзя ни под каким видом».
Теперь, после смерти Пушкина, Павлищев согласился оценить Михайловское из расчета, предложенного некогда Пушкиным. Однако дело с покупкой затягивалось по разным причинам, но прежде всего – по вине Соболевского. В конце концов граф Строганов обращается напрямую к сонаследникам, предлагая цену 425 рублей за крепостную душу. В результате Л. С. Пушкин отзывает свою доверенность на имя Соболевского и выдает новую Жуковскому, написав ему с Кавказа, из Ставрополя, 29 января 1840 года: «Мое желание одно: чтобы имение это не переходило в посторонние руки». Он соглашается на предложенную цену и, предвидя сложности с Ольгой Сергеевной, идет навстречу: «Гр. Строганов мне предлагает по 425 руб. за душу; если в этой цене вы не сойдетесь с моею сестрою (чего я не думаю), то сбавьте цену с моей части для пополнения платы за ее часть».
Шестого февраля 1840 года Строганов получает письмо от Ольги Сергеевны из Варшавы, которым она подтверждает, что «согласна продать опекунству в пользу малолетних детей моего брата следующую мне часть состоящего в Псковской губернии сельца Михайловского, равно и ту, которая мне от батюшки причитается по цене, вами предложенной, то есть по четыреста двадцати пяти (425) рублей ассигнациями за ревизскую душу…».
Дело, наконец, поступает в Петербургскую дворянскую опеку. Сергей Львович просит оставить за ним «Михайла Иванова Калашникова 78 лет и сына его Гаврилу Михайлова» и «Александра Арбеньева с матерью Ненилою», Наталья Николаевна обращается с подобной просьбой по поводу Ивана Михайловича Калашникова и объявляет, что «за долголетнюю и усердную службу его покойному мужу ее и ей» она дает ему отпускную. На долю С. Л. Пушкина пришлось 8 ¼ души, Ольге Сергеевне, вместе с переданной ей долей отца, достались 14 душ на сумму 1700 рублей, Льву Сергеевичу – 31 ½ души на сумму 3825 рублей, а Наталье Николаевне – седьмая часть от причитавшихся ее мужу 31 ½г души, то есть 4 ½ души, а без отпущенного Ивана Калашникова – 3 ½ души на 425 рублей серебром. К этим суммам прибавились еще доли от дохода с Михайловского. Опека выдала всем деньги, взяла расписки, и только после этого Наталья Николаевна смогла вступить в управление Михайловским в 1843 году. Крестьяне Михайловского дали ей обязательство в верной службе. Она же, вступив в права, в свою очередь, выдает доверенность на управление бурмистру Михайловского, крестьянину Василию Спиридоновичу Рагозину.
Наталья Николаевна могла управлять имением, только будучи опекуншей своих детей, что официально и было оформлено указом Петербургской дворянской опеки от 30 сентября 1840 года. Надзор же за имением возлагался Опекой с согласия Натальи Николаевны на одного из соседей, Антона Ивановича Самойлова, который и будет исполнять эту миссию до 1843 года. Его собственное имение располагалось в 40 верстах от Михайловского. Его порекомендовал Опеке и Наталье Николаевне знакомый Пушкина В. П. Пальчиков [148]148
Владимир Петрович Пальчиков– псковский помещик, служивший тогда в Петербурге; лицеист второго выпуска. Был женат на дочери Алексея Никитича Пещурова, дядюшки князя А. Горчакова, бывшего во времена михайловской ссылки Пушкина опочецким предводителем дворянства, а теперь ставший псковским губернатором.
[Закрыть]. Самойлов обязался несколько раз в году бывать в Михайловском. Он обещал своему поручителю Пальчикову: «…сбережение доходов, выгодный сбыт продукции и уплата повинностей будут на моей ответственности». Уже осенью 1840 года он приступил к исполнению своих обязанностей по просьбе Натальи Николаевны, не дожидаясь официального уведомления, «дабы воспользоваться осенним столь необходимым по хозяйству временем». Сергей Львович был задет тем, что «чужие люди приезжали распоряжаться в Михайловском», вспоминала позднее баронесса Е. Н. Вревская. 22 марта 1841 года она писала мужу: «Получили мы письмо от Сергея Львовича к нам и его старосте, с которым он прощается, и со всеми крестьянами. На днях привезут мебель Натальи Николаевны и приедет принимать свое управление назначенный опекун. Можешь себе представить, как он огорчен». Наталья Николаевна уже месяц жила в Михайловском, когда Евпраксия Николаевна написала, явно имея в виду все того же Самойлова, что вдова Пушкина, «за неимением лучшего, пригласила к себе… Духавского садовника».
Шестнадцатого февраля 1841 года заседание Опеки вынесло решение: «По случаю совершающейся покупки села Михайловского в пользу малолетних детей А. С. Пушкина опекунство, находя нужным сделать надлежащий по сему расчет как в суммах, причитающихся каждому из сонаследников по тому имению в отношении покупной суммы, так равно и в суммах, полученных от дохода по тому же имению, в распоряжение опекунства внесенных, произвели полный по сему нижеследующий расчет…»
Тем же днем помечена запись в журнале заседания Опеки: «Опекунство, находя, что, окончив возложенные на него обязанности, а именно: издав в свет полные сочинения А. С. Пушкина и продав право здешним книгопродавцам на издание посмертных сочинений его, и что сверх того приводя с разрешения Опеки сей к окончанию покупки фамильного села Михайловского в пользу детей Пушкина, отдаваемого с разрешения же Опеки сей в непосредственное управление матери малолетних Наталье Николаевне Пушкиной, – опекунство сие, находя с одной стороны сдать вдове Н. Н. Пушкиной некоторые предметы имущества, находившегося на сохранении у оного, а с другой открывшуюся вдове Пушкина покупкою упомянутого имения возможность принять на свое сохранение предметы, избавив тем опекунство сие от излишних расходов по сбережению их от оного».
Поскольку предметы обихода уже были предоставлены Наталье Николаевне, которая часть имущества раздала служителям, то теперь осталось передать фактически только библиотеку, хранившуюся по описи в двадцати четырех ящиках, а также девять рукописных книг, материалы к «Истории Петра», экземпляры сочинений Пушкина, изданных посмертно, и книгу подписчиков на собрание его сочинений на 354 страницах.
В начале марта упакованная библиотека на шести санях была отправлена в Михайловское под наблюдением Никиты Козлова, бывшего дядьки и камердинера поэта.
Только после выкупа Михайловского Наталья Николаевна решилась в него приехать на правах опекунши своих детей, за которыми было формально закреплено имение. 9 апреля она сообщила Дмитрию Николаевичу: «Итак, дорогой брат, благодаря снаряжению, весь наш караван может отправиться 15 мая…» 30 апреля подтверждая свое намерение через две недели отправиться в Михайловское, в очередном письме брату она просит прислать ей верховую лошадь: «Грустно быть в деревне, не имея даже возможности прогуляться, особенно мне, для которой проехаться верхом всегда было праздником». Накануне отъезда, 14 мая 1841 года, отметили день рождения сына Гриши – ему исполнилось шесть лет.
Отказавшись от городской квартиры и сдав часть мебели на хранение, с остальным имуществом Наталья Николаевна пустилась в путь. Выехав 15 мая, она прибыла в Михайловское 19-го, в самый день рождения старшей дочери, девятилетней Маши.
На следующий день она дает отчет брату о состоянии своих дел: «Вот мы и в Михайловском, дорогой Дмитрий. Увы, лошадей нет, и мы заключены в нашей хижине, не имея возможности выйти, так как ты знаешь, как ленивы твои сестрицы, которые не любят утруждать свои бедные ножки. Ради бога, любезный брат, пришли нам поскорее лошадей, не жди, пока Любка оправится, иначе мы рискуем остаться без них всё лето. Таратайка тоже нам будет очень кстати».
О состоянии усадьбы она пишет: «Дом совершенно обветшал; сад великолепен, окрестности бесподобны – это приятно. Не хватает только лошадей, чтобы нам здесь окончательно понравилось – поэтому, пожалуйста, пришли нам их незамедлительно, а также и деньги». Последний раз дом в Михайловском приводили в порядок в 1829 году, после чего, как считали родители Пушкина, наблюдавшие за его ремонтом, он стал похож на дачи Черной речки. Но если на даче, снимаемой Пушкиным в Новой Деревне, было 15 комнат, то в Михайловском, даже считая переднюю, – всего шесть. Жить в них двум сестрам и четверым детям с нянями было тесно. А если там же размешался и отец Пушкина или селили приехавших гостей, то дом и вовсе был переполнен.
Свое первое письмо брату из Михайловского Наталья Николаевна заканчивает сообщением: «Сейчас я еду в монастырь на могилу Пушкина. Г-жа Осипова была так любезна одолжить мне свой экипаж». Впервые Наталья Николаевна с сестрой Александриной и детьми посетила могилу Пушкина в первоначальном ее виде, со скромным деревянным крестом, какой она запечатлена на рисунке П. А. Осиповой и на знаменитой гравюре 1838 года.
К этому времени в Святые Горы уже был доставлен памятник на могилу Пушкина. Он был заказан вдовой еще в конце 1839 года, а работу над ним А. Пермагоров закончил в ноябре 1840-го. Однако установка его была отложена до приезда Натальи Николаевны, которой самой хотелось за ней проследить. Потребовалось извлечь из земли гробы с телами Пушкина и его матери, чтобы поместить их в специально устроенный кирпичный склеп, а также соорудить цоколь и железную ограду. Под цоколь на глубину двух с половиной аршинов был подведен каменный фундамент. Только после этого мог быть установлен сам памятник. Надпись была выбита на гранитном основании, на котором возвышался беломраморный обелиск с помещенными по углам лотосами – символами вечной жизни и с перекрещенными гаснущими факелами над аркой, усеянной звездами; под ней помещена урна, полуприкрытая покрывалом, чтобы душа могла покинуть этот символический сосуд смерти и устремиться к небу. Установка памятника продолжалась до августа.
И сооружение памятника, и жизнь в деревне, где многое приходилось покупать на стороне, требовали денег, которых, как всегда, не хватало. Дмитрий Николаевич обещал прислать в деревню две тысячи рублей, но сколько ни напоминала ему об этом сестра, деньги так и не были высланы. Слабо надеясь на брата и понимая, что своих средств не хватит, Наталья Николаевна перед отъездом из Петербурга заняла 1375 рублей у Вяземского, но одновременно дала ему поручение подыскать квартиру, так что нужно было высылать задаток. Брать в долг пришлось и у тригорских соседей, и у отца Пушкина. Сергей Львович приехал в Михайловское задолго до Натальи Николаевны. 23 мая в Михайловском отметили день рождения младшей дочери Пушкина, Натальи, которой исполнилось пять лет, и 71-й, а на самом деле 74-й день рождения ее деда. Всю жизнь он убавлял себе три года: родившись в 1767 году, во всех официальных бумагах указывал 1770-й.
Пятого июня Наталья Николаевна пишет брату: «Хочу еще надоесть тебе с одной просьбой, но мне уже не так тяжело к тебе с ней обратиться. Не забудь о запасе варенья для нас; я не могу его сделать здесь, потому что тут почти нет фруктов; ты нам не откажешь, не правда ли, мой добрый братец?» В саду, который так нравился Наталье Николаевне, росли одни яблони (Пушкин писал: «У меня в саду плоды наливные, золотые»), В описи 1838 года значилось: «При сельце Михайловском находится Аглицкой сад с прудом, но по малому количеству фруктовых дерев доходу не приносит».
Так как хозяева жили в Михайловском наездами, а управлялось оно старостами из крепостных крестьян, то и доход приносило небольшой. Теперь забота об имении легла на плечи Натальи Николаевны. Ей впервые пришлось выступить в роли помещицы. Из письма в письмо она настойчиво повторяет брату просьбу навестить ее в Михайловском: «Ты был бы очень мил, если бы приехал к нам. Если бы ты только знал, как я нуждаюсь в твоих советах. Вот я облечена титулом опекуна и предоставлена своему глубокому невежеству в отношении всего того, что касается сельского хозяйства. Поэтому я не решаюсь делать никаких распоряжений из опасения, что староста рассмеется мне прямо в лицо. Мне кажется, однако, что здесь всё идет, как Бог на душу положит. Говоря между нами, Сергей Львович почти не занимался хозяйством. Просматривая счета конторы, я прежде всего поняла, что это имение за 4 года дало чистого дохода только 2600 руб. – Ради бога приезжай мне помочь; при твоем опыте, с твоей помощью я, может быть, выберусь из этого лабиринта».
Дмитрий Николаевич так и не собрался в Михайловское, да и писал сестре нерегулярно. Зато в конце июля проездом, отправляясь за границу на воды для лечения жены, завернул Иван Николаевич. Еще в декабре 1840 года в чине ротмистра лейб-гвардии Гусарского полка он уволился со службы «по домашним обстоятельствам». О посещении брата и невестки Наталья Николаевна сообщила Дмитрию: «Их приезд был для нас неожиданностью, а пребывание только в течение двух дней нас крайне опечалило. Мари очень плохо себя чувствовала, очень устала, но три ночи спокойного сна у нас ее немного подбодрили, и она была в состоянии продолжить путешествие. Здоровье Вани, мне кажется, тоже не блестяще, и хороший климат, я полагаю, ему так же необходим, как и жене. А сейчас мы находимся в ожидании Фризенгофов, которые собираются провести недели две с нами. Они будут постоянно жить в Вене; к счастью для нас, наш уголок лежит на пути за границу. Это доставляет нам радость, но также и печаль расставания со всеми нашими друзьями. Прощаясь с Ваней, мы имели надежду через некоторое время снова встретиться; совсем иное дело – Фризенгофы, нет шансов, что мы когда-либо увидимся, поэтому последнее прощание будет еще печальнее. Мы связаны нежной дружбой с Натой, и Фризенгоф во всех отношениях заслуживает уважения и дружеских чувств, которые мы к нему питаем».
Могла ли Наталья Николаевна, писавшая эти строки, думать, что через несколько лет они не только увидятся, но и породнятся с бароном Фризенгофом посредством его брака с Александрой Николаевной после ранней смерти его первой жены? Пока же Густав Фризенгоф с женой Натальей Ивановной, ее приемной матерью графиней Софьей Ивановной де Местр и полуторагодовалым сыном Грегором пробыли в гостях у Натальи Николаевны две недели августа 1841 года.
Наталья Ивановна Фризенгоф получила хорошее домашнее образование, неплохо рисовала, чем обязана приемному отцу, художнику. Во время пребывания в Михайловском она зарисовала всех обитателей усадьбы и их соседей в альбом Натальи Николаевны, подаренный ей Вяземским. Самый знаменитый ее рисунок запечатлел всех четверых детей Пушкина за покрытым скатертью столом. Они размещались не по старшинству; в центре сидели девочки, а по сторонам мальчики. Стол был накрыт к завтраку на свежем воздухе: на нем видны крынка со сметаной и тарелки с яйцами и деревенским сыром.
Другой трогательный рисунок запечатлел 17 августа Наталью Николаевну со старшей дочерью Марией прислонившимися к молодой березке. Мать и дочь представлены в профиль, спиной друг к другу; первая – со скромной прической с узлом волос на затылке, в длинном домашнем платье с передником; вторая – с палочкой в руке, наполовину скрытая фигурой матери. Младший сын, Григорий, нарисован 15 августа сидящим верхом на ветке дерева, а старший, Александр, изображен 24 августа со спины опирающимся на балкон. С этого балкона открывается вид, запечатленный некогда Пушкиным:
Господский дом уединенный,
Горой от ветров огражденный,
Стоял над речкою. Вдали
Пред ним пестрели и цвели
Луга и нивы золотые.
Мелькали селы; здесь и там
Стада бродили по лугам,
И сени расширял густые
Огромный запущенный сад,
Приют задумчивых Дриад.
Именно они, дети Пушкина, запечатленные на лоне воспетой им природы, – девятилетняя Мария, восьмилетний Александр, шестилетний Григорий и пятилетняя Наталья – являлись теперь хозяевами Михайловского, бывшего в свое время для их отца приютом «спокойствия, трудов и вдохновенья». Для них он и мечтал сохранить Михайловское, выкупив его у брата и сестры. Теперь его желание свершилось.








