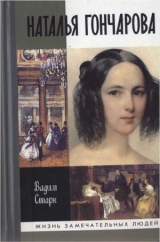
Текст книги "Наталья Гончарова"
Автор книги: Вадим Старк
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 42 страниц)
Отвергнув современную гипотезу о том, что свидание это состоялось 2 ноября 1836 года, попытаемся датировать его. Одним из документов, указывающих на время этого подлого действия со стороны Дантеса и Идалии Полетики, является письмо Александры Гончаровой брату Дмитрию от 19 января, в котором она сообщает: «Всё кажется довольно спокойным. Жизнь молодоженов идет своим чередом. Катя у нас не бывает; она видится с Ташей у тетушки и в свете. Что касается меня, то я иногда хожу к ней, я даже один раз там обедала, но признаюсь тебе откровенно, что я бываю там не без довольно тягостного чувства. Прежде всего, я знаю, что это неприятно тому дому, где я живу, а во-вторых, мои отношения с дядей и племянником не из близких; с обеих сторон смотрят друг на друга несколько косо, и это не очень-то побуждает меня часто ходить туда. Катя выиграла, я нахожу, в отношении приличия, она чувствует себя лучше в доме, чем в первые дни: более спокойна, но, мне кажется, скорее печальна иногда». В этом письме Александрина, от которой, как она не раз говорила, ничто не может укрыться, пропустила две страницы, написав при этом очень выразительно: «…не читай этих двух страниц, я их нечаянно пропустила, и там, может быть, скрыты тайны, которые должны остаться под белой бумагой». К числу этих тайн относится в первую очередь история подстроенного свидания. Не случайны в письме Александрины слова: «То, что происходит в этом подлом мире, мучает меня и наводит ужасную тоску». Свидание произошло в квартире А. М. Полетики в Кавалергардских казармах. По рассказу барона Густава Фризенгофа, речь идет уже о женатом Дантесе. До 18 января, пока Дантес был освобожден от несения службы, он вряд ли стал бы появляться в казармах своего полка. Наконец, только после того, как произошла эта встреча и Наталья Николаевна наотрез отказала Дантесу в его притязаниях, он в отместку мог публично вести себя с ней так вызывающе дерзко, что это было замечено в свете спустя несколько дней.
Вот как вспоминала об этом Вера Федоровна Вяземская со слов самой Натальи Николаевны, которая приехала к ней тотчас от Полетики «вся впопыхах и с негодованием рассказала, как ей удалось избегнуть настойчивого преследования Дантеса»: «Мадам N по настоянию Геккерна пригласила Пушкину к себе, а сама уехала из дому. Пушкина рассказывала княгине Вяземской и мужу, что, когда она осталась с глазу на глаз с Геккерном, тот вынул пистолет и грозил застрелиться, если она не отдаст ему себя. Пушкина не знала, куда ей деваться от его настояний; она ломала себе руки и стала говорить как можно громче. К счастью, ничего не подозревавшая дочь хозяйки явилась в комнату, и гостья бросилась к ней». Покинув предательский дом, она отправилась первым делом за поддержкой и советом к Вяземским, а затем домой. Судя по происходившему далее, Вяземские не советовали Наталье Николаевне рассказывать Пушкину о подстроенном свидании.
По версии дочери Натальи Николаевны от второго брака А. П. Араповой, Пушкин узнал о состоявшемся свидании из анонимного письма, которое и показал Наталье Николаевне, после чего та откровенно рассказала о том, как ее возмутило появление Дантеса и как она заявила ему, что останется навсегда глуха к его мольбам. Араповой очень хотелось обелить мать, которая в этом вовсе не нуждалась, и она только всё запутала в этой истории. Но одно конечно же заслуживает внимания – указание на то, что следствием произошедшего становится вторичный вызов на дуэль Дантеса. Как мы знаем, никакого вторичного вызова не было, а было оскорбительное письмо Пушкина Геккерену, после чего Дантес вызвал на дуэль Пушкина. Однако совершенно очевидно, что речь идет о январе 1837 года, а никак не о ноябре 1836-го. Исходя из того, что 19 января Дантес должен был приступить к несению службы по полку и вряд ли стал бы появляться в казармах ранее этого дня, особенно для того, чтобы встретиться с Натальей Николаевной, датировать свидание следует, по всей вероятности, именно этим днем. Для того чтобы до 19 января покинуть молодую жену и отправиться в казармы, у Дантеса не было оснований, да и самое его появление в казармах, когда он был освобожден от несения службы, должно было обратить на него нежелательное внимание. Накануне Наталья Николаевна видела Дантеса на рауте у Люцероде, где беседовала с Тургеневым. Именно на этом рауте Полетика и могла пригласить ее к себе на следующее утро. Вряд ли она стала бы делать это письменно. Когда же Дантес получил на свои домогательства совершенный отказ Натальи Николаевны, в возмущении покинувшей квартиру Полетики в Кавалергардских казармах, он начал мстить ей.
Дерзкое поведение Дантеса было замечено в пятницу 21 января на балу у Фикельмонов, собравшем в тот день свыше четырехсот гостей. А. К. Мердер, не танцевавшая из-за тесноты, зато внимательно наблюдавшая за присутствовавшими, особенно за Дантесом и Натальей Николаевной, записала на другой день в дневнике: «В мрачном молчании я восхищенно любовалась г-жой Пушкиной. Какое восхитительное создание! Дантес провел часть вечера неподалеку от меня. Он оживленно беседовал с пожилою дамою, которая, как можно было заключить из долетавших до меня слов, ставила ему в упрек экзальтированность его поведения. Действительно – жениться на одной, чтобы иметь некоторое право любить другую, в качестве сестры своей жены, – Боже! Для этого нужен порядочный запас смелости…» Пожилая дама говорила тихо, и ее упреков Мердер не расслышала, зато разобрала, что Дантес возразил ей: «Я понимаю, что вы хотите дать мне понять, но я совсем не уверен, что сделал глупость!» Дама сказала достаточно громко: «Докажите свету, что вы сумеете быть хорошим мужем… и что ходящие слухи не основательны». Ответ Дантеса прозвучал вызывающе: «Спасибо, но пусть меня судит свет».
Тургенев записал об этом дне: «…на бал к австрийскому послу… любезничал с Пушкиной, Огаревой, Шереметевой…» Дантес стал с этого дня не просто ухаживать за Натальей Николаевной, но буквально преследовать ее, обращая внимание всех и компрометируя ее своим поведением. После этого раута появились анекдоты о ревности Пушкина. 22-го барышня Мердер записала гулявший по светским гостиным анекдот о том, как Пушкин, вернувшись однажды домой, якобы застал Дантеса наедине со своей женой, принял участие в разговоре, а затем погасил лампу в комнате. Дантес вызвался ее снова зажечь, на что Пушкин отвечал: «Не беспокойтесь, мне, кстати, нужно распорядиться насчет кое-чего». После этого он вышел из полутемной комнаты и, остановившись за дверью, услышав через минуту «нечто похожее на звук поцелуя», а после возвращения увидел сажу на губах Дантеса. Этот анекдот, который сам Дантес и сочинил, был повторен в позднейших воспоминаниях его однополчанина князя А. В. Трубецкого.
Наконец, 23 января явилось переломным днем во всей истории и предрешило ее исход. Дантес, чье вызывающее поведение по отношению к Пушкину и его жене и так уже было замечено в обществе, на балу у графа Воронцова-Дашкова повел себя особенно оскорбительно по отношению к Наталье Николаевне. Дарья Федоровна Фикельмон уже в день смерти поэта сделала запись в своем дневнике об этом вечере: «Наконец, на одном из балов он так скомпрометировал госпожу Пушкину своими взглядами и намеками, что все ужаснулись, и решение Пушкина было с тех пор принято окончательно». Дантес по одной из версий, взяв в буфете тарелку с фруктами, сказал громко, напирая на последнее слово: «Это для моей законной ».По другой версии, при разъезде Дантес, подавая руку своей жене, громко сказал: «Allons, ma légitime! [126]126
Пойдем, моя законная! (фр.).
[Закрыть]» Острота была тотчас подхвачена толпой и разнеслась по залам и гостиным воронцовского особняка. Один из своих армейских каламбуров он нашептал Наталье Николаевне, подсев к ней, припомнив предварительно, что у нее и его жены общий мозольный оператор: «Je sais maintenant que votre cor est plus beau, que celui ma femme! [127]127
Непереводимая игра слов, основанная на созвучии: cor —«мозоль» и corps– тело. Буквально: «Я теперь знаю, что у вас мозоль красивее, чем у моей жены».
[Закрыть]» Пушкин, заметив, как вздрогнула Наталья Николаевна, тотчас увез ее с бала, и по дороге домой она передала ему содержание дерзкой выходки Дантеса.
Чуть ли не на этом самом балу император, по рассказу лицейского товарища Пушкина Модеста Корфа, «разговорился с Натальей Николаевной о сплетнях, которым ее красота подвергает ее в обществе, и посоветовал быть сколько можно осторожнее и беречь свою репутацию и для самой себя, и для счастия мужа, при известной его ревности». Подобный совет походил на выговор. Император якобы поведал и продолжение этой истории: «Она, верно, рассказала это мужу, потому что, увидясь где-то со мною, он стал меня благодарить за добрые советы его жене. – Разве ты и мог ожидать от меня другого? – спросил я. – Не только мог, – отвечал он, – но, признаюсь откровенно, я и вас самих подозревал в ухаживании за моею женою. Это было за три дня до последней дуэли».
Действительно, Пушкин рассказывал Нащокину, что царь, «как офицеришка, ухаживает за его женою; нарочно по утрам проезжает мимо ее окон, а ввечеру на балах спрашивает, отчего у нее всегда шторы опущены». Вместе с тем он говорил тому же Нащокину, что им владела «совершенная уверенность в чистом поведении Натальи Николаевны».
Всего за три дня до дуэли Пушкин в который раз столкнулся с Дантесом в доме Мещерских. С. Н. Карамзина записала: «В воскресенье у Катрин было большое собрание без танцев: Пушкины, Геккерны, которые продолжают разыгрывать свою сантиментальную комедию к удовольствию общества. Пушкин скрежещет зубами и принимает свое всегдашнее выражение тигра, Натали опускает глаза и краснеет под жарким и долгим взглядом своего зятя, – это начинает становиться чем-то большим обыкновенной безнравственности; Катрин направляет на них обоих свой ревнивый лорнет, а чтобы ни одной из них не оставаться без своей роли в драме, Александрина по всем правилам кокетничает с Пушкиным, который серьезно в нее влюблен и если ревнует свою жену из принципа, то свояченицу по чувству. В общем, все это очень странно, и дядюшка Вяземский утверждает, что он закрывает свое лицо и отвращает его от дома Пушкиных».
Позднее Вяземский с рыданием признавался, что, несмотря на многие годы дружбы, так до конца и не понял Пушкина. Чуткая Александрина, наученная своим прошлым горьким любовным опытом, стала в эти тревожные дни особенно сердечно близка Пушкину, она поддерживала его, как могла, в то время как большинство его осуждало. Этой-то сердечной близости сплетни придали совершенно иное толкование – о якобы существовавшей любовной связи между ними. Позднейшие лживые воспоминания дочери Натальи Николаевны надолго закрепили эти нелепые сплетни, существовавшие до тех пор, пока Анна Андреевна Ахматова не расставила все точки над i в своем блестящем очерке, посвященном Александрине и названном ее именем. По убеждению Ахматовой, именно Софья Николаевна Карамзина была избрана Геккеренами в качестве распространительницы этой клеветы. Незадолго до того сам Дантес задал направление для подобной сплетни, пошутив при появлении в обществе Пушкина с женой и свояченицами: «Смотрите, Пушкин со своим гаремом» и называя его «трехбунчужным пашой». Да и Ольга Сергеевна Павлищева не могла не поерничать, когда еще по поводу переезда сестер Гончаровых в Петербург писала отцу: «Александр представил меня своим женам – теперь у него их целых три». Идалия Полетика спустя годы утверждала, что дуэль произошла оттого, что Пушкин ревновал Александрину к Дантесу и боялся, что тот увезет ее во Францию. Сама Софья Николаевна, писавшая процитированные строки в самый момент дуэли Пушкина, в следующем письме брату сожалела: «А я-то так легкомысленно говорила тебе об этой горестной драме в прошлую среду, в тот день, в тот час, когда совершалась ее ужасная развязка».
Смерть ПушкинаПлетнев вспоминал о том, как за несколько дней до смерти Пушкин, прогуливаясь с ним, завещал ему написать мемуары: «У него тогда было какое-то высоко-религиозное настроение. Он говорил со мною о судьбах Промысла, выше всего ставил в человеке благоволение ко всем, видел это качество во мне, завидовал моей жизни и вытребовал обещание, что я напишу свои мемуары».
В воскресенье, 24 января, Пушкиных посетили этнограф и фольклорист И. П. Сахаров и поэт Л. А. Якубович. Разговор шел о Пугачеве и «Слове о полку Игореве», а также о книге Сахарова «Сказания русского народа о семейной жизни своих предков», готовившейся к печати. Сахарову запомнилась сцена, представлявшая семейное согласие хозяев дома: Пушкин сидел на стуле, а у ног его сидела на медвежьей шубе Наталья Николаевна, положив голову ему на колени.
Вечером того же дня, когда Пушкин с женой выходили из театра, Геккерен, шедший сзади, шепнул ей: когда же она склонится на мольбы его сына? Наталья Николаевна побледнела и задрожала. После вопроса Пушкина, что сказал ей Геккерен, она пересказала поразившие ее слова. После театра Пушкины были на балу у Салтыковых на Большой Морской, где Пушкин хотел было публично оскорбить Дантеса, но тот на балу не появился.
Утром 25 января 1837 года Геккерен неожиданно явился к Пушкиным домой, но не был принят. Прямо на лестнице последняя попытка избежать конфликта закончилась ссорой.
Юный Иван Сергеевич Тургенев увидел Пушкина 25 января на концерте Габриельского, придворного флейтиста прусского короля, и позднее вспоминал: «Он стоял, опираясь на косяк и скрестив руки на широкой груди с недовольным видом посматривал кругом… смуглое лицо, африканские губы, оскал белых крепких зубов, висячие бакенбарды, желчные глаза под высоким лбом почти без бровей и кудрявые волосы…» Заметив, что незнакомец пристально его рассматривает, Пушкин с досадой повел плечом и отошел в сторону.
Вечер 25 января Пушкин и Дантес с женами провели у Вяземских. И Дантес, и обе сестры были спокойны и даже веселы, принимая участие в общем разговоре. Пушкин, уже отправивший оскорбительное письмо Геккерену, сказал, смотря на жену и Дантеса: «Меня забавляет то, что этот господин забавляет мою жену, не зная, что его ожидает дома. Впрочем, с этим молодым человеком мои счеты сведены».
Оскорбительное письмо, отправленное Пушкиным по городской почте голландскому посланнику, не оставляло никаких возможностей для примирения:
«Барон!
Позвольте мне подвести итог тому, что произошло недавно. Поведение вашего сына было мне известно уже давно и не могло быть для меня безразличным. Я довольствовался ролью наблюдателя, готовый вмешаться, когда почту это своевременным. Случай, который во всякое другое время был бы мне крайне неприятен, весьма кстати вывел меня из затруднительного положения: я получил анонимные письма. Я увидел, что время пришло, и воспользовался этим. Остальное вы знаете: я заставил вашего сына играть роль столь жалкую, что моя жена, удивленная такой трусостью и пошлостью, не могла удержаться от смеха, и то чувство, которое, быть может, и вызывала в ней эта возвышенная и великая страсть, угасло в презрении самом спокойном и отвращении вполне заслуженном.
Я вынужден признать, барон, что ваша собственная роль была не совсем прилична. Вы, представитель коронованной особы, вы отечески сводничали вашему сыну. По-видимому, всем его поведением (впрочем, в достаточной степени неловким) руководили вы. Это вы, вероятно, диктовали ему пошлости, которые он отпускал, и нелепости, которые он осмеливался писать. Подобно бесстыжей старухе, вы подстерегали мою жену по всем углам, чтобы говорить ей о любви вашего незаконнорожденного или так называемого сына; а когда, заболев сифилисом, он должен был сидеть дома, вы говорили, что он умирает от любви к ней; вы бормотали ей: верните мне моего сына.
Вы хорошо понимаете, барон, что после всего этого я не могу терпеть, чтобы моя семья имела какие бы то ни было отношения с вашей. Только на этом условии согласился я не давать хода этому грязному делу и не обесчестить вас в глазах дворов нашего и вашего, к чему я имел и возможность и намерение. Я не желаю, чтобы моя жена выслушивала впредь ваши отеческие увещания. Я не могу позволить, чтобы ваш сын, после своего мерзкого поведения, смел разговаривать с моей женой, и еще того менее – чтобы он отпускал ей казарменные каламбуры и разыгрывал преданность и несчастную любовь, тогда как он плут и подлец. Итак, я вынужден обратиться к вам, чтобы просить вас положить конец всем этим проискам, если вы хотите избежать нового скандала, перед которым, конечно, я не остановлюсь.
Имею честь быть, барон, ваш нижайший и покорнейший слуга
Александр Пушкин.
26 января 1837».
В основу этого письма Геккерену легло неотправленное ноябрьское, с исключением упоминания о причастности Геккерена к анонимному пасквилю, но с дополнением, отразившим нынешнее положение вещей. Пушкин не мог не понимать, каково будет последствие подобного послания. И оно не заставило себя ждать.
В этот же день Пушкин ответил на письмо графа К. Ф. Толя от 25 января по поводу «Истории Пугачевского бунта», которую поэт ему подарил. Выражая свое отношение к личности незаслуженно забытого генерала Михельсона, Пушкин написал слова, в которых волей-неволей выразилось то состояние, в котором находился он перед дуэлью: «Как ни сильно предубеждение невежества, как ни жадно приемлется клевета, но одно слово, сказанное таким человеком, каков вы, навсегда их уничтожает. Гений с одного взгляда открывает истину, а истина сильнее царя, говорит Священное Писание».
Утром 26 января Пушкин получил ожидаемое послание от Геккерена:
«Милостивый государь.
Не зная ни вашего почерка, ни вашей подписи, я обратился к г. виконту д’Аршиаку, который вручит вам настоящее письмо, чтобы убедиться, действительно ли то письмо, на какое я сегодня отвечаю, исходит от вас. Содержание его до такой степени выходит из пределов возможного, что я отказываюсь отвечать на все подробности этого послания. Вы, по-видимому, забыли, милостивый государь, что именно вы отказались от вызова, направленного вами барону Жоржу де Геккерену и им принятого. Доказательство тому, что я здесь заявляю, существует – оно писано вашей рукой и осталось в руках у секундантов. Мне остается только предупредить вас, что г. виконт д’Аршиак отправляется к вам, чтобы условиться относительно места, где вы встретитесь с бароном Жоржем Геккереном, и предупредить вас, что эта встреча не терпит никакой отсрочки.
Я сумею впоследствии, милостивый государь, заставить вас оценить по достоинству звание, которым я облечен и которого никакая выходка с вашей стороны запятнать не может.
Остаюсь, милостивый государь, ваш покорнейший слуга
Барон де Геккерен.
Прочтено и одобрено мною.
Барон Жорж де Геккерен».
Этот ответ принес д’Аршиак; Пушкин, не читая его, принял сделанный ему вызов. Теперь в дело должны были вступить секунданты. Уехавший д’Аршиак вскоре прислал Пушкину записку:
«Прошу г-на Пушкина оказать мне честь сообщением, может ли он меня принять. Или, если не может сейчас, то в котором часу это будет возможно.
Виконт д’Аршиак, состоящий при французском посольстве».
В тот же вечер на рауте у графини Разумовской Пушкин решает найти себе секунданта. Прибыв туда в двенадцатом часу ночи, он обращается к советнику английского посольства Артуру Меджнису. Переговоры Пушкина с д’Аршиаком и Меджнисом не прошли незамеченными для знакомых. Кто-то сказал Вяземскому: «Пойдите, посмотрите, Пушкин о чем-то объясняется с д’Аршиаком; тут что-то недоброе». Вяземский отправился в их сторону, но они прекратили разговор и разошлись. К Вяземскому Пушкин обращается с невинной просьбой написать князю Козловскому об обещанной статье для «Современника».
С. Н. Карамзина запомнила последнюю встречу с Пушкиным у Разумовской: «…я видела Пушкина в последний раз; он был спокоен, смеялся, разговаривал, шутил, он несколько раз судорожно сжал мне руку, но я не обратила внимания на это». А. И. Тургенев, встречавшийся с Пушкиным почти каждый день, также отметил его спокойствие в этот день: «Я видел Пушкина на бале у гр. Разумовской, провел с ним часть утра; видел его веселого, полного жизни, без малейших признаков задумчивости: мы долго разговаривали о многом, и он шутил и смеялся». Пушкин отправился с раута домой в ожидании известий от Меджниса, согласившегося было стать его секундантом. Однако переговорив с д’Аршиаком и поняв, что примирение противников невозможно, тот прислал Пушкину записку с отказом. Это произошло уже в половине второго ночи.
В день накануне поединка Пушкин обедал у графини Е. П. Ростопчиной, муж которой запомнил, что поэт несколько раз буквально убегал в туалетную комнату и мочил себе голову холодной водой, до того его мучил жар. А вечером того же дня Пушкин появился у Вяземских, застав там графа М. Ю. Виельгорского и В. А. Перовского. Самого хозяина дома не было, так что только княгине Пушкин рассказал о письме, посланном им Геккерену. Вера Федоровна удерживала Пушкина чуть ли не до утра, но муж, гостивший у Карамзиных, так и не появился.
Уже в день дуэли в десятом часу утра Пушкин получает новую записку от д’Аршиака: «Я настаиваю еще сегодня утром на просьбе, с которою я имел честь обратиться к вам вчера вечером. Необходимо, чтобы я имел свидание с секундантом, которого вы выберете, притом в самое ближайшее время.
До полудня я буду дома, надеясь раньше этого времени увидеться с тем, кого вам угодно будет ко мне прислать».
Пушкин в ответ пишет д’Аршиаку: «Я не имею никакого желания вмешивать праздный петербургский люд в свои семейные дела, поэтому я решительно отказываюсь от разговора между секундантами. Я приведу своего только на место поединка. Так как г. Гекерен меня вызывает и обиженным является он, то он может выбрать мне секунданта, если увидит в том надобность: я заранее принимаю его, если бы даже это был его егерь. Что касается часа, места, я вполне к его услугам. Согласно нашим, русским обычаям, этого вполне достаточно… Прошу вас верить, виконт, – это мое последнее слово, мне больше нечего отвечать по поводу этого дела, и я не двинусь с места до окончательной встречи».
Фраза о егере невольно напоминает ситуацию дуэли Ленского с Онегиным, который привез в качестве секунданта француза-камердинера:
«Но где же, – молвил с изумленьем
Зарецкий, – где ваш секундант?»
…………………………………………
«Мой секундант? – сказал Евгений, —
Вот он: мой друг, monsieur Guillot.
Я не предвижу возражений
На представление мое:
Хоть человек он неизвестный,
Но уж конечно малый честный».
Однако в романе Зарецкий был поставлен перед фактом, отчего вынужден был согласиться. В пушкинской истории противную сторону такой поворот событий не устроил, о чем д’Аршиак и сообщает Пушкину очередной запиской: «Оскорбив честь барона Жоржа Геккерена, вы обязаны дать ему удовлетворение. Это ваше дело – достать себе секунданта. Никакой не может быть речи, чтоб ето вам доставили. Готовый со своей стороны явиться в условленное место, барон Жорж Геккерен настаивает на том, чтобы вы держались принятых правил. Всякое промедление будет рассматриваться им, как отказ в удовлетворении, которое вы ему обязаны дать, и как попытка огласкою этого дела помешать его окончанию. Свидание между секундантами, необходимое перед встречей, становится, если вы всё еще отказываете в нем, одним из условий барона Жоржа Геккерена; вы же мне говорили вчера и писали сегодня, что принимаете все его условия».
Будь в это время в Петербурге Владимир Соллогуб, Пушкин отправился бы к нему, а теперь он вынужден был пуститься на поиски секунданта. Выехав из дому в санях, Пушкин отправился к Константину Россету, жившему на Пантелеймоновской улице, но не застал его дома. И тут неожиданно то ли на Цепном мосту через Фонтанку, то ли на Пантелеймоновской улице он встретил своего лицейского товарища К. К. Данзаса. Пушкин усадил его в свои сани со словами: «Данзас, я ехал к тебе, садись со мной в сани и поедем во французское посольство, где ты будешь свидетелем одного разговора». Через несколько минут они были уже на Миллионной улице в квартире д’Аршиака. Поприветствовав хозяина, Пушкин обратился к Данзасу: «Теперь я вас введу в сущность дела» – и рассказал о том, что произошло между ним и Дантесом, окончив объяснение словами: «Теперь я вам могу сказать только одно: если дело это не закончится сегодня же, то в первый же раз, как я встречу Геккерена – отца или сына, – я им плюну в физиономию». Затем он, указав на Данзаса, прибавил: «Вот мой секундант». Только после этого он обратился к нему с вопросом: «Согласны вы?» В этой ситуации Данзасу не оставалось ничего другого, как ответить утвердительно. Самому д’Аршиаку Пушкин пояснил причины, которые заставляют его драться: «Есть двоякого рода рогоносцы: одни носят рога на самом деле; те знают отлично, как им быть; положение других, ставших рогоносцами по милости публики, затруднительнее. Я принадлежу к последним».
После ухода Пушкина Данзас первым делом спросил д’Аршиака: «Нет ли средств окончить дело миролюбиво?» Ответ д’Аршиака, который и сам бы желал примирения сторон, но уже убедился в том, что это невозможно, был отрицательным. Оставалось обсудить условия дуэли. Составленные по-французски и подписанные обоими секундантами, они гласили:
«Условия дуэли между г. Пушкиным и г. бароном Жоржем Геккереном
1. Противники становятся на расстоянии двадцати шагов друг от друга, на пять шагов назад от двух барьеров, расстояние между которыми равняется десяти шагам.
2. Противники, вооруженные пистолетами, по данному сигналу, идя один на другого, ни в коем случае не переступая барьера, могут пустить в дело свое оружие.
3. Сверх того принимается, что после первого выстрела противникам не дозволяется менять место для того, чтобы выстреливший первым подвергся огню своего противника на том же расстоянии.
4. Когда обе стороны сделают по выстрелу, то, если не будет результата, поединок возобновляется на прежних условиях: противники ставятся на то же расстояние в двадцать шагов; сохраняются те же барьеры и те же правила.
5. Секунданты являются непременными посредниками во всяком объяснении между противниками на месте боя.
6. Нижеподписавшиеся секунданты этого поединка, облеченные всеми полномочиями, обеспечивают, каждый за свою сторону, своею честью строгое соблюдение изложенных здесь условий.
Константин Данзас,
инженер-подполковник.
Виконт д ’Аршиак,
атташе французского посольства».
Пятый пункт выговорил Данзас, чтобы использовать любую возможность для примирения.
Пушкин, заехав в оружейный магазин Куракина и отобрав дуэльные пистолеты, вернулся домой в приподнятом настроении, что заметил Жуковский: «Ходил по комнате необыкнов<енно> весел, пел песни». В таком же настроении застал Пушкина помощник Смирдина, библиофил Ф. Ф. Цветаев, зашедший к нему в 12-м часу по поводу нового издания его сочинений.
Данзас привозит Пушкину условия дуэли, с которыми он согласился тотчас, не читая. Тут же он показал Данзасу копию своего письма Геккерену, сказав: «Если убьют меня, возьми эту копию и сделай из нее какое хочешь употребление». Само письмо он положил в карман сюртука, так что оно было с ним на месте дуэли. Однокашники договорились встретиться в кондитерской Вольфа и Беранже, после чего Данзас уехал за пистолетами, выбранными Пушкиным. Оставшись один, Пушкин приводит в порядок бумаги на столе, среди которых после его смерти будет найдено письмо к Бенкендорфу. Ему осталось написать последнее в своей жизни письмо – ответ писательнице Ишимовой, пригласившей его для встречи, от которой он вынужден был отказаться. После этого он вымылся, переоделся во всё чистое и велел подать бекешу, но, выйдя на улицу, вернулся, чтобы сменить ее на большую медвежью шубу. Около четырех часов Пушкин уже был в кондитерской Вольфа и Беранже, где его дожидался Данзас. Пушкин выпил стакан лимонаду, и они пустились в путь.
Когда, проехав начало Невского проспекта и Дворцовую площадь, они выехали на Дворцовую набережную, то встретили Наталью Николаевну, которая с детьми возвращалась домой с детского праздника у княгини Е. Н. Мещерской. Данзас один заметил ее, но они разъехались. Пушкин смотрел в другую сторону, а Наталья Николаевна была занята детьми, да и по близорукости не заметила Пушкина, тем более что ехал он с Данзасом на извозчике. Наталья Николаевна повернула к Мойке, а Пушкин с Данзасом съехали на лед Невы и срезали путь через Петропавловскую крепость. Пушкин пошутил: «Не в крепость ли ты везешь меня?» – «Нет, – отвечал Данзас, – через крепость на Черную речку самая близкая дорога». Так кратчайшим путем они вскоре выехали на Каменноостровский проспект. Он был в это время довольно оживлен: публика возвращалась с Островов к обеду после катаний. Пушкина окликнула дочь саксонского посланника А. фон Габленц, а встречные офицеры, князь В. Д. Голицын и А. И. Головин, дружно воскликнули, решив, что они направляются кататься: «Что вы так поздно едете, все уже оттуда разъезжаются?!» Данзас, желая дать понять, что едут они отнюдь не на катания, и стремясь предотвратить дуэль, выбрасывал из саней пули, но и на это никто не обратил внимания. По пути им попалась и чета Борх в карете с кучером и форейтором. Именем графа И. М. Борха был подписан ноябрьский пасквиль. Пушкин не преминул заметить: «Вот две образцовых семьи». Увидя, что Данзас его не понял, пояснил: «Ведь жена живет с кучером, а муж с форейтором». Итак, никто из встречных ничего не заподозрил, кроме юной графини А. К. Воронцовой-Дашковой: встретив вначале сани с Пушкиным и Данзасом, а потом с Дантесом и д’Аршиаком, «приехав домой, она в отчаянии говорила, что с Пушкиным непременно произошло несчастье».
К этому времени, примерно в половине шестого, участники дуэли почти одновременно добрались до Черной речки, встретившись у Комендантской дачи. Секунданты выбрали за ней удобное место для дуэли в огородах купца Мякишева и вместе с Дантесом стали вытаптывать дорожку длиной в обусловленные 20 шагов. Пушкин не принял участия в приготовлениях, усевшись на сугроб, и равнодушно взирал на происходящее. Когда Данзас спросил его, находит ли он выбранное место удобным, он нетерпеливо ответил: «Мне это совершенно всё равно, только, пожалуйста, делайте всё это поскорее».
Когда приготовления были закончены и противники встали по местам, обозначенным сброшенными шубами, сигнал сходиться подал Данзас взмахом шляпы. Противники стали сближаться. Пушкин первым подошел к барьеру, остановился и стал наводить пистолет. Дантес, не доходя до барьера одного шага, вскинул пистолет и выстрелил. Пушкин был ранен и, падая, сказал: «Je crois que j’ai la cuisse fracassée [128]128
Кажется, у меня раздроблено бедро (фр.).
[Закрыть]». Ha самом деле пуля попала в нижнюю часть живота и застряла в крестце. Секунданты бросились к нему, но когда туда же направился Дантес, Пушкин удержал его словами: «Attendez! Je me sens assez de force, pour tirer mon coup [129]129
Подождите! Я чувствую в себе достаточно сил, чтобы сделать свой выстрел (фр.).
[Закрыть]».








