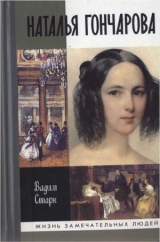
Текст книги "Наталья Гончарова"
Автор книги: Вадим Старк
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 42 страниц)
Глава шестая. ВДОВА
«Бог мне свидетель, что я готов умереть за нее; но умереть для того, чтобы оставить ее блестящей вдовой, вольной на другой день выбрать себе нового мужа, – эта мысль для меня – ад».
А. С. Пушкин
Последний долг
После кончины Пушкина для Натальи Николаевны наступили не менее тяжелые дни, чем те, когда он умирал. Теперь она, уже вдова, должна была исполнять печальные обязанности: облачиться в траур, принимать соболезнования, отдать последний долг покойному – открыть дом для всеобщего прощания, подготовить отпевание и похороны.
С. Н. Карамзина писала брату Андрею, какой она застала Наталью Николаевну 30 января, на другой день после смерти Пушкина: «В субботу вечером я видела несчастную Натали; не могу передать тебе, какое раздирающее душу впечатление она на меня произвела: настоящий призрак, и при этом взгляд ее блуждал, а выражение лица было столь невыразимо жалкое, что на нее невозможно было смотреть без сердечной боли. Она тотчас же меня спросила: „Вы видели лицо моего мужа сразу после смерти? У него было такое безмятежное выражение, лоб его был так спокоен, а улыбка такая добрая! – не правда ли, это было выражение счастья, удовлетворенности?“ К сказанному по-французски она добавила по-русски: „Он увидел, что там хорошо“». Высказав это, она стала судорожно рыдать, вся содрогаясь.
Весть о смерти Пушкина облетела весь Петербург. После того как на другой день гроб с его телом был выставлен в передней квартиры на Мойке, туда стали идти люди всех сословий и состояний, желавшие проститься с поэтом. Приходили до десяти тысяч человек в день. Вдова укрывалась от посторонних: все окна первого этажа квартиры были плотно занавешены, а шторы спущены. С самыми же близкими, допущенными во внутренние помещения, ей, наоборот, хотелось выговориться. Им она дарит на память о покойном кое-что из его вещей: перстни, часы, трости. Так, Жуковскому достался перстень-талисман, который был подарен Пушкину графиней Е. К. Воронцовой и которому посвящены стихотворения «Талисман» и «Храни меня, мой талисман». С ним поэт отправился на Черную речку и не расставался до самой смерти, веря в его охранительную силу. Пушкин запечатывал перстнем некоторые письма. Сохранился рисунок поэта, на котором изображена кисть руки с перстнем на пальце. Жуковский снял его с руки умершего Пушкина. С этим золотым перстнем с восьмиугольным красноватым камнем Жуковский представлен на знаменитом портрете, писанном К. П. Брюлловым, а также на портрете работы Т. Ф. Гильдебрандта. В их композиции перстень играет акцентирующую роль. Сын Жуковского Павел Васильевич подарил перстень И. С. Тургеневу, который хотел передать его Л. Н. Толстому, но после смерти Тургенева Полина Виардо передала перстень музею Александровского лицея, откуда он был украден.
Жуковский, согласно воле императора, уже через три четверти часа после кончины Пушкина опечатал его кабинет своей печатью. Плетнев тотчас отправился за скульптором Гальбергом, который снял с лица поэта посмертную маску. В тот же день было произведено вскрытие тела. После этого по воле Натальи Николаевны покойного облачили не в камер-юнкерский мундир, который, она хорошо знала, ее муж не любил, а в его любимый коричневый сюртук. До властей весть об этом дошла, как только был открыт доступ к гробу. Император заметил по этому поводу: «Верно, это Тургенев или князь Вяземский присоветовали».
В этот же день в восемь часов вечера в квартире была отслужена первая панихида. Как вспоминал Тургенев, «жена рвалась в своей комнате; она иногда в тихой, безмолвной, иногда в каком-то исступлении горести». Княгиня Мещерская вспоминала: «Я все это время была каждый день у жены покойного, во-первых, потому, что мне было отрадно приносить эту дань памяти Пушкина, а во-вторых, потому что печальная судьба молодой женщины в полной мере заслуживает участия. Собственно говоря, она виновата только в чрезмерном легкомыслии, в роковой самоуверенности и беспечности, при которых она не замечала той борьбы и тех мучений, какие выносил ее муж. Она никогда не изменяла чести, но она медленно, ежеминутно терзала восприимчивую и пламенную душу Пушкина; теперь, когда несчастье открыло ей глаза, она вполне всё это чувствует, и совесть иногда страшно ее мучит. В сущности, она сделала только то, что ежедневно делают многие из наших блистательных „дам“, которых, однако ж, из-за этого принимают не хуже прежнего; но она не так искусно умела скрыть свое кокетство, и, что еще важнее, она не поняла, что ее муж был иначе создан, чем слабые и снисходительные мужья этих дам».
Отпевание поэта поначалу было назначено в Исаакиевском соборе, прихожанами которого были Пушкины, о чем и извещали разосланные пригласительные билеты:
«Наталья Николаевна Пушкина, с душевным прискорбием извещая о кончине супруга ее, Двора Е. И. В. Камер-Юнкера Александра Сергеевича Пушкина, последовавшей в 29 день сего января, покорнейше просит пожаловать к отпеванию тела в Исаакиевский собор, состоящий в Адмиралтействе, 1-го числа февраля в 11 часов пополудни».
Однако большое стечение народа, желавшего проститься с поэтом, обеспокоило власти; было отдано распоряжение об отпевании в соседней с квартирой церкви Спаса Нерукотворного Образа на Конюшенной площади под формальным предлогом, что это церковь придворная, а Пушкин был камер-юнкером. 1 февраля, в час пополуночи, гроб с телом поэта его друзья ввосьмером перенесли в Конюшенную церковь, как ее называли в городском обиходе. При выносе гроба жандармов во главе с генералом Дубельтом было чуть ли не больше, чем знакомых Пушкина, так что Наталья Николаевна, не желавшая показываться, осталась в своей комнате. Многие в день отпевания в назначенное время приходили к Адмиралтейству, в тогдашний Исаакиевский собор (строительство грандиозного храма по проекту О. Монферрана еще не было завершено).
За два скромных некролога, появившихся в эти дни, издатели получили выговоры: Греч – от графа Бенкендорфа за слова, напечатанные в «Северной пчеле»: «Россия обязана Пушкину благодарностью за 22-х летнее служение на поприще словесности», а Краевский – от министра просвещения графа Уварова за фразу в «Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду»: «Солнце нашей поэзии закатилось! Пушкин скончался во цвете лет, в середине своего великого поприща!» Уваров возмущался: «Какое это такое поприще? Разве Пушкин был полководец, военачальник, министр, государственный муж?! Наконец, он умер без малого сорока лет! Писать стишки не значит проходить великое поприще!» На отпевание Уваров явился бледный, и все сторонились его.
Площадь перед церковью была запружена народом, но внутрь пускали только по пригласительным билетам. Отпевание было торжественное, с архимандритом и шестью священниками. Представлен был почти весь дипломатический корпус, приглашение не было послано только Геккерену. Под сводом храма торжественно и печально звучали слова: «Во блаженном успении вечный покой подаждь. Господи, усопшему рабу твоему Александру и сотвори ему вечную память». Хор трижды пропел: «Вечная память».
Первого февраля после отпевания Карамзины посетили вдову, и Софья Николаевна писала на другой день брату в Париж: «Вчера мы еще раз видели Натали, она уже была спокойнее и много говорила о муже. Через неделю она уезжает в калужское имение своего брата, где намерена провести два года. „Муж мой, – сказала она, – велел мне носить траур по нем два года, и я думаю, что лучше всего исполню его волю, если проведу эти два года совсем одна, в деревне. Моя сестра поедет со мной. И для меня это большое утешение“». Софья Николаевна не преминула прокомментировать волю Пушкина: «Какая тонкость чувств! он и тут заботился о том, чтобы охранить ее от осуждений света».
Андрей Карамзин пишет в ответ: «Нельзя и грешно искать виноватых в несчастных… бедная, бедная Наталья Николаевна! Сердце заливается кровью при мысли о ней». В следующем письме снова возвращается к этой теме: «Повторяю, что сказал в том письме: бедная Наталья Николаевна! Сердце мое раздиралось при описании ее адских мучений. Есть странные люди, которым не довольно настоящего зла, которые ищут его еще там, где нет его, которые здесь уверяли, что смерть Пушкина не тронет жены его, que c’est une femme sans cœur [136]136
Что это женщина без сердца (фр.).
[Закрыть]. Твое письмо, милая сестра, им ответ, и сердце не обмануло меня. Всеми силами душевными благословляю я ее и молю Бога, чтоб мир сошел в ее растерзанное сердце».
На третий день по отпевании Пушкина, 3 февраля, Николай I описал брату великому князю Михаилу Павловичу свое видение ситуации: «Пушкин погиб и, слава богу, умер христианином. Это происшествие возбудило тьму толков, наибольшею частью самых глупых, из коих одно порицание поведения Геккерена справедливо и заслуженно; он точно вел себя, как гнусная каналья. Сам сводничал Дантесу в отсутствие Пушкина, уговаривал жену его отдаться Дантесу, который будто к ней умирал любовью, и всё это тогда открылось, когда после первого вызова на дуэль Дантеса Пушкиным Дантес вдруг посватался к сестре Пушкиной; тогда жена Пушкина открыла мужу всю гнусность поведения обоих, быв во всем совершенно невинна. Так как сестра ее точно любила Дантеса, то Пушкин тогда же и отказался от дуэли. Но должно было ему при том и остановиться, чего не вытерпел. Дантес под судом, равно как и Данзас, секундант Пушкина, и кончится по законам, и, кажется, каналья Геккерен отсюда выбудет». Самое интересное в этом письме то, что в нем слышен голос Пушкина, используются его выражения, которые, несомненно, восходят к встрече поэта и императора, состоявшейся 23 ноября 1836 года. Император принял версию поэта.
На другой день Николай 1 написал и любимой сестре Марии Павловне: «Событием дня является трагическая смерть чрезвычайно знаменитого Пушкина, убитого на дуэли неким, чья вина была в том, что он, в числе многих других, находил жену Пушкина прекрасной, притом что она… была решительно ни в чем не виноватой».
Жуковский в эти дни обратился к императору: «Так как Ваше Величество для написания указов о Карамзине избрали тогда меня своим орудием, то позвольте мне и теперь того же надеяться». Николай 1 отвечал: «Я во всём с тобой согласен, кроме сравнения твоего с Карамзиным. Для Пушкина я готов все сделать, но я не могу сравнить его в уважении с Карамзиным, тот умирал, как ангел». Император даже сказал Д. В. Дашкову: «Какой чудак Жуковский! Пристает ко мне, чтобы я семье Пушкина назначил такую же пенсию, как семье Карамзина. Он не хочет понять, что Карамзин человек почти святой, а какова была жизнь Пушкина?»
Тем не менее Николай 1 сдержал слово и даже дал жене и детям больше, чем представлял Жуковский. Сохранилась собственноручная царская записка на этот счет: «1. Заплатить долги. 2. Заложенное имение отца очистить от долга. 3. Вдове пенсион и дочери до замужества. 4. Сыновей в полки и по 1500 р. на воспитание каждого по вступление на службу. 5. Сочинения издать на казенный счет в пользу вдовы и детей. 6. Единовременно 10 т.».
Гроб с телом Пушкина простоял в склепе храма еще два дня после отпевания. К нему приходили прощаться, служили заупокойные панихиды, на которых, помимо близких, вдруг появились те представители знати, кто не явился на отпевание, ибо они прослышали, что император взял сторону Пушкина. Наталье Николаевне приходилось принимать соболезнования и от тех, кто отнюдь не был близок Пушкину при его жизни.
Теперь ей предстояло исполнить волю покойного – похоронить его в Святых Горах, рядом с могилами близких: деда, бабушки, матери. На похороны по распоряжению царя было выдано десять тысяч рублей. Жуковский передал их графу Строганову, а тот – Наталье Николаевне. Сама она по состоянию здоровья не могла отправиться зимой в столь дальнюю дорогу, оставив детей, и хотела, чтобы в последний путь Пушкина проводил его секундант Данзас. С этой просьбой сразу же после отпевания 1 февраля Наталья Николаевна обратилась к императору. Письмо ее было передано Г. А. Строгановым графу Бенкендорфу, который в тот же день доложил о нем Николаю I. Однако император согласия не дал, так как уже начался суд и Данзас был одним из подсудимых. По согласию властей и вдовы эту миссию взялся исполнить Александр Иванович Тургенев. Ему был дан открытый лист на свободный проезд до Святых Гор. Он некогда первым встречал в Петербурге Пушкина, привезенного для поступления в Лицей; теперь он же провожал его навсегда. Около полуночи 3 февраля друзья и Наталья Николаевна собрались в последний раз у гроба.
А после полуночи траурный кортеж с телом Пушкина тронулся в последний путь. А. И. Тургенев записал в дневнике: «4 февраля, в 1-м часу утра или ночи, отправился за гробом Пушкина в Псков; перед гробом и мною скакал жандармский капитан».
Цензор А. В. Никитенко сделал 12 февраля в своем дневнике аккуратную запись:
«Жена моя возвращалась из Могилева и на одной станции неподалеку от Петербурга увидела простую телегу, на телеге солому, под соломой гроб, обернутый рогожей. Три жандарма суетились на почтовом дворе, хлопотали о том, чтобы скорее перепрячь курьерских лошадей и скакать дальше с гробом.
– Что это такое? – спросила жена у одного из находившихся здесь крестьян.
– А бог его знает что! Вишь, какой-то Пушкин убит – его мчат на почтовых в рогоже, прости Господи – как собаку».
Эта встреча произошла на станции Выра.
Шестого февраля, на девятый день по кончине, Пушкин был предан земле у алтарной стены Успенского собора Святогорского монастыря. Хозяйка Тригорского П. А. Осипова, хлопотавшая накануне обо всем, когда траурный кортеж прибыл в Святые Горы, слегла, подобно Наталье Николаевне, и не смогла присутствовать на погребении. Зато потом, зарисовав первоначальную могилу Пушкина с простым деревянным крестом, огражденную обыкновенным забором, она переслала рисунок вдове поэта.
Пушкин нашел себе вечный покой в деревне, рядом с могилами предков.
И хоть бесчувственному телу
Равно повсюду истлевать,
Но ближе к милому пределу
Мне всё б хотелось почивать.
Всё время следования траурного кортежа в Святые Горы и погребения Пушкина Наталья Николаевна по большей части провела в молитве и общении со своим духовником. 10 февраля 1837 года Вяземский писал А. Я. Булгакову: «Пушкина еще слаба, но тише и спокойнее. Она говела, исповедовалась и причастилась и каждый день беседует со священником Бажановым, которого ей рекомендовал Жуковский. Эти беседы очень умирили ее и, так сказать, смягчили ее скорбь. Священник очень тронут расположением души ее и также убежден в непорочности ее».
Вернувшись из Святых Гор, А. И. Тургенев 9 февраля посетил Наталью Николаевну, «ослабевшую от горя и бессонницы, покорную Провидению». Он рассказал ей обо всех перипетиях поездки и погребения и вручил просвирку из Святогорского монастыря, а также передал благодарность от Прасковьи Александровны за присланную ей посмертную маску с лица Пушкина.
Суд земной и суд БожийПосле возвращения А. И. Тургенева Наталья Николаевна стала собираться в дорогу.
Между тем началось судебное разбирательство по поводу дуэли между Пушкиным и Дантесом. Еще в день отпевания поэта, 1 февраля, была учреждена военно-судебная комиссия при лейб-гвардии Конном полку под председательством флигель-адъютанта полковника Бреверна. На одном из допросов, 10 февраля 1837 года, судом был задан Дантесу в числе других и вопрос о том, «в каких выражениях заключались письма, писанные вами к г-ну Пушкину или его жене, которые в письме, писанном им к нидерландскому посланнику барону Геккерну, называет дурачеством?».
Дантес отвечал: «Посылая довольно часто к г-же Пушкиной книги и театральные билеты при коротких записках, полагаю, что в числе оных находились некоторые, коих выражения могли возбудить его щекотливость как мужа, что и дало повод ему упомянуть о них в письме к барону Д. Геккерену 26 числа генваря, как дурачества мною писанные». Дав этот ответ, он тут же уточнил, что «вышепомянутые записки и билеты были мною посылаемы к г-же Пушкиной прежде, нежели я был женихом». Так нашлось подтверждение тому, что после получения мужем анонимных писем даже такое одностороннее эпистолярное сношение Натальи Николаевны с Дантесом прекратилось.
Данзасу же на заседании суда 11 февраля был задан уточняющий вопрос о причинах, «которые господина Пушкина были неудовольствием», на что тот дал следующий ответ: «Получив письма от неизвестного, в коих он виновником почитал нидерландского посланника, и узнав о распространившихся в свете нелепых слухах, касающихся до чести жены его, он в ноябре месяце вызвал на дуэль г-на поручика Геккерена, на которого публика указывала; но когда г-н Геккерен предложил жениться на свояченице Пушкина, тогда, отступив от поединка, он однакож непременным условием требовал от г-на Геккерена чтоб не было никаких сношений между двумя семействами. Не взирая на сие гг. Геккерены даже после свадьбы не переставали дерзким обхождением с женою его, с которою встречались только в свете, давать повод к усилению мнения поносительного как для его чести, так и для чести его жены».
По ходу судебного разбирательства еще не однажды всплывало имя Натальи Николаевны, но судьи, все офицеры лейб-гвардии Конного полка, люди светские, а корнет А. П. Чичерин даже родственник Пушкина, деликатно ее не тревожили. И только не принадлежавший к свету дотошный аудитор 13-го класса Маслов, состоявший при Комиссии военного суда, написал 14 февраля 1837 года рапорт, третий пункт которого касался Натальи Николаевны: «Из письма умершего подсудимого Пушкина видно, что посланник барон Геккерен, когда сын его подсудимый Геккерен по болезни был со-держан дома, говорил жене Пушкиной, что сын его умирает от любви к ней, и шептал возвратить ему его, а после уже свадьбы Геккерена, как Пушкин 27 числа генваря у графа Д. Аршиака в присутствии секунданта своего инженер подполковника Данзаса объяснил, что они, Геккерены, дерзким обхождением с женою его при встречах в публике давали повод к усилению поносительного для чести их, Пушкиных, мнения. Посему я считал бы нужным о поведении гг. Геккеренов в отношении обращения их с Пушкиной взять от нее также объяснение. Если же Комиссии военного суда неблагоугодно будет истребовать от вдовы Пушкиной по вышеизложенным предметам объяснения, то я всепокорнейше прошу, дабы за упущение своей обязанности не подвергнуться мне ответственности, рапорт сей приобщить к делу для видимости высшего начальства».
На этот рапорт отреагировал один только командующий Отдельным гвардейским корпусом генерал-адъютант К. И. Бистром, свояк Пушкина по ганнибаловской линии. В своем отношении от 11 марта он отметил, «что не спрошена по обстоятельствам, в деле значущимся, жена умершаго камергера Пушкина». Однако даже если бы судебная комиссия и решилась, вопреки этическим соображениям, потревожить вдову, то по медленности судопроизводства на это понадобилось бы несколько дней, а Наталья Николаевна через два дня после рапорта Маслова покинула Петербург, так что допрашивать было бы просто некого.
Шестого февраля, провожая Наталью Николаевну, С. Н. Карамзина в последний раз передает в письме брату свое впечатление о ней: «Бедная женщина! Но вчера она подлила воды в мое вино – она уже не была достаточно печальной, слишком много занималась укладкой и не казалась особенно огорченной, прощаясь с Жуковским, Данзасом и Далем – с тремя ангелами-хранителями, которые окружали смертный одр ее мужа и так много сделали, чтобы облегчить его последние минуты; она была рада, что уезжает, это естественно; но было бы естественным также выказать раздирающее душу волнение – и ничего подобного, даже меньше грусти, чем до тех пор! Нет, эта женщина не будет неутешной. Затем она сказала мне нечто невообразимое, нечто такое, что, по моему мнению, является ключом всего ее поведения в этой истории, того легкомыслия, той непоследовательности, которые позволили ей поставить на карту прекрасную жизнь Пушкина, даже не против чувства, но против жалкого соблазна кокетства и тщеславия; она мне сказала: „Я совсем не жалею о Петербурге; меня огорчает только разлука с Карамзиными и Вяземскими, но что касается до самого Петербурга, балов, праздников – это мне безразлично“. Я окаменела от удивления, я смотрела на нее большими глазами, мне казалось, что она сошла с ума, но ничуть не бывало: она просто бестолковая,как всегда! Бедный, бедный Пушкин! Она его никогда не понимала. Потеряв его по своей вине, она ужасно страдала несколько дней, но сейчас горячка прошла, остается только слабость и угнетенное состояние, и то пройдет очень скоро».
Итак, даже в семействе, столь близком Пушкину, осуждали Наталью Николаевну, чего он больше всего и опасался. Когда Софья Карамзина как бы требует от нее, отнюдь не притворщицы, продемонстрировать страдание или выражает недоумение по поводу вполне естественного отвращения скорбящей вдовы от Петербурга, в ее голосе, как это бывало уже не раз, слышится отзвук чужих суждений. Она не смогла понять: когда на одну чашу весов положены удовольствия от светской жизни, а на другую жизнь мужа, Наталья Николаевна в силу свойственных ей человеческих качеств, за которые ее и полюбил Пушкин, безусловно, готова была пожертвовать первыми во имя второго.
Более тонким и не столь ревнивым наблюдателем оказывается на этот раз брат Софьи Карамзиной Александр, также прощавшийся с Натальей Николаевной. Он писал: «Вчера выехала из Петербурга Н. Н. Пушкина. Я третьего дня видел ее и с ней прощался. Бледная, худая, с потухшим взором, в черном платье, она казалась тенью чего-то прекрасного. Бедная!»
Восемнадцатого марта 1837 года был вынесен приговор Генерал-аудиториата по материалам военного суда: «Геккерена, за вызов на дуэль и убийство на оной камер-юнкера Пушкина, лишив чинов и приобретенного им российского дворянского достоинства, написать в рядовые с определением в службу по назначению Инспекторского департамента. <…> Подсудимый же подполковник Данзас виновен в противузаконном согласии быть при дуэли со стороны Пушкина секундантом и в непринятии всех зависящих мер к отвращению сей дуэли. <…> Вменив ему, Данзасу, в наказание бытность под судом и арестом, выдержать сверх того под арестом в крепости на гауптвахте два месяца и после того обратить по-прежнему на службу». В отношении Пушкина суд также вынес свой вердикт: «Преступный же поступок самого камер-юнкера Пушкина, подлежавшего равному с подсудимым Геккереном наказанию… по случаю его смерти предать забвению».
Императору был представлен доклад с этим заключением, на который 18 марта наложена высочайшая резолюция: «Быть по сему, но рядового Геккерена как не русского подданного выслать с жандармом за границу, отобрав офицерские патенты». На другой день приговор был объявлен Дантесу, после чего последний был тотчас отослан к дежурному генералу Главного штаба генерал-адъютанту графу Клейнмихелю. Через несколько часов он был выдворен из Петербурга с жандармом, который сопровождал его до прусской границы. Единственным, кто видел отъезжавшего Дантеса, оказался всё тот же вездесущий А. И. Тургенев, записавший в дневнике: «Встретил Дантеса, в санях с жандармом, за ним другой офицер, в санях. Он сидел бодро, в фуражке, разжалованный и высланный за границу…»
Так закончилась история дуэли, а с нею вместе и жизни Пушкина с Натальей Николаевной. Тремя разными дорогами оставили Петербург ее участники: Пушкина увезли по Киевскому шоссе, Наталья Николаевна уехала по Московскому, Дантеса выслали по Ревельскому тракту, которым вослед ему отправится и Екатерина Николаевна в сопровождении Геккерена, тщетно пытавшегося оправдаться в глазах Николая I – ему было отказано даже в прощальной аудиенции.
Графиня Д. Ф. Фикельмон, в свое время вводившая Наталью Николаевну в большой свет, записала в дневнике: «Дантес, после того как его долго судили, был разжалован в солдаты и выслан за границу; его приемный отец, которого общественное мнение осыпало упреками и проклятиями, просил отозвать его и покинул Россию – вероятно, навсегда. Но какая женщина посмела бы осудить госпожу Пушкину? Ни одна, потому что все мы находим удовольствие в том, чтобы нами восхищались и нас любили, – все мы слишком часто бываем неосторожны и играем с сердцами в эту ужасную и безрасчетную игру!»
Жуковский по-своему подвел итог истории, в полной мере осознав ее трагизм только при разборе бумаг Пушкина, когда, вчитываясь в его письма и те, что были получены им, прежде всего от Бенкендорфа, он понял то положение, в котором оказался поэт. Сдержанный по натуре, он написал шефу жандармов письмо, исполненное благородного негодования. Подобно письму самого Пушкина тому же Бенкендорфу, оно в списках разошлось по рукам. В канун сорокоуста, сорока дней со смерти Пушкина, Жуковский прочел его друзьям. А. И. Тургенев записал в дневнике 8 марта: «Жуковский читал нам свое письмо к Бенк.<ендорфу> о Пушк.<ине> и о поведении с ним государя и Бенк.<ендорфа>. Критическое расследование действий жандармства, и он закатал Бенкендорфу, что Пушк.<ин> погиб оттого, что его не пустили ни в чужие край, ни в деревню, где бы ни он, ни его жена не встретили Дантеса. Советовал ему не посылать этого письма в этом виде…» Конспективные заметки самого Жуковского о последних днях Пушкина заканчиваются словами: «Только в семье своей убежище».
Знаменательно, как роковые дни дуэли и смерти Пушкина отмечены в церковном календаре.
День, когда Пушкин высказал слова, предрешившие дуэль, 25 января, пришелся на празднование святого Григория Богослова, архиепископа Константинопольского, получившего свое прозвание за знаменитые «Слова» о Боге Слова.
Дуэль состоялась 27 января, в день памяти перенесения мощей вселенского учителя и богослова, толкователя Священного Писания Иоанна Златоуста, прозванного так за свое красноречие. За оскорбление царского величества он был сослан в Армению, а затем в Абхазию, но скончался по пути 14 сентября 407 года. Мощи его были перенесены в Константинополь.
Канун смерти Пушкина, 28 января, когда поэт принял причастие и исповедался, совпал с днем поминовения преподобного Ефрема Сирина, гонимого в свое время поэта-пророка, чью просительную молитву «Владыко дней моих» Пушкин переложил в стихах, сопоставляя его судьбу со своей. Смерть же Пушкина пришлась на день перенесения мощей ученика апостола Иоанна, Игнатия Богоносца, оставившего после себя семь посланий. Свое прозвище он получил потому, что, как сказал на допросе, носил Христа-Бога в своем сердце. Кроме того, это была пятница, день поминовения смерти распятого Христа.
На следующий день по смерти Пушкина, 30 января, пришлась память Собора трех святителей – Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Такой праздник был установлен в 1084 году в Царьграде для прекращения спора о том, кому из них должно отдаваться предпочтение. Три святителя явились епископу, которому поручено было разрешить спор, и объявили: «Мы у Христа едино есмы, повели память нашу во един день сотворити».
Третий день по смерти Пушкина пришелся на воскресенье, еженедельное поминание Воскресения Христова. В этот день состоялся и вынос гроба с телом Пушкина в церковь Спаса Нерукотворного Образа для отпевания. Отпевали же Пушкина в день предпразднования Сретения Господня, сороковой день по рождении Христа, когда Он был принесен в Иерусалимский храм для посвящения Богу. Богоприимец Симеон по внушению Святого Духа пришел в храм и провозгласил Христа Спасителем мира. Весь день Сретения Господня, 2 февраля, гроб с телом Пушкина простоял в храме.
День последнего прощания с Пушкиным в храме Спаса Нерукотворного Образа перед отправлением траурного кортежа из Петербурга к месту последнего упокоения поэта, 3 февраля, совпал с поминовением святых Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, восхвалявшей Спасителя и говорившей о Нем всем, кто ожидал его.
Мог ли предполагать Пушкин, гадавший, на какой день придется его кончина, что сонмом самых великих святых-песнопевцев и богословов, чье поминовение пришлось на последние дни его земной жизни и первые загробной, на него прольется их лучезарный приветственный свет?
Наталья Николаевна, покидая Петербург, везла с собой список знаменитого стихотворения Лермонтова на гибель Пушкина, в окончательном виде названном «Смерть Поэта». Первая его часть от слов «Погиб поэт! – невольник чести» до стиха «И на устах его печать» была написана 28 января, сразу же после разнесшейся по Петербургу вести о дуэли. Лермонтов был в ту пору болен, и его посетил доктор Арендт, рассказавший ему о подробностях дуэли и смерти поэта.
1 февраля в церкви Спаса Нерукотворного Образа его видел П. П. Семенов-Тян-Шанский. Заключительные 16 строк были созданы спустя несколько дней после похорон в результате спора, разгоревшегося у Лермонтова с его кузеном камер-юнкером Н. Столыпиным, служившим в Министерстве иностранных дел, где состоял и Пушкин. Столыпин, подчиненный канцлера Нессельроде, неизменного противника Пушкина, встал на сторону Дантеса, утверждая, что тот не мог поступить иначе и что иностранцы неподвластны русским законам и не могут быть судимы в России.
Последние строки «Смерти Поэта» не сразу дошли до графа Бенкендорфа и Николая I, хотя уже и распространялись в списках по столице. Бенкендорф на рауте у графини Фикельмон узнал об этих стихах от Анны Михайловны Хитрово, отозвавшейся о них как об оскорбительных для всей аристократии. А императору кто-то из доброжелателей переслал их с выразительной надписью «Воззвание к революции». На самом деле Лермонтов взывал к самому государю без всяких революционных идей, что он и выразил в эпиграфе, взятом им из трагедии Жана Ротру «Венцеслав» в переводе А. Жандра:
Отмщенье, государь, отмщенье!
Паду к ногам твоим:
Будь справедлив и накажи убийцу,
Чтоб казнь его в позднейшие века
Твой правый суд потомству возвестила;
Чтоб видели злодеи в ней пример.
Лермонтовские 16 строк задевали отнюдь не всю аристократию, а только представителей возвысившихся фамилий, против кого было направлено стихотворение Пушкина «Моя родословная». Лермонтов, как и Пушкин, принадлежал к старинному дворянству, и ему был близок пафос этих стихов, задевавший наследников прославленных сподвижников Петра Великого и Екатерины II: торговавшего в юности пирогами Меншикова, денщика Петра I Чернышева, екатерининского канцлера Безбородко, перешедшего на русскую службу австрийца Нессельроде – всех тех, кто прямо обозначен в пушкинских строках:
Мой дед не торговал блинами,
Не ваксил царских сапогов,
В князья не прыгал из хохлов,
И не был беглым он солдатом
Австрийских пудреных дружин.
К носителям этих громких фамилий обращены и стихи Лермонтова, в которых подчеркнута «подлость» их происхождения:








