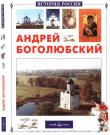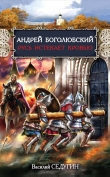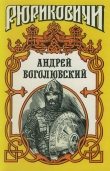Текст книги "Приступ (СИ)"
Автор книги: В. Бирюк
Жанр:
Прочая фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 21 страниц)
Он был потрясён размером, богатством, разнообразием нашей страны. Поступил ко мне в службу. Его чёрный фартук (скапулярий) вызывал доверие у католиков, ряд порученных ему миссий, в Сицилии, Апулии и Тунисе, например, были весьма важны.
Позже он увлёкся разбором архивов, хрониками, сочинительством. Его трактат «Небо славян», в котором он, цитатами из «Ветхого Завета» и трудов отцов церкви, обосновывает славянство первых людей (Ева – ляшка, Адам – вятич) и доказывает, что исторической прародиной славян является «Седьмое небо», а конкретно – пыль у правой передней ножки престола господнего, довольно известен. Винцента называют основателем панславянизма.
Как оно мне? – Ну, есть же у нас пантуркизм, панугрофиннизм, пангрекизм, пандревнеримлянизм... Давим помаленьку, чтобы от дела не отвлекали. Коли у нас «двунадесять языков под одной шапкой», то таким «панам» место в Пустоозёрске. Серьёзные-то люди семью кормят, страну строят. Им «панство» без надобности.
***
Агнешка вырубилась, едва коснувшись щекой подушки. Ещё бы: сутки такой насыщенности бывает раз в жизни, да и далеко не во всякой. А она хорошо смотрится. В митрополичьей постели. Под этим атласным красным одеялом... на белых пуховых подушках...
Стоп, Ваня. Если ты продолжишь, то по утру тебя ветер на ходу колыхать будет.
Сходил, погулял по двору. Нашёл подручного Ноготка.
Толстячок у него такой работает. Совершенно глупая, круглая, розовая мордашка. С невинными голубыми глазками. Однажды в Передуновке, когда мы поташ со стеарином делать начинали, он этими глазками рыдал и плакал. Я тогда на простецкий вид его повёлся, и сам запаха до слёз хватанул.
В этой розово-поросячьей голове имеются весьма неплохие мозги. Когда данный факт доходит до допрашиваемых, часто оказывается уже поздно – только «колоться по полной».
Промыл парню мозги: запугал дополнительно.
– Всё что ты узнаешь – смерть. Во сне, сдуру, спьяну, на исповеди вспомнил – сдох. Болезненно. Записи показал, потерял, не доглядел... яма кладбищенская – главная мечта о лучшем будущем.
И разбудил Крысю. Здоровая, дебелая дама, со сна начала ругаться. Потом вспомнила где она. И окончательно проснулась, когда я, заведя её в каморку к толстячку, объяснил:
– Ты расскажешь ему. Всё. Под запись. С пира по поводу победы над галичанами на Сане, начиная. Подробненько. Что ели-пили. Кто что сказал, кто где стоял, кто что знал. Попов-исповедников не забудь. Где ты мальчонку нашла, кто мать, кто отец, во что завёрнут был, сколько заплатила. Всё. Поняла?
При первых моих словах она вскинулась. Типа: нет, не была, не привлекалась, не состояла... Потом, уловив некоторые детали, почерпнутые мною из нынешнего разговора с Агнешкой, поняла. И сразу начала торговаться:
– Ишь ты, Крыся нужна стала. А что я с этого буду иметь?
– Немного. Мелочь мелкую. Жизнь твою. Здешний управитель мелочью такой побрезговал – вон, на забор перевесили, утром закопают.
– Кормилицу самой Великой Княгини?! Не посмеешь!
– Не посмею? Я? «Зверь Лютый»?
Поморгала своими, заплывшими от жира, белесыми глазками...
– А, ладно. Вели пива принести. А лучше вина красного. Я видала, тут есть. Горло сохнет.
Велел. Кажется, и у этой исповедь пошла. «Перемены ума» тут не случится, но для закрепления факта должно хватить. Позже и Агнешка под запись даст. Э-э-э... Не то что вы подумали – показания. Может, даже, под присягой в присутствии авторитетных, заслуживающих доверия, свидетелей.
Я не знаю кто и насколько в курсе. Думаю, что и посадник Якун в Новгороде, и братья на Волыне, и сам Подкидыш... подозревают. Но не знают. В РИ они узнали через 13 лет. Роман был уже тридцатилетним мужчиной, славным боевым князем, сидел в собственном уделе. И то – удержался только с помощью иностранной интервенции. Если сейчас на него надавить... Организовать признание Агнешки я могу громко и доказательно... Подкидышу придётся с Новгорода уйти.
Похоже, что сегодня Агнешка не только паре сотен киевлян своими страстными криками жизни спасла, но и тихим постельным разговором – тысячи жизней новгородцев и суздальцев. Дела-то тамошние всё равно решать придётся.
Обошёл посты. Я, таки, прав: ребята показали две цепочки свежих следов из усадьбы в сторону Белгородской дороги.
– Ушли – мы и не видели кто. По следам – из местных. Велено было не препятствовать. Прикажешь догнать, господин Воевода?
– Нет. Больше – не выпускать.
Завтра в Киеве будут языками звонить. Об «измене Агнешкиной». Это-то хорошо, но «перескоки» расскажут и о моём отряде. Численность, вооружение, местоположение... Как я уже переживал: если «первосортная тысяча» сюда приедет... или даже пол-тысячи...
Надежда на «разруху в головах»: не смогут быстро решиться, собраться. На «11 князей» – им пора бы город обкладывать. Или я опять чего-то в летописях напутал? Если бы тот герой не геройствовал на дороге, не хвастал, что он чистеньких любит, то я бы к закату уже имел связь с отрядами Боголюбского, поспокойнее было. А так... ждём рассвета.
Ага, ждём. Ты ещё скажи: тихо-мирно спим-посапываем.
Заскочил на огонёк в пральню. Это не там, где «прут что плохо лежит», а где «прут» что плохо пахнет. Ребята всем отрядом помылись, грязное сняли. Теперь местные бабы снятое стирают. Высохнет – штопать начнут. Если «труба» не позовёт.
Командует Гапа, резвенько так. Режим у всех моих сломался, день-ночь местами поменялись. Я вежливо интересуюсь:
– Как самочувствие? Отдохнула, отоспалась?
Молчит. Будто не слышит.
– Ты чего такая злая?
В ответ... фейерверк эмоций:
– А...! Ты...! Такой-сякой-эдакий...!
– А ну выйдем. Нечего добрых женщин задарма веселить.
Вышли.
– Ты...! А я, как дура...! Ночей не сплю...! Ночью по морозу...! В темень глухую, в пургу злую...! Голову свою под мечи вражески...! За-ради тебя на коня влезла! Ногами потёрлась, задницей побилась...! А ты...! Едва только новую мордочку углядел... лишь бы сиськи больше да задница ширше...!
– Погоди-погоди! Ты про кого?
– А! Про ту... с которой ты нынче! На весь двор! На весь честной мир! Про твою... Гавнешку Болькойславовну.
– Кого-кого?!
– Того! Про курву старую! Ты с ей... А я... Для тебя... А ты как что – так сразу... Ну-у, конечно. У меня задница не така мягкая – по твоим делам об седло бита. У меня кожа не такая гладкая, по твоей заботе на морозе морожена, у меня косы не таки длинные, по твоей воле урезаны. Я для тебя – всё! Из кожи вылезаю! Ванечка – то, Ванечка – сё... А ты...! Чуть сучка беленькая плечиком повела – кобелёк лысенький про своих и думать забыл. Побежал как на привязи.
Мда... Какой тут «сарматизм» или «дела новгородские»?! Тут женщина себя обиженной почувствовала, вот это реально забота.
– Гапа, ты чего, взревновала, что ли?
– Кто?! Я?! Кого?! Тебя?! Да ты мне и на...! Да. А что я должна подумать?! Ты с ней...! Ты её...! Вон, она на всю округу криком кричала...! Называла тебя по-всякому по-хорошему. Ты с ней – на постелюшку, а я – с бабами в пральню? Одна-одинёшенька, позабыта, заброшена...
– Гапа, уймись.
– Чего уймись?! Нет, я понимаю, я конечно против этой... груба да корява. Только, Ванечка, морщинки эти у глаз, от за твоими заботами доглядания, а что похудела, так от по твоим делам скакания. Знаешь, как обидно-то? Я-то к тебе... по слову первому... а тут... сразу и не нужна... сразу другая милкой стала... паскуда золотоволосая... Ну конечно! Она ж из благородных! Она ж княжеска роду-племени! По воду не ходила, печь не топила, кашу не варила!
– Уймись. Грудаста она или нет, бела иль черна, княгиня или смердяка... Никому с тобой не сравниться. Ни одной бабе в мире. Потому что есть у тебя такое, чего ни у какой другой нет.
– Да? И что ж это за сокровище такое у меня такое тайное? Про которое я не знаю?
– Знаешь. Только понять не хочешь. Годы наши, вместе прожитые, дела, вместе сделанные, беды, вместе пережитые, радости, вместе отпразднованные. В тебе – кусок души моей. А моё – всегда моё. Я своего – никому не отдам, в мусор не выброшу, втуне не оставлю.
Она недоверчиво фыркнула, потом хмыкнула, потом всхлипнула. Потом, обхватив меня руками, воткнулась лбом в плечо и зарыдала. Перемежая слёзы неразборчивыми выражениями:
– Ну ты ж пойми... вы там... ты её... она вся... исходит... криками да стонами... а я тут, на дворе... темно, холодно... слушаю... ей там хорошо... а наши-то кругом стоят, поглядывают, скалятся... а я столько трудов для тебя переделала... столько страхов перебоялась... у тебя баб много, а ты у меня один...
Вдруг оторвалась, спросила:
– А другие? Ты ж и в других... ну... души кусок...
– Сколь в тебя – в других нету. Да ты вспомни по годам: кто прежде тебя ко мне пришёл? По дням посчитай: кто больше со мною рядом? Иные ушли, иные отдалились. Кроме как с Куртом и сравнить не с кем.
Поразглядывала меня недоверчиво. Потом расхохоталась:
– Ха-ха-ха! Ну вот, толковал-улещивал сударушку-полюбовницу. Да и сравнил. Со зверем лесным, с волком серым. Из тебя, Ваня, бабский угодник, как из ведра коромысло.
Вдруг, неуверенно, изображая, однако, игривость спросила:
– А что ж не зовёшь? На постель митрополичью ? Иль на ту... на то... чего ты там в светлице выстроил? Что, рабыня прежняя рылом не вышла? На шёлковых простынях обниматься, под потолком целоваться?
– Гапа, какие тебе нынче обнимашки-целовашки? Ты ж сама сказала: задницу побила, ляжки постёрла. Какие тебе нынче игрища любовные?
Разочарованно протянула:
– Так-то оно так... всё тело от скачки ломит, спину не разогнуть. Но... Вот ты бы попросил. А я бы не дала. Обсказала бы, что, де, устала, делов много, голова болит... Но мне бы приятно было. А так... будто и не нужна.
– Факеншит! Я о тебе забочусь! Глупостей, тебе вредных, не предлагаю. И я же виноват!
– А ты... ты заботы-то по-уменьши. А зови... почаще. А я, как раба твоя верная, завсегда... может, и соглашусь.
И, лихо махнув подолом в темноте сеней, весёлой походкой отправилась подгонять прачек. И штопальщиц – поистрепались ребята.
Так-то, коллеги. А вы говорите Киев, Великое Княжение, Ляхи и Чахи, производительные силы и производственные отношения...
Что в речах её прорывается... м-м-м... чувство эдакой... сословной ущербности – плохо. Надо как-то поднять её... позиционирование. В смысле: в обществе, а не так, как вы подумали.
Выдать замуж за боярина? – Чего-то мне... не хочется. Да и не одна она такая. Потаня, к примеру, хоть и не боярин, а только муж боярыни, но другие мои... да и с мужиками ему легче, те к нему уважительнее. Терентию чаще приходиться подчинённых мордой лица пугать да рявкать. Иной раз – лишне.
Чарджи – инал, Марана – ведьма. Их и так... уважают. А вот остальным... Не оснастил своих подчинённых функционально бесполезным, но технологически эффективным атрибутом: сословной превосходством. Не потому, что оно существует, а потому, что туземцы так думают.
Как здешние бояре плохо воюют без князя, так и простолюдины менее эффективны без боярина. Отсутствие лейбла у начальника сказывается на производительности подчинённых.
Надо бы им боярское достоинство раздать. Или правильнее – в него произвести? Шапки-то пошить есть из чего. Вотчины давать не буду. Были же на Руси служилые бояре?
Только... ярлычок должен быть выдан «авторитетным источником». Как цифровой сертификат. На «Святой Руси» – князем. Хоть каким, но рюриковичем. Боголюбского, что ли просить? Или Живчика? – Плохо. Безземельный боярин – чей-то. Кто ему шапку дал – тому и присягу принёс. Люди мои станут вассалами Боголюбского. Не моими. Нехорошо. Надо тут чего-то... уелбантурить.
Проблема с раздачей боярства решилась сама собой. Точнее – Боголюбским. Совершенно неожиданным для меня образом. Впрочем, что Андрей – завзятый инноватор, я уже... По возвращению во Всеволжск я вполне законно «надевал на...» – в смысле: шапки, и «вводил в...» – в смысле: в достоинство. Агафья оказалась снова первой. Первой на Руси женщиной, которая стала боярыней не по мужу, а сама.
Конец сто десятой части
Часть 111. «И что нам прикажут отцы-командиры, Мы туда идём – рубим, колем, бьём!...»
Глава 555
Я ожидал возвращения разведчиков часа через два после рассвета, но едва дошёл до порога опочивальни, едва в сумраке лампадки вновь увидел разметавшуюся по митрополичьей постели в неспокойном сне мою свеже-сделанную рабыню, «тёлочку двуногую царских кровей», как услышал вопль вестового:
– Господине!
мгновенно захлебнувшийся при виде отрывающегося от порога зрелища и перешедший в шёпот:
– На постах гомонят, факела светят.
Пришлось вернуться к трудовым будням.
Резервная группа из отдыхающей смены караула выдвинулась к месту нарушения. Тревоги мы не объявляли, но, с немалым удовольствием, я наблюдал, как отдохнувшие и отоспавшиеся бойцы и младшие командиры самостоятельно привели себя в состояние «готовности к объявлению готовности».
Факеншит! Что непонятно?! Вы ж знаете:
– Через два часа будет объявлена внезапная тревога! Всем спать! В сапогах.
Во двор въехала довольно многочисленная группа: моя разведка и с десяток чужих. Одного я вспомнил: из тех гридней в охране Боголюбского, которые как-то пытались меня арестовать по его приказу. Репрессий за проявленную тогда охранниками разумность Андрей не устраивал. Дядя, похоже, на повышение пошёл.
– Десятник князя Суждальского Андрея Юрьевича. Дякой прозываюсь. Велено передать на словах: приезжай.
– И всё?
– Ну. Одно слово.
Боголюбский. Его «кавалерийский» стиль. В седле грамотки сочинять времени нет. Зачем, почему... Команду получил? – Исполняй. Чего тут думать?
– Давно трапезничали? Накормить воинов.
– Не... нам назад велено спешно...
– А я тебе не разносолы да постель пуховую предлагаю. Накоротке, чем бог послал. Да и коням отдохнуть надо.
Дяка покрутил головой, никак не решась, и услышал звонкий голос Гапы от поварни:
– Эй, Воевода, так шти греть? Или ветчиной монастырской перекусите?
Молящие глаза его бойцов, враз размечтавшихся о «монастырской ветчине», окончательно добили Дяку.
– Ага. Но токо... чтоб не долго.
Что значит «недолго»? Пива монастырского попробовать надо? Все шесть сортов? Ладно пиво – монастыри на «Святой Руси» есть, может, ещё когда доведётся. А вот вино, митрополиту привезённое, с самого патриаршего виноградника, это – «в жизни раз бывает». И вовсе не во всякого гридня жизни.
За полчаса «перекуса» успел и с разведчиками потолковать: что видели, и с Дякой парой слов перекинуться. Охрима с командой собрать, князьям подарочек к седлу приторочить...
Ночью ехали – пара вышгородских в команде, дороги здешние хорошо знают. Войско союзников-князей наконец-то сдвинулось: вдоль стен посланы отряды перекрыть пути из города. Ночью, внезапным налётом, заняты северо-западные предместья: Коптев конец, Гончары, Кожемяки...
– Подол, вроде, не трогали. Посылали, слышал, дружину в Печеры. Да-а... А правду твои говорят, Воевода, что ты Великому Князю голову ссёк?
– Правду, Дяка. Вот, в торбе у седла едет.
– Да-а... Не слыхивал такого прежде. Чтобы хоть кто в одиночку Великого Князя завалил. Видать, сильно щастит тебе Богородица.
– Царица Небесная абы кого платом своим не покроет. Ладно, просьба у меня к тебе. Сам видишь: робята мои и годами молоды, и одеты непривычно.
– Эт да. Безбороды да бедноваты. И лицы босы, и узды голы. Ты б им хоть доспех какой дал. А то порежут всех, в серьмяге-то застиранной.
Простое светло-серое полотно на кафтанах моих гридней, принятое у нас для зимней формы одежды, воспринимается русскими людьми как застиранные, заношенные от бедности, рубахи смердов. Что кафтан – трехслойка, со стороны не понять, только знающему человеку, которому известно куда и на что смотреть.
Отсутствие висюлек, накладок на узде, седле – однозначно определяется как бедность, серость. Соответственно: «деревеньщина-посельщина». Глупая и небоеспособная. Пнул, чтобы под ногами не толклись, и дальше пошёл.
– Шапки ваши... чудны сильно. Не по уму пошиты – ухи голые, маковки высокие. Мечи-то длины, да худы. Поди, с одного удара позагнутся.
– Почему?
– Дык... был бы меч хорош – были б и ножны изукрашены. А то... Рукоять-то... плетена хитро, а в руку не взять. Про тя, Воевода, сказывали, что ты богат сильно. А я гляжу – твоего богачества только на остроги и хватило. Таки звёздчаты один сын Андреев ездиет. А ты своим всем... Не по чину. И не по уму: наши-то остроги куда как лучьшее да прощее.
– А про коней что скажешь?
– Кони-то... Добрые кони. Наши-то получше. Но и твои добрые. Однако ж молодяты твои за конями ходить не умеют, оголодали кони-то, поизбились, истощилися. Ты б своих-то... ну... уму-разуму поучил. Хотя...
– Чего «хотя»?
– Дык... не в обиду будь сказано, но ты, видать, и сам... За своим конюхом доглядеть не можешь. У тя и твой-то конь...
Вот оценка моего воинства опытным, неглупым – Боголюбский в десятники дураков не ставит, доброжелательным русским гриднем. Сложный эфес палаша, например, воспринимается как глупое и вредное позёрство. Поскольку «его в руку не взять» – не обхватить пальцами в кулаке. А какая иная может быть реакция профессионала при беглом взгляде со стороны, когда здесь ничего сложнее сабельной дужки не видали? Человек видит то, что он ожидает увидеть.
Нет, потом-то, посмотрев в бою, покрутив в руках, примерив и проверив...
Вывод? – Первый враг умрёт от презрения. К бедности да «вшивости». Второй – от непонимания. А уж третий-четвёртый – от превосходства оружия и выучки.
Насчёт коней он прав. Коней после спешного марша надо недели две в форму приводить. Но полевая, конная битва нам пока не грозит.
Оценка понятна. Теперь просьба:
– Всё ты внятно рассказал, Дяка. Пожалуй, и другие в княжьем войске тако ж думать будут. Так что, ты обскажи там своим. Чтобы не трогали моих, не задевали.
– Сказать-то – дело не хитрое, да только...
– Потому как мои выучены на худое слова не отвечать. А на щипок-пинок – бить. В силу.
– Дык вели, чтобы не били. Чтоб вели себя как и положено молодшим.
– Неукам сопливым?
– Ну, вроде. Старших слушать, за науку благодарить, кланяться. Ни чё, с поклона не переломятся, от спасибо не надорвутся. А и съездит муж добр по шее, так на пользу, в научение.
– Вот и я про то. Моим людям, Дяка, кланяться дозволено только иконе, могиле да родной матушке. За иному кому – наказание. А ваши, по обычаю своему, посчитают дерзостью, гордыней. Начнут заставлять да нагинать.
– Эт да. А как же жь иначе? Муж добрый, бывалый, смысленный. А тута мимо сопля така тоща вышагивает, нос задравши...
Вот поэтому я и повёл отряд не обжитыми местами, не по Десне, а Степью пустой, снегами заметённою.
– Об этом и речь. При попытке «нагинания» мой вой не то что право имеет, а обязан. Обидчика убить.
Дяка ошарашенно посмотрел на меня.
– Об этом я и толкую. Мне вашей крови не надобно. Так что... обскажи.
– Ты... эта... Боголюбский велел свары в лагере не творить. Казнить зачинщиков обещался.
– С Боголюбским – мне говорить. А тебе – с суздальскими. Лучше чтобы ваши к моим на три шага не подходили, в их сторону и не смотрели. Понял?
– Ну... О! Гля!
От дымящегося на холме Коптева конца нам навстречу, в мах по заснеженному склону, понеслась полусотня всадников.
– Наши. Северские. Погодьте тута.
Дяка выехал вперёд, поднял руку ладонью вперёд. Как вчера делал гридень Жиздора перед нами на дороге у Вишенок. Потолковав немного вернулся, показал рукой:
– Вона тама объедем. Под стенами худо. Очухались крамольники, стрелы кидают.
Присоединившийся к нам парень из чуть не напавшего на нас отряда восторженно рассказывал, как они ночью тихохонько подошли, тайком влезли...
– А там нету никого! Вот те хрест! Одни старики да убогие!
– А чего запалили, коли боя не было?
– А чтоб знали! Что наша взяла!
Мда... Логично.
– А чего ж не дожгли?
– Дык... снег же! Не разгорается! Почадит и погаснет.
И это верно.
Видимо, так чудесно спасся от пожара Печерский монастырь, как описано в летописи. Чудом милости божьей, истовой молитвой игумена Поликарпа. И общей мартовской сыростью.
Мы проехали чуть дальше, пахнуло чем-то особо противном... и до боли знакомым. За очередным подъёмом Сивко вдруг встал. Остановленный внезапным рывком поводьев.
Не сдержался.
Это же Гончары! Несколько под другим углом, но вид на «огороду Ярославову» мне знаком. Вон там должен быть тот яр, по которому я лошадь под уздцы тащил, а сзади бежала Юлька и, то крестилась и в землю кланялась, то подгоняла и в спину пихала.
Какие... родные места. Аж душе больно. Как давно это было, как много чего с тех пор случилось... А всего-то девять лет. Глупый, наглый, абсолютно бестолковый малёк, воображающий себя пупом земли, «зрячим среди слепых», слабенький после линьки, самоуверенно лез в гору, даже не представляя – что его там ожидает. Что его там будут продавать, холопить, мучить, трахать, учить, убивать... Что оттуда придётся убегать. Для удобства собственной смерти. Что спасительница моя, Юлька-лекарка, суетливая работорговка, там и останется.
Эх, Юлька... Добежала, успела. Теперь лежит-отдыхает. Вечно.
А не отдать ли мне последний долг своей спасительнице? В смысле: проведать могилку одинокую.
– Заедем.
В посаде выбиты ворота в ограде, завалено несколько заборов, намусорено на улицах. Но ни серьёзного боя, как в соседних Кожемяках, ни вялого густого чёрного дыма, как в Коптевом конце – не было. Похоже, что основная масса населения сбежала отсюда ещё после боя на Серховице. Кожемяки – мужи здоровые да злые, уходить в город не схотели. Вот и бились с полоцкими да со жмудью. А здесь тихо-мирно овруческие – дружина Рюрика Стололаза – вошли в пустое селение и грабят неторопливо.
Я объехал посад. Вот тут, у ворот, Фатима, изображая из себя торка с торчёнком, ругалась с местной стражей. Торчёнком был я, а она, на смеси русского и печенежского, объясняла стражникам: «Русский баб карош – белый, мягкий. Муж дома нет – баб горячий. Русский страж – дурак. Торк домой идёт – беда нет. Открывай. Нет открывай – беда, рубить буду».
Тогда открыли. А нынче воротины просто снесли. Порубили топорами и дёрнули. Видать, со стены никто и не вякал.
Вот и памятный двор. Мусор, черепки, печь гончарная брошенная. Мы через неё вылезали. Фатима цыкала, заставила пить бормотуху какую-то. Для запаха. Я так тогда боялся... что меня как Юльку... Придавят. Отравят. Живьём закопают... Так боялся, что устал. И уже не боялся, а просто тупо, как бычок на привези, шёл на убой.
Не шёл – бежал. Подгоняемый моей охранницей, у которой мужская одежда, сабля на боку, имитация чужой гендерной и социальной роли, «запах свободы»... снесли крышу.
Одуревший подконвойный со сбрендившим конвоиром.
Пока Фатима со сторожами ругалась, я тогда по сторонам смотрел – как же от этих ворот до той хитрой печи заброшенной добраться? Чисто сам себя отвлекал. Чтобы не завыть от тоски безнадёжной. Вовсе не в смысле: вот останусь я живой, вернусь сюда, тут-то оно мне... Ни остаться в живых, ни, уж тем более, вернуться...
Человек предполагает. А судьба... поворачивается. Разными сторонами. Вот, довелось вновь на это место поглядеть. Сколь многое должно было случиться, всякого разного совпасть, чтобы я снова... полюбовался на эту печку брошенную.
Забавно, а она, вроде, не изменилось. У меня в жизни... всё совсем... А глина обожжённая как стояла так и стоит.
Вон там, слева, кусок, вроде, сверху вывалился. Тогда она ровнее была. Мусору добавилось: из под снега кадка сломанная выпирает. Свежего барахла подкинули. Тряпка валяется. То ли утиральник бывший, то ли портянка... Местные, судя по следам, к печке не ходят.
В каждой приличной крепости должен быть подземный ход. В Киеве их, наверняка, несколько. Но вывести внешний конец в брошенную гончарную печь... И я эту печку вижу. Интересно: а как там внутри? Может, засыпали-перекрыли?
– Господин воевода, ехать надоть. Князь ждёт. Сердиться будет.
– Хорошо, Дяка, поехали.
Через полчаса мы въехали «в расположение объединённого штаба коалиции русских князей». Здоровенная усадьба какого-то боярина, чуть дальше ещё две поменьше, внизу, в лощинах, с сотню крестьянских изб в нескольких группах. Всё пространство набито суетящимися людьми, пешими и конными, ползущими возами, ругающимися обозниками.
– Ростовские пошли.
Дяка не помахал ручкой, даже не кивнул, хотя, наверняка, знает кого-то в проходящем отряде. Хмуро объяснил:
– Гонористые сильно. Ростов, де, Великий. В земле Залесской – первый город. Мы, де, княжеские исконно. А вы там – владимирские, лапотники, брысь с дороги. Или ещё чего обидного.
Мда... Ежели люди одного князя между собой так, то как же выглядит взаимодействие отрядов разных князей?
Я предполагал, что появление моего отряда не обойдётся без скандала, но не ожидал, что так скоро.
Подъехали к центральной усадьбе. Ворота настежь, но внутрь верхом нельзя. Коновязь внутри, а вдоль забора на сотню шагов в обе стороны в растоптанном, перекопытченном снегу стоят или сидят на корточках коноводы.
Дяка своим ещё на подъезде рукой махнул, они в сторону приняли, в деревню, где их отряд стоит. Подъехали к воротам, Дяка поздоровался со старшим воротников, кивнул в мою сторону:
– К князю зван.
Тяжело слез с коня, отдал повод подскочившему отроку.
– Пойдём, Воевода. Как-то нас встретят...
– Пойдём. А моим куда встать?
Дяка окинул взором ряд лошадиных задниц и махнул рукой:
– Тама вон, с краю.
– Тогда погоди.
Я повернул Сивку, и мы проехались вдоль забора до края линии конских анусов.
Почему я с охранниками моими? – «Отправляясь в дальний путь – ты пописать не забудь» – русская народная мудрость. А уж на встречу с вышестоящим...
Из здешнего опыта хорошо помню поступление в прыщи смоленские. Один из соискателей тогда пролетел. По причине переполненности мочевого пузыря. «Дядя! Пи-пи!». И «шапка» отодвинулась на год. Нет уж, топтаться и перетаптываться пред очами самого... неудобно будет.
Я с чувством глубоко удовлетворения, ощущая нарастающую лёгкость на душе, общую эйфорию освобождаемого от гнёта жидкости организма, поливал забор усадьбы, когда сзади донёсся резвый хлюп конских копыт по снегу, и чей-то хриплый с перепою голос издал команду:
– А ну уходь с отсюда! Это наше место!
«А в ответ – тишина».
Я и вправду настоятельно советовал моим в беседы с неизвестно кем не вступать. Во избежание... Ну, вы же знаете, ОБЖ: в лифт с незнакомцами не входить, в распред.щит не влезать, без акцизной марки не наливать...
– Да вы чё? Ухи поотмораживали? Я те русским языком сказал: пшёл отсюда, щенок!
Команда у меня десять человек: я, Сухан, мальчишка-вестовой, Охрим, четверо латников да двое лучников. Охриму да Сухану под тридцатник. Остальным 17-19. Выглядят... Дяка прав: нищие сопляки с понтами и потугами.
Крикун – дебелый дядя, с красной мордой, бородой лопатой, в распахнутом полушубке под которым что-то... крапивного цвета. Бывшее дорогим платьем в далёкие времена. Меч на поясе. Слуга чей-то. Видать, послали вперёд, чтобы место на парковке заранее занял.
Парни дело делают: подпруги ослабляют, поводья подвязывают. На крикуна – ноль внимания. Тот в крик. И – в атаку. Ка-ак перетянет ближайшего по спине ногайкой. У бойца полотно на кафтане – тресь. Был бы парнишечка в рубашоночке – лёг бы. Да и после ещё пару недель на каждом шагу к спине прислушивался. А так, сквозь панцирь... толкнуло.
Дядя такого неэффективного эффекта не ожидал. Подъехал, ударил и смотрит. Удивляется с протянутой рукой. А парень с разворота цап его за рукав. И с седла сдёрнул.
Лошадка дядина фыркнула и шага на три отошла. Типа: этот дурак не с меня выпал. Дядя лежит-ошалевает. Не разбился, а взболтанулся. Когда в черепушке одна мозговинка болтается, да и та похмельная – при встряхивании контакт с реальностью восстанавливается. Но не сразу.
В полушубке на снег со здешних невысоких лошадок сверзиться не больно, сам проверял неоднократно. Вообще, выпадание с седла – и стоя, и на скаку – обязательный элемент подготовки конника. Как для борца падение с отбоем.
Боец дядю за рукав дёрнул, на спине развернул и отволок в сторонку, на дорогу. Тот возится, как черепаха перевёрнутая. Мои хихикают негромко, я с седла торбу с головой Жиздора снимаю. Тут дядя перевернулся, помотал головой, стоя на четвереньках, вдруг вскочил, заорал и кинулся. На обидчика. С мечом в руке.
Тот спиной стоял, оголовье коню поправлял. Но когда напарник крикнул:
– Сзади! Меч!
успел.
Успел выдернуть палаш, успел развернуться, успел в сторону отшагнуть. А дяде... после падения, по истоптанному конями снегу, с бельмами налитыми... Меч мимо груди моего бойца прошёл, в забор воткнулся. А палаш вошёл дяде в пупок. И вышел. Аж под левой лопаткой.
Постояли они так, мало что не в обнимку, у дяди коленки подогнулись и он с палаша съехал. Навзничь.
Парень стоит, смотрит ошарашенно на свой клинок: почти весь в крови, только у гарды на ладонь чисто.
Да уж, блин уж... Только приехали... «Первая кровь».
"Сронил вдруг кровищу с калёна клинка.
Проткнулось сердечко врага-дурака".
– Молодец. Засчитываю. Клинок оботри. Вон, хоть шапкой его.
Тут, с соседнего «парковочного места», крик:
– А! Убили! Земелю зарезали!
Ворота на горке, от них небольшой спуск. Там стоит Дяка, в нашу сторону глядит, меня поджидает. И вот, на этой сотне шагов , из под каждой лошадиной задницы, под брюхами, поверх спин, из-за конских морд – вылезли морды человеческие. Посмотреть. Их тут с полсотни.
Народец... так себе. Отроки, слуги. Поглазеют да перестанут.
– Охрим, двоих. Собери торбы. Попробуем овсом разжиться.
Я уже говорил: коней после такого марша надо откармливать. А овёс лошадке гостя не дать – словно самого гостя голодным оставить, на Руси такое не принято.
Наверху, у ворот какая-то возня, там группа верховых подъехала, чего-то балабонят с пешими, в нашу сторону руками машут. И, факеншит!, воздев к небу обнажённые мечи, скачут на нас!
– К бою!
На коней – не успеваем, подпруги отпустили. Ни щитов, ни копий.
Как всегда: как Ванечке жениться – так и ночь коротка.
«Никогда Россия не вступала в войну, будучи готовой».
Что я и демонстрирую личным примером. Хорошо хоть шнурки гладить не надо. В виду наличия отсутствия.