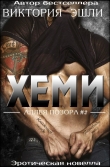Текст книги "Косьбище"
Автор книги: В. Бирюк
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 24 страниц)
Если нельзя вернуть душу в рамках Велесовой концепции, поищем что-то другое. Теоретически гипнотическое воздействие на психику должно сниматься аналогичным образом. По опять же русской народной: "клин клином вышибают". Ну и где мне найти такой "клин"? Чтобы, как говорят по науке – восстановить его личные этику с эстетикой. Они же у него внутри осталась, только сильно заблокированные. Как бы мне какой такой крючёчек-буравчик придумать, чтобы ему в голову залезть и оттуда прежнее состояние вытащить? Ну не по черепу же его обухом бить? В надежде на "возрождение после проломления". Может, его просто сильно утомить? Пытка бессонницей – одно из самых сильнодействующих средств. Активно применялось в работе НКВД и Гестапо. Сводит с ума, ломает стереотипы поведения, смещает границы допустимого и систему ценностей. Не хуже, чем пытка жаждой. И убивает примерно так же – за неделю. А в небольших дозах... "Всё что нас не убивает – делает нас сильнее". Ага, расскажите это язвеннику. Которого резекция большей части желудка не убила, а сделало сильнее. В части поедании всего протёртого, проваренного, безвкусного.
Насчёт переключения психики в результате сильного утомления – это я не просто так, это из личного опыта. Как-то давно, в той ещё, в прошлой жизни, отмечали Новый Год. Тихо, семейно. Позвали только приятеля одного. А тот и шиканул – выкатил свою коллекцию молдавских вин. С этим продуктом... мало знать – как называется то, что ты пьёшь, надо ещё знать всех участников технологической цепочки. Кто растил, кто давил, кто выдерживал, кто бутилировал. Чья конкретно смена укупоривала, и не было ли у кого из них сильного семейного праздника незадолго до того. Сами понимаете, розлив произведённый в понедельник – не рекомендуется.
Как раз этот случай и имел место быть. В том смысле, что приятель их всех знал. Ну, попробовали. Я-то обычно крепкие употребляю – водку или коньяк. А тут не удержался. Что сказать – вкусно. И интересно. Жена бой курантов послушала и спать пошла. А мы с приятелем... До полного исчерпания объектов дегустации. Часов до восьми утра. Потом – он домой, я к жене под бочок. И через пару часов – подъём. У нас на 1 января гости запланированы. "Кто ходит в гости по утрам – тот поступает мудро". Наверное. Если это не утро дня, следующего за общенародным праздником в России.
Короче, поднять меня – она подняла. Даже разбудила. Но у меня в голове напрочь отпал русский язык. Натурально – напрочь. Как корова языком.
"Мой родной, навек любимый.
Где ж найдёшь ещё такой"
Я же им думаю! А тут... Понимать – понимаю. А ответить не могу. Просто губы не складываются. Только – английский. И внутри, и снаружи. Жена сперва хихикала, потом поняла – кранты семейной жизни. Она же меня не понимает, она же в школе немецкий учила. И вообще, замуж-то она выходила за соотечественника, а не за это... "их бин нихт ферштейн". Тут она смеяться перестала, стала думать. Как спасти семейное счастье. Я уже говорил, что у меня жена очень умная? Как там, в народной мудрости сказано: "глупый хвастает молодой женой"? А если она такая молодая, что ещё и не родилась? И если я ей хвастаюсь за восемь веков до её рождения, то какой же у меня уровень дурака? Кретин идиотический? Так вот, я, может, и дурак. А она – нет. В смысле – не дурак. Женщина вообще дураком быть не может. Просто по русской грамматике.
Моя умная супруга нашла простое и эффективное решение: стакан водки. Нашей, отечественной. Конкретно – "Столичной". Я подношение принял, поблагодарил чисто по-лордовски, на ихнем же, типа туманном и непрожёванном. Накатил, корочкой занюхал, поинтересовался насчёт продолжения и закуски. На нормальном родном. Даже не на строительном. Стакан "Столичной" против всего ихнего лордства... – вмиг перешибло. Не скажу – на каком именно глотке, но к донышку... "Эх мать-перемать, будем петь и плясать...". Жена обрадовалась, кинулась целоваться. Правда, не долго – погнала по домашним делам.
Мораль: глубокое утомление позволяет проявляться неочевидным свойствам личности. Гипотеза: если довести зомби до полного нервного истощения, то он станет человеком. А какие ещё другие неприятности могут случиться с "живым мертвецом""? План эксперимента... Тут надо подумать. А чего думать? Вон "хоромы с перекладиной" стоят. Пусть подтягивается. Не "до не схочу", а до "не сможу". Как в армии.
Наши с Суханом маневры не остались незамеченными аборигенами. Хозяйка с поварни погнала молодку Кудряшкову узнать – в чем дело. А я как раз пытаюсь заставить Сухана меня правильно на перекладину повесить. Чтоб подсадил – надо же салаге технику показать. Личным примером. Ага. А перекладина-то – высоко, и толщиной – явно не под мои ручки-ручёночки. Сухан отошёл – я слетел. И узелок с княжниными цацками у меня из-за пазухи мимо горла – на траву. Прямо молодке под ноги. Факеншит.
Белка там в дупле ремешок прожевала до последней нитки, а я с испугу тогдашнего и не посмотрел. Ремешок лопнул, узелок развязался, золотишко просыпалось. Прямо молодке к подолу.
"Дом хрустальный на горе для неё.
Сам, как пёс бы, так и рос в цепи.
Родники мои серебрянные,
Золотые мои россыпи!"
Россыпи – золотые. А вот в остальном – не мой случай. Мой случай – факеншит два раза.
– Ой, а что это?
– А ты что, не видишь?
– Так это же золото! С каменьями! Ой, а откуда это?
Не врать, не выдумывать. И правды не говорить. Всей правды. А то такой звон пойдёт... Из стольного города люди добрые приедут и голову оторвут. Мне. Мою.
– В лесу нашёл. В дупле берёзовом. Там ещё белка была – видишь, ремешок погрызен.
– А в каком лесу? На нашей земле?
– На нашей. На Рябиновской. Вашей земли тут больше нет. Весь ваша на нашей земле стоит. Аким грамотку жалованную посмотрел, вирник подтвердил. И "Паучья" и "Пердунова" веси на Рябиновской земле стоят. Ты лучше завязку дай, узелок завязать.
Убежала. А вот вернулась не только со шнурком, но и с хозяйкой. "Перунова жёнка" то смотрела по-волчьи, а теперь пытается улыбку изобразить. Умильную. Кривовато получается.
– Мальчик, покажи-ка, что у тебя в узелочке.
– Чего показывать-то? Я что, девка красная, чтобы прикрасами красоваться? Или купец-продавец, чтобы раскладывать да нахваливать. Лежит себе и лежит. А вы там дела делали? Вот и дальше делайте.
Ушли. Ох, как нехорошо. Пойдёт теперь молва. С довесками да с присвистами. Одна надежда: так приврут, что умные люди и не поверят.
И чего делать? Мозги себе не морочить. "Будет день – будут песни". Или будут, или нет. Как сказала блондинка по поводу "встретить динозавра в Нью-Йорке": "Вероятность – 50%: либо – встретишь, либо – нет".
Я продолжал нагружать Сухана. Интересная картинка получается. Во время первой Чеченской войны было зафиксировано несколько случаев странной амнезии. Несколько человек были вытащены "Взглядом" в разных местах с общим нарушением: потеря личной памяти. Профессиональные навыки сохраняются, а памяти о себе нет. Один их психиатров-комментаторов привёл тогда простой пример: человек помнит географию за 8 класс. А вот кто рядом за партой сидел – нет.
Идеальный работник получился: функциональность сохраняется, а персональность – отсутствует. Тогда было много шума и насчёт чеченских работорговцев, и насчёт российских спецслужб. Парень, который из "Взгляда", который клялся в камеру, что он это дело раскопает... Не, он живой. Где-то в Приморье оказался, кем-то чем-то работает. А коллеги его, которые не так сильно своё правдоискательство демонстрировали... Кто в земле, кто на теплом месте. А расследование затихло. Перешло в разряд "НЛО" – непонятно-летально-опасных.
У нас тут прямо наоборот. Но результат – сходный. В том смысле, что полная доступность памяти обеспечивается. Сухан помнит всё. Оказывается, человек помнит себя во внутриутробном состоянии. Забавно. И рождение своё помнит. А вот это, судя по вспомненному, – совсем не забавно. Помнит картинку свадебного поезда своего сотника, может посчитать, сколько косичек было заплетено в гриве коренника тройки, которая везла молодых из церкви. Но любые выводы – отсутствуют. Оценки – отсутствуют напрочь. "Лошадь хорошая была? – Лошадь была гнедая, шестилетняя, кована на все копыта, круп лоснится...". От чего лоснится? От доброго ухода или маслом намазано?
Память есть, личности нет. Ни молотилки, ни этики с эстетикой. Отсюда отсутствие самостоятельного целеформирования. Вплоть до фундаментальных вещей: чувство голода – чувствует. А пойти поесть – сам не может. Тяжесть в прямой кишке чувствует, но процесс дефекации – только под диктовку. Цепочки, последовательности действий для достижения даже извне сформулированной цели – только по показанному образцу. Типа: заседлай лошадь – не может. Хотя всё помнит и подробно рассказывает. А когда потом я ему его же слова повторяю как команды – без проблем. При повторе воспринимает уже команду на весь блок действий: "заседлай лошадь" – заседлает. Но убери потник из поля зрения – встал столбом. Выполнить седловку не может, потому что упряжь некомплектная, провести поиск отсутствующей части – не может, потому что команды не было. Сигнализировать о возникшей проблеме не может, потому что для этого нужно оценить ситуацию и принять решение. А у него все эти функции волхвы заблокировали напрочь.
Впрочем, пример, наверное, несколько неудачный: сколько моих современников из третьего тысячелетия смогут заседлать лошадь? Даже при пошаговых командах?
Я как-то раньше с зомбями не работал. То есть, всем, конечно, известно: пол-России зомбировано на прокладки "Олвейз", пол-России – под ВВП-плюс. Но вот когда это так конкретно...
Ладно, отставили психиатрию, взялись за физкультуру. Главная проблема: потеря реакции на болевые ощущения. Я его на сотне подтягиваний остановил. Сухан с перекладины слез, а у него руки дрожат.
– Руки болят?
– Болят.
– А почему не остановился?
– Ты сказал: "до не сможу".
Получается, он будет исполнять команду пока не умрёт. Вот только этого мне на мою голову не хватало. "Ну-ка, молодой господин, поработай-ка инстинктом самосохранения у слуги своего. Бездушного и безмозглого".
Это как-то охладило мой пыл насчёт поднятия тяжестей. "А проверим-ка силушку богатырскую. А подымет ли, добрый молодец, колоду дубовую? А две?". Он-то попробует. Только если у него грыжа выскочит, или, не дай бог, инсульт? Значит так: непрерывные тренировки с постепенным, очень постепенным и контролируемым увеличением нагрузок. По разным группам мышц. Ну почему я в физкультурный не пошёл?! Испугался что будет "Тело как улика" в варианте "Милый друг"? Вот ещё один прокол сообщества попаданцев. Валятся в прошлое, где человеческое тело – один из самых важных инструментов. И как оружие на войне – танков же с самолётами нет. И как главное орудие трудового процесса в мирное время. Ведь ни экскаваторов, ни подъёмных кранов – всё "на пупок" брать. А толкового тренера – ни одного.
– Глава 75
Я все порывался проверить прыгучесть с "бегучестью", но тут пришли косцы. Шесть мужиков, во главе – сам дед Пердун. Ох, как он это прозвище не любит. Перун – из "бригадиров". Ни в смысле жаргонно-криминальном, ни в смысле индустриально-колхозном. А в смысле русско-литературном. Была такая книжка в 18 веке: "Бригадир". В империи дослужившихся до чина полковника или его гражданского аналога согласно Петровской "Табели о рангах", отправляли на пенсию с присвоением следующего чина – чина бригадного генерала. Вот таких отставников и звали "бригадирами". Формально Перун – сотник в отставке. Как и Аким Рябина. Только Аким не один год свою сотню в бой водил. А Перун всю жизнь был десятником. Сотника получил вместе с надельной грамоткой. Разница видна и на слух слышна. А ещё, что мне по глазам бьёт, Аким – лучник. А Перун – латник. Мечник, копейщик, топорник... хоть пеший, хоть конный – от лучника сильно отличается. Один врага должен за двести шагов углядеть, за сто – уложить. А у второго – враг на длину копья. Или – вытянутой руки. Под разный бой мужики заточены. Да что бой – бой не каждый день бывает. Вся выучка у них – пожизненная, каждый день, с детства – разная.
Совсем разные типы, ходят по-разному, говорят по-разному. Выглядят по-разному. Аким – чистенький, аккуратненький. Пока не начинает рушничок жевать для слюни метать. В нормальном состоянии, пока со мною, грешным, разговаривать не начнёт – нигде ничего не висит, не болтается. А у этого – на опояске какая-то дребедень, рукава разные, морда вся порублена. Мелочь, конечно. Кто какие шрамы на куда получил – дело случайное. Но случайность есть выражение закономерности. Лучнику зверский оскал – от старшего по уху получить, латнику страшная морда – врагов пугать. Лучник в бою молчит, латник – рычит. Аким, когда злится, нос задирает, голову вверх тянет. Чтобы обзор лучше был. Как петушок. Этот – наоборот: чуть приседает, голову втягивает. Как волк. Матёрый волчара перед броском. Латнику тянуться, растопыриваться – только лишнее поймать. Где-то попадался текст о работе противотанковой батареи 76-миллиметровых орудий при разгроме Квантунской армии. Там чётко описана разница между ветеранами, попавшими в батарею после войны на западе, и местными. Подносчики снарядов, прошедшие западный фронт, перемещаются только на полусогнутых. Чтоб из-за орудийного щита видно не было. А местные, хоть и отслужили всю войну в линейной части – на прямых ногах, в полный рост. До первого боя.
Что общего – оба из "янычар", из княжих "детских". Только у Акима отец в дружину пришёл уже женатый. Аким и отца, и мать свою знал. Ян сыночку помогал, при случае – учил. А Перун... Какая-то ложкомойка от какого-то конюха... Ни отца, ни матери. Ни родни, ни рода. Вместо всего этого – светлый князь. Идеал княжьего мужа. Для такого всё земство – корм да подстилка. Это они, "княжии" – Русь. А остальные – стадо и быдло. А вот сами "княжии"... Для меня – несколько непривычная... социальная группа. Вот кручу это всё в голове и ближайшим аналогом, при всех различиях, получаются османские янычары. Русские дружинники – турецкие янычары... Скажи кому – не поверят. Да ещё и побьют.
Но это ещё пол-дела. Мечемахатели сами по себе могут только мечами махать. И – не долго. Нужна система. Не только в смысле – "вертикаль власти", а ещё и для этой "вертикали" – "подпорки и растяжки". Чтобы от всякого "свежего ветерка" не заваливалась.
Всякая власть держится на силе. На организованном насилии более-менее прикрытом кое-какой идеологией. "Нет власти аще от бога", "Кесарю – кесарево, богу – богово". Ну, последнее – вообще ересь. От самого сына божьего. Поставить в один ряд властителя небесного и властителя земного... Да ещё ГБ – на втором месте. Хотя в условиях Древней Римской империи, где кесарей на полном серьёзе обожествляли... Тогда это опять ересь – многобожие.
Так вот, для обеспечения княжеской власти нужна военная сила. А кто будет саму эту "силу" обеспечивать? Просто местные? Не годится. Хоть сто раз повтори "натуральное хозяйство", а военное дело требует специалистов. И на стадии подготовки – тоже. А которые этого не поняли... "будут кормить чужую армию". Во Второй мировой войне на каждого бойца на фронте приходилось 18-20 человек в тылу, которые на него работали. В более поздних военных инцидентах типа "Бури в пустыни" доходило до 30-40. А как здесь? Тут, конечно, вполне среднее средневековье. С, натурально, натуральным хозяйством. Здесь, конечно, все – "натуралы". Но не до абсурда. Не надо русский натурализм абсолютизировать и абсурдировать. Русь ведёт активную торговлю – людей своих, к примеру, продаёт толпами. И на Восток, и на Запад. И там же покупает оружие и коней. Последние двести лет – непрерывно.
То есть, да – натуральное хозяйство, и рынка нет. Но торг – есть. В части оборонной продукции – всегда. А дальше? Ну купил ты истребитель вертикального взлёта и что? Он у тебя не только вертикально взлетать – горизонтально ездить не будет. Без обслуги, ремонта, сопровождения и обучения. Без обеспечения всех сопричастных всем необходимым.
По моим прикидкам получается, что на каждого гридня должно быть ещё 6-8 человек, которые его обслуживают и обеспечивают. Одного я уже видел – отрок. Оруженосец. Наверняка есть и второй – конюх. Остальные – более массового применения. Прачки, кухарки, кузнецы, оружейники, портные, сапожники, коновалы, седельщики, кожемяки... Если князь киевский выставляет семь сотен дружины, то обслуги должно быть под пять тысяч. Десятая часть населения самого большого города страны. Ну-ка прикиньте: двадцатимиллионная Москва. И после каждых выборов – два миллиона – "кыш". Не считая членов их семей. А на их место – новые.
Понятно, что часть обслуги можно на месте найти. Но это в большом городе. А в небольшом? Там просто таких мастеров нет. Я даже не о чисто оружейных делах говорю. "Кузнец местный – негожий. Княжьего коня заковал". "Заковал" – это не про кандалы и оковы, это про "подкову поставить". А княжий конь... А такому коню цена... Просто для сравнения: кавалергарды шли в атаку под Аустерлицем на своих собственных строевых конях. На сорокатысячных жеребцах. При нормальной цене крепостной девки в то время – от 20 до 50 рублей.
Вот местный негожий кузнец "коня заковал". И что теперь? Можно этого кузнеца-неумеху в клочья порвать. Но коня-то...
И не только о мастерстве речь. А безопасность? Пусти негожего навозокидателя на подворье, а он его запалит с пьяных глаз. Здесь же всё деревянное. "Терем – костёр поставленный" – это не я придумал. А у владетелей всегда ещё и политика. В формате – а не травануть ли врага? С помощью его собственных слуг. У русских князей ещё отдельная статья – язычники. Прикинется хорошим, проберётся в терем, да и перережет княжичам горло. Во славу своего Перуна или Велеса. В последние полвека с этим полегчало, а то совсем тревожно было. "Мы и спим на топоре". Нет, лучше уж дороже, а своё, проверенное.
"Всё своё – вожу с собой" – это не лозунг древнегреческого философа, это норма жизни русского князя.
Кроме военной силы есть ещё и гражданские чиновники: мытники, вирники... Есть ещё куча народу, которые вроде бы чисто княжии, дворовые. А по сути уже государственные. Главный конюший – это не главный конюх, это главный командир дружины. У французов называется "маршал". А стольник, у франков – "сенешаль", ведёт дела судебные.... У них своя обслуга. Которую тоже надо за собой таскать. И всё это княжье стадо нужно кормить, нужно дать место. Включая те же покосы. Они врастают, вступают с местными в разные отношения. И интимные, и хозяйственные. И среди всего этого табора из людей, коней, попов, соколов, барахла... детский дом имени данного конкретного князя. "Кузница кадров" конкретного рюриковича. Помесь роддома, приюта и профессионально-технического.
У нас тут "Русь Святая", а не "Спарта Древняя". Спартанцы новорождённых детей приносили старцам своим. И те, если новорожденный ребёнок выглядел слабым, не так кричал, не по стандарту сосал, не по обычаю пукал – кидали дитё в глубокое ущелье, диким зверям на ужин. У нас не так. Раз прислугой рождён и сразу не помер, то господин и на попа расщедрится – окрестить. И потом. Но на каждом этапе идет выбраковка. Самых сильных возьмут в "детские", потом в отроки, потом в гридни. А остальных? Кто по-толковее – в прислугу. А прочих – на торг. Каждый раз, когда князь перебирается на новый стол, среди детей и подростков проводят отсев. Успел вырасти настолько, что можешь себя показать – берём с собой. Нет – в ошейник и к гречникам. А там, в Феодосии, торг идет непрерывно, на славянских рабёнышей, беленьких, терпеливых, выносливых – спрос есть всегда.
При переходе на новый удел княжий двор "худеет": что не нужно – продают или бросают. Перевоз-то дорог. "За морем телушка – полушка, да рупь – перевоз". Берут лучших. "Количество билетов строго ограничено". А кто у нас лучший?
– Федька, друган твой, который быстрее всех бегает, где?
– – Дык поносит его. Третий день.
– Ладно, ждать не будем. А Петька чего морду не кажет?
– Дык он любимую княгинину служанку за сиськи дёргал. Она-то ему морду и расцарапала.
– Лады. Петьке – плетей, обоих – на торг, ты – к княжему стремени. Выступаем.
Такие интриги закручиваются, с такими "подставами"... С самого детства. И потихоньку собирается-формируется очередная молодёжная банда имени очередного княжича. Княжич вырастет – своих сверстников в "ближники" возьмёт. Отцовых советников-помощников... более-менее тотально, более-менее вежливо отправит в "за печку". "Отцы и дети" разворачиваются в княжеских домах при каждой смене главы дома. И будет безродный ложкомойкин сынок – воеводой из первейших, будут ему родовитые из "земских" в землю кланяться. Может, и сам в бояре выйдет, начало своему собственному боярскому дому положит. Но – нужно удержаться возле княжича. Любой ценой. Как следствие – сволочизм с "младых ногтей". Просто как способ выживания ребёнка в данных социально-экономических условиях. Получается идеальный защитник "веры, царя и отечества". Идеальный, потому что все остальные – ему волки. "Разделяй и властвуй". Мудрость не русская, но на Руси постоянно применяемая. Про этнические дивизии в Советской Армии никогда не слышали? А про бойню в Новочеркасске?
Но проблема у таких ребят та же, что и у древних спартанцев – потолок низкий. Когда смолоду идет отбраковка по физическим параметрам – мозгов образуется мало. И в социуме, и в индивидууме. В Афинах – философы, историки, драматурги, скульпторы... Стаями ходят. А в Спарте – царь Леонид да Ксенофонт. Впрочем, последний – родился и вырос в Афинах.
Перуну повезло – он при Мономаховой дружине родился, все встряски-перетряски пережил, гриднем стал. Вскоре и десятника получил. И всё – потолок. Как часто бывает при повышениях по службе – сперва радость, надежды, потом обуза, рутина. А как меняется характер у "господ офицеров" в такой ситуации... Куприна с Гаршином не читывали? Запойное пьянство – не самый тяжёлый вариант. От тоски ждёшь войну как невесту молодую. На Руси после смерти сына Мономахова – Мстислава Великого началась междоусобица. Но Перуну было уже под сорок – поздновато для повышения. Что чувствует строевой офицер, когда его по возрасту повышением обходят... "Есть страшное слово: "никогда". Но есть ещё более страшное слово: "поздно".
Перун дослужил до положенных 55. Дальше – судьба отставника-янычара. Не семьи, ни детей. Старые раны по всему телу, память о былых победах, о себе – молодом, сильном, "яром". И – надельная грамотка в зубы. Без привычки, без навыка к крестьянскому труду. Но с твёрдой уверенностью, что все неслужившие – "дерьмо жидкое", все проблемы можно решить ударом типа "падающий сокол" в голову, или, на худой конец, с помощью "кричащих ягодиц". Верный воин русского князя. Верный – до костей. Сказать: "до мозга костей" не могу ввиду наличия сильного сомнения в присутствии...
Разговор у нас с ним сразу пошёл наперекосяк. Точнее, и разговора не было. На мой вежливый поклон и "здрав будь, добрый человек"... будто и не было ничего. Взглядом мазнул и дальше пошёл. Только уже с крыльца, через плечо:
– Эй ты, как тебя, старшего позови.
"Здесь ты – никто, и звать тебя – никак. И место твоё – у параши". Странно, на Руси же с гостями вежливы. Или про моё изгнание узнал, или про шалости слышал? В чем причина-то?
Причина оказалась простая, на мне прямо написанная. Я как-то среди своих об этом забываю. А зря. Неполовозрелый малолетка не имеет права быть наблюдаем и различаем в информационном пространстве "мужа доброго". А я постоянно забываю об этом. И о том, что переубеждение производится кровью. Пока – только переубеждаемого. Непрерывно и неизбежно. Из всего народа, с которым я в этой "Святой Руси" сталкивался, пожалуй, только Яков да ещё Спирька, хоть и не с первого раза, но что-то такое уловили. Без мордобоя или других... больно привходящих.
Когда мои поднялись, да со сна умылись... Опять заморочка: зовут в избу. По обычаю нужно, чтобы три раза позвали. Первый раз поблагодарить, отказаться и на крыльце сеть. Второй раз снова поблагодарить, отказаться и в сенях сесть. Третий раз поблагодарить, согласиться и у порога сесть. А вот когда ещё раз позовут да за столом место укажут, тогда можно на краешке лавки устроиться. Щей похлебать из общей миски в очередь, держа ломоть хлеба под ложкой, которую через пол-стола к себе несёшь. И – никаких разговоров, а то – ложкой по лбу. "Когда я ем – я глух и нем". Дождаться, пока хозяин свою ложку положит да опояску распустит. Подождать, пока хозяин ритуальные вопросы проведёт. Насчёт погоды: "экие ныне дожди идут. А вот в прошлом годе...– В прошлом-то – да, а вот когда Долгорукого упокоили... тады, поди, суше было".
Хозяин обязательно спросит насчёт "здоров ли твой скот? А баба?". Отвечать надлежит с подробностями, развёрнуто. В зависимости от настроения, хозяин может провести лекционный час. Например, на тему: "Молодёжь ныне негожая. Даже и на бабу лазать не умеют. А вот в наше время...". За все высказанные советы следует искренне и длинно благодарить...
Как-то я не понимаю попаданцев – или это у них чего-то со слухом, или – у меня. Каждое патриархальное общество имеет набор ритуалов. И оно их исполняет. Непрерывно, по каждому поводу. Вот нормальный русский ритуал приёма гостя – разговор по делу начинается через час-полтора. Это не родственники, не праздник, не какое-нибудь важное мероприятие. Это просто "в гости зашли". Полтора часа собственной жизни на каждое "здрасьте" – это что, для всех попаданцев нормально? Местным – да, нормально. Они слово "час" знают, а вот что в нем 60 минут – нет. И не хотят: время определяется по солнышку, рабочее – состоит из двух частей: до обеда и после. Фраза: "Я жду вас в десять ноль пять" – не только не воспринимается, но и даже не думается.
Маршал Жуков в своих мемуарах весьма сожалеет о преждевременной отдаче приказа об открытии огня при нанесении упреждающего ракетно-артиллерийского удара по немецким позициям при выдвижении противника для атаки в ходе "Битвы на Курской дуге". По его мнению, если бы он подождал ещё 45 минут, то "потери противника в живой силе и технике могли бы быть существенно выше". В разы. А наши, соответственно, ниже. И на "Дуге", и позднее, на "Валу". На немецком "Восточном вале", который проходил по Днепру.
"Переправа, переправа!
Берег правый, как стена...
Этой ночи след кровавый
В море вынесла волна"
Вот так выглядит цена времени. Три четверти часа и десятки, может быть – сотни тысяч сохранённых человеческих жизней.
Здесь я тоже могу сказать: "Ребята, начинаем через три четверти часа". Им все слова по отдельности – понятны. А смысл – напрочь нет. Нет самой идеи точного измерения времени. И кто-то говорит, что предки были такими же как мы? Были. Как нынешние сомалийцы. Восход – намаз, заход – намаз, полдень – намаз. Ну и что ещё нужно знать о времени? Ах да – ночь. Ночью – темно.
И так не только на Руси. "Благородный сэр не ждёт более четверти часа" – так это уже 19 век. "Точность – вежливость королей". Ну это вообще... совсем чуждое, инородное и противоестественное. Как здесь – в "Святой Руси", так и в моей России начала третьего тысячелетия. И не только для наших местных "корольков", но и для всех их "младших помощников третьего дворника" – "ни чё, подождут". Настолько крепко вбито, что даже серьёзные бизнесмены удивляются и обижаются, когда оказывается, что за это "ни чё" надо платить как за "чё". Или – многократно больше. Немалые деньги теряют, свои собственные. Но от этого "ни чё" – никуда, ну наше это. Цена времени возникает только в индустриальном обществе. У англичан, немцев это умение ценить время, и своё, и чужое, вбивалось столетиями промышленных революций, а у нас... Сталинская статья о сроке за опоздание на работу несколько сдвинула ситуацию. Но потом – прямо по песне: "отечественные как-то проскочили".
Первая мировая. Перрон в Берлине, убывающий на фронт офицер спрашивает у кондуктора:
– Когда отправляется этот поезд?
– В шестнадцать часов, двадцать семь минут, одиннадцать с половиной секунд.
– Почему такая точность?
– Так война, герр офицер.
Перрон в Москве. Аналогичные собеседники.
– А скажи-ка мне, братец, когда этот эшелон пойдёт?
– Дык хто ж его знает. Может, седни, может, завтрева.
– А что так?
– Дык война ж, барин.
У меня ещё одна заморочка: зовут – надо войти в двери. Ну вроде – чего проще? Ага. А этикет? Я первым идти не могу – сопляк. И не первым не могу – господин должен идти перед людьми своими. Как всегда в команде: изменился порядок следования – начинают меняться командные статусы. Вошли в сени, Ивашко с Николаем сели. Остальные стоят – сесть места нет. Я так вовсе у входных оказался. Ладно, я не гордый. Я-то – да, а остальные? Ивашка в открытые двери на двор глянул:
– Слышь, Ноготок, выйди во двор, там мужички что-то возле наших коней крутятся.
Ноготок и собрался идти. А как же? "Первый номер команду подал". Дрючком ему в грудь.
– Стоять. (Это – Ноготку). Встань. (Это – Ивашке)
– Чего это?
"Может мы обидели кого-то зря -
Сбросили шешнадцать мегатонн".
Я – вежливый человек. Я могу извиниться. Если был не прав, или это делу помогает. Я часто прошу прощение заранее – чтобы проблем не возникало. Мне всё это – не в лом. Но – не в "момент". Не тогда, когда я завёлся и дошёл до бешенства. Я люблю и умею кричать. Хорошо проораться в полный голос, полной грудью... Но – не в "момент". В "момент" – только тихо и разборчиво. Или тебя и "тихо" услышат, или и рта открывать не надо. Или сделай так, чтобы тебя слышали и "тихо".
Негромко, раздельно, выразительно.
– Коней. Смотреть. Твоя. Забота.
– Да чего, он же у дверей стоит, сходит – не сломается. Давай, глянь там...
Теперь дрючок в сторону Ивашки. Как я со своими, со слугами верными... Как укротитель с дикими зверями на арене. А он же мне жизнь спас. И ещё спасёт. Если удержу его... "в воле моей".
– Поднял задницу. Дошёл до коней. Глянул. Вернулся. Делай.
Сидит, смотрит. А у меня уже губы пляшут. Не как от сдерживаемого плача, а как в святилище было – зубы обнажают и подёргиваются. Господи, я же его убью. Прямо здесь. Ножиком засапожным зарежу. Своего первого "верного". Спасителя и учителя. Если не сделает "по слову моему".
Ивашко выдохнул, опустил глаза, неловко поднялся, бочком протиснулся к выходу, вышел во двор. Ноготок с Николаем глаз не поднимают, в пол смотрят. Им – стыдно. Им-то что? А – стыдно. Как бывает стыдно гостям, попавшим под семейный скандал хозяев. Но ни один – ни слова в защиту. Так-то, Ванюха: "Разделяй и властвуй".