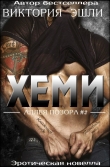Текст книги "Косьбище"
Автор книги: В. Бирюк
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 24 страниц)
Общий круглый тяжёлый щит трансформировался в два разных: для конного и для пешего воинов. Требования разные: чуть вылезли из полной нищеты – пошла специализация.
Всадник мечтает освободить левую руку, чтобы нормально управлять конём. И через двести лет после моего "сейчас" – появится мадьярский тарч.
А у пехотинца своя забота: "не хочу таскать тяжёлое дубьё в руках". И появляются стоячие пехотные щиты.
В "Слове о полку..." сказано:
"Дети бесови кликомъ поля прегородиша, а храбрии русици преградиша чрълеными щиты".
Цвет – понятно. Но мне, пожалуйста, про размер и форму.
Традиционно пехотный стоячий щит относят к 14 веку. Столетняя война, генуэзские арбалетчики и английские лучники доказали свою эффективность. Арбалетный болт, выпущенный из мощного арбалета, мог пробить доспех рыцаря, поэтому арбалетчики ценились гораздо больше, чем простой пехотинец. Арбалетчиков, помимо личной брони, защищал щит "павеза" различных форм.
На Руси пехота вообще имеет большее значение и до Столетней войны. Причём не только стрелки, а и обычные копейщики. Из-за специфического противника. Мечемахателей и на Руси, и в Европе примерно одинаково. Но здесь непропорционально много мастеров стрелы пускать. И почему-то все с той стороны, из – "бесови дети".
Чтобы эффективно применять пехоту и нести при этом минимальные потери в живой силе, нужен щит большого размера, который закроет пешего воина с ног до головы. Такой щит должен быть достаточно крепким, для того чтобы стрелы не пробивали его, но при этом он должен быть лёгким, чтобы его мог носить без усилий один человек. Так в Европе был создан стоячий щит (нем. Setzschild), или большая павеза (нем, Pavese). Этот щит был из дерева, обтягивался кожей, поверх накладывался тонкий меловой грунт, на который темперной краской наносились эмблемы с надписями, частью геральдическими, частью религиозными. Форма стоячего щита в основном представляла четырёхугольник. По центру идет вертикальный, полый внутри жёлоб, который на верхнем конце заканчивается выдающимся вперёд выступом. Внутри крепились кожаные ремни для переноски, ниже которых находилась ручка. По летописям – павеза появляется на Руси в 14 веке. Но стоячие щиты уже есть здесь в 12 веке. Ими-то "храбрые русичи" и перегораживают поля.
Пожалуй, последнее слово в конструкции щитов для пехотинцев останется за Россией. В 1914 году в Российской империи будет изобретён и опробован уникальный щит: лежачий. Индивидуальное средство защиты стрелка на поле боя. Похож на бронированную черепаху с роликами на брюхе. Этакий персональный танк с мускульным приводом. В серию проект не пошёл – поле боя неровное. Кататься ползком по воронкам от снарядов – тяжело.
Круглый тяжёлый щит сейчас, в 12 веке, отмирает, павезы ещё нет. В ходу "миндаль во весь рост" – сверху закруглено, снизу – остро. Но его уже не надо держать в руках часами. Нижний конец втыкают в землю и подпирают ногой. Владимирские пешцы идут в бой босыми. Вот босой левой ногой нижний конец и подпирают. Это такой фирменный кураж.
"Я стою на берегу –
Не могу поднять ногУ.
Не ногУ, а нОгу,
А всё равно – не мОгу".
Так позднее у французских дуэлянтов была манера развязывать ленты на башмаках. Типа: вот я тут стою и с места не сойду. С развязанными шнурками, как и босыми ногами – по полю боя не побегаешь. Правда, если уж полный разгром – удирать босиком легче.
Сдвинуть такую "заглублённую в грунт" конструкцию – практически невозможно. Сам воин защищён и над верхней кромкой виден только шлем и глаза – не попасть.
Пехотный щит не стал сильно легче. Но при росте в полтора метра вдвое уменьшилась его толщина. Слабоват стал. Так он теперь и не предназначен для защиты от ударного оружия, от меча или топора. Только стрелы. Тяжёлой рыцарской конницы с 5-6 метровыми копьями здесь нет. А если у всадника копьё выступает впереди коня на метр – ну так коня пеший копейщик остановит. А там – пусть тыкает. Из положения "сидя" – для себя, из положения "стоя" – для своего коня. Без разгона, коротким копьём всадник строй пеших копейщиков не пробивает.
Все довольны, кроме меня. Со времён заката македонской сариссы все эти заострённые палки держат одной рукой. Сариссофоры – воины в македонской фаланге в рядах, начиная со третьего, держали эту чуть ли не 7-метровую дуру двумя руками. И толкали вслепую во врага, упирались во вражеские щиты. Кто кого перетолкает – такое "инверсное перетягивание каната". Но это давало возможность гоплитам из двух первых рядов фаланги штатно работать нормальными копьями.
А здесь копейщик бьёт копьём одной рукой. Чуть ниже верхней, самой широкой части "русского миндаля". Никакие "продвигая по ладони левой руки, пока магазинная коробка..." – в принципе невозможно. Выпад левой ногой... а чем ты нижний край щита держать будешь?
Мда... Такая была у меня классная идея... Можно сказать – гениальная. Накрылась. Не будет у меня "чудо-богатырей"... Прогрессорство... оно, конечно,... но против объективно существующей реальности... Может, какие варианты? Что там персональная молотилка на одноимённой свалке намолотила?
В этом же 12 веке началось использование ещё одной штуки, которой тоже тыкали двумя руками – "пика" называется. Через полтораста лет, от "сейчас" считая, этой 5-метровой оглоблей славные шотландцы будут отстаивать независимость своего королевства, формируя боевые построения в виде прежде невиданных в Европе шилтронов.
Великий Уильям Уоллес в реальности несколько отличался от Мела Гибсона в "Храбром сердце". Он в самом деле ввёл пику для защиты шотландской пехоты от английской конницы. Современники описывали шилтрон как "медленно движущуюся стальную стену", хотя дословное значение – "движущийся лес".
Похоже, фраза из Макбета: "Пока Бирнамский лес пойдёт на Дунсинан" имела для Шекспира и его зрителей ещё и военно-тактическое значение. С этническо-политическим привкусом. Именно в таких построениях восставшие шотландцы били своего законного английского короля. А при Шекспире Шотландский король стал королём Англии.
Англичане нашли противоядие – валлийские лучники. В 1298 году при Фолкерке лучники пробили бреши в "лесу шотландских пик". Именно лучники расстреляли безщитовых пикинёров. Следом, в эти дырки в пехотном строю, ворвалась тяжёлая английская конница.
Уоллес был разбит, бежал во Францию, побывал в Риме. Но через 6 лет вернулся на родину. И был сдан соотечественником-шотландцем англичанам. "Шотландия – это святое. Но родня – святее". Уоллес когда-то убил чьего-то родственника, и ему отомстили – выдали врагам. Агрессорам, карателям, оккупантам и колонизаторам. Гибсон в последние минуты своего персонажа – Уоллеса кричит: "Freedom!" – свобода! Но для нормального шотландца... свобода – оно, конечно... но клан – дороже.
Уоллес был повешен, выпотрошен, четвертован. Через 30 лет Шотландия отвоевала себе свободу. Через 300 – присоединила к себе Англию. В основе – тяжёлая пика. Её потом использовали и швейцарцы, и немцы. Первые ряды Преображенского полка до завершения Северной войны тоже пёрли на врага с такими брёвнами в руках. А пика короткая, более соответствующая трёхлинейке с примкнутым штыком, появится только в 18 веке. И совершенно другая техника применения – нет скольжения по ладони левой руки, как у винтовки, есть удары оружием по оружию, чего нет у дзё. Преимущественно – оружие для конного. Уланы, казаки. Первая стычка между англичанами и немцами в Первую мировую войну состояла в том, что на узенькой улочке бельгийского городка четыре германских улана запутались в своих стальных пиках. "И англичане начали стрелять".
Может, совместить все три техники? Пику, винтовку и посох? При том, что я толком не знаю ни одной... А, всё без толку – всё равно левая рука русского копейщика всегда занята щитом.
Отработанные мною и Суханом приёмы штыкового боя менее чем через семь месяцев спасли нам жизни и позволили одержать победу над погаными. Маленькую, вовсе и не известную, не великую победу. Однако же следствием её через 10 лет явилась победа великая: Коба, «хитроумный грузин», половецкий хан Кобяк был истреблён мною вместе с роднёю и войском своим. Сия победа сохранила и Киев, и Подолию, и многие тысячи душ православных. Коли хотите вы, чтобы дела ваши к великим и славным победам приводили, то избегайте брезговать учениями, коии хоть бы и к малым победам привести могут. Верно люди говорят: «Навык карман не оторвёт». Всякое умение к пользе приложимо. Уж коли взялся за доброе дело, за истребление врагов Руси, то и выучись дело сиё делать хорошо, правильно.
– Господине! Тама... эта... ой!
В ворота, ведя коней в поводу, с непокрытыми головами и непрерывно кланяясь, вошли два мужичка. Филологические паразиты вылетали из Фильки, который шёл первым, непрерывно. От этого он пугался и запинался ещё сильнее. Пока вообще не замолчал. Оба, теперь уже моих, смерда испугано рассматривали мёртвого и окровавленного Пердуна, голую, торчащую из корыта привязанной за волосы к жерди головой, Кудряшкову и свернувшегося на земле калачиком, непрерывно стонущего, самого Кудряшка. Они судорожно крестились, роняя шапки вместе с поводьями. Не закончив крестное знамение, натыкались взглядом на следующую картинку, ахали, что-нибудь снова роняли, кидались поднять, снова подымали сложенные пальцы ко лбу... Наконец Филька смирился с ужасным, неизбежным, но пока неизвестным будущим, и выдохнул:
– Вот...
– Ноготок! Отдай этим... добрым людям коней. Кони эти были батюшкой моим Акимом Яновичем из Паучьей веси уведены. Нам они без надобности, а "паукам" – для дела нужны. Отведёте коней в Паучью весь, Хрысю на двор. Который Потане Рябиновскому – отец. Там и оставите, дальше он пускай сам разбирается да раздаёт по хозяевам. Скажите, что боярич Иван коней селянам возвращает, как нужда отпала, и свары с ними не желает.
– Дык вона чего... а мы-то думали... ну тогда ладно... а ежели они биться будут? ну мы ж вроде эта... ну... твои значится... а ты сам, вроде, Рябиновский... хотя говорят... ну... дескать батюшка твой тебя значит... а мы нет, мы ни вот столько не верим... а они-то злые... и слух прошёл... а ежели они нас... то тогда как? да и наших-то коней... не, боязно... а может мы того... ну коней... покудова? а после... ночью к примеру... не, ночью нельзя – упыри придут... а чего им тута делать... а ты вона глянь... да уж, кровищи богато... точно заявятся... или ещё когда... опять же – мимо Рябиновки ехать... а ну как батюшка твой... ты с ним вроде... и коней заберёт и нам по шее... да если по шее – ладно, а то говорят, там кузнеца насмерть запороли... так этот же и запорол... а там что своих таких же гадов нет?... а у нас дети малые...
– Хватит! Недоуздки – одеть, коней – повязать, со двора – марш!
– Чего? Эта... Какая "Маш"? Которая в колоде вымачивается? Так её, вроде, ...
– Вон отсюдова! Бегом!
Мужички суетились, бестолково бегали по двору, совались во все дверные проёмы, хватали и тут же роняли всё, что попадало под руку. Наконец, Ноготок накинул на последнего коня недоуздок, привязал к остальным, и, дав бедному крестьянину пинка, направил Фильку в сторону ворот. Белобрысый напарник, непрерывно кланяясь и приседая, побежал следом, ведя в поводу их собственных коней. "Добрые люди" даже не удосужились отойти от ворот. Как только они перестали нас видеть – немедленно остановились и принялись делиться впечатлениями. Я опять начал заводится, но Ноготок опередил: выглянул из ворот и помахал селянам своей двухвостой плетью. Немедленно зазвучавшая резвая рысь удаляющихся лошадей подтвердила эффективность демонстрации инструмента вразумления народа российского. В том числе, и в части установления надлежащего конского аллюра.
Наведение порядка – занятие увлекательное. Особенно – на чужом подворье. Не могу вспомнить ни одного попаданца, который бы топал ножкой по стропилам на предмет проверить: "уже совсем сгнило или ещё постоит?". Д'Артаньян, как счас помню, в первом же эпизоде своей прогулки в сторону Парижа, провалился сквозь крышу. Так он хоть убегал, жизнь свою спасал. А я свою на этой крыше – чуть не угробил. Сгнило всё нафиг.
Я уже говорил, что деревню не люблю? Я ещё не раз повторюсь. Ну где тут найти нормальный брус от Хонки? Бревно выворачивается наизнанку и в таком виде склеивается. Получается клеенный брус. Потом пропитывается. Всяким разным. И не гниёт, и не горит, и в воде не сыреет. Это даже не двадцатый век – это конкретно третье тысячелетие, конкретно правильная и непрерывно контролируемая технология.
Именно что непрерывно контролируемая. Как в конце восьмидесятых в Союзе французские молокозаводы взрывались – не слышали? Французы-наладчики тоже очень удивлялись: "а чего это ваши коровки вместо молока воду дают?". А того, что всенародный саботаж – норма советской жизни. И не по злобе, типа: "пусть сдохнут комуняки проклятые", а исключительно из лучших побуждений: "нынешнее поколение будет жить при коммунизме". Надо помочь "товарищам" в их "планов громадьё" – мы вот, например, уже почти живём.
Не строения, а полная хрень: хотя венцы нормальные, забор ещё крепкий, но крыши ни одной гожей нет. А полов и сначала не было. Ткнул ногой печку кирпичную – завалилась. Сложена без раствора. Ни одна дверь не то что не запирается – не закрывается. Створки в землю вросли и бурьяном заросли.
Наиболее точно моё ощущение от этого всего сформулировал В.И. Ленин. В нашем отечественном фольклоре.
CCCР, Москва, Мавзолей, Всесоюзный субботник. Солдатик метёлкой пыль сметает. Вдруг крышка саркофага откидывается и оттуда поднимается сам Владимир Ильич:
– Товарищ! Скажите, как оно там? Стоит ли ещё Советская власть? Не одолели ли нас буржуины?
– Нет, товарищ Ленин! Уж семьдесят лет стоит, не одолели!
– А вы, товарищ красноармеец, чем тут занимаетесь?
– Субботник у нас.
– А, опять разруха!
И крышка захлопнулась.
...
Моя ситуация. Даже хуже: ругать Советскую власть бесполезно ввиду её отсутствия. С дерьмократией, либерастией, просриатизмом, гумнонизмом, великодержавностью, гос-дарственниками и обосрускостью – аналогично. Америкосы, китаёзы, жидо-массоны, коммуняки, инопланетяне... Даже плюнуть не в кого. Можно поругать "Святую Русь", православие и отсутствие субтропического климата. Но бурьян по углам от этого не повалится.
А и пошли они все – сам по-выкошу.
Конец пятнадцатой части
– Часть 16. «Казуары России»
– Глава 82
Ш-ш-ш-ха! Ш-ш-ш-ха! Ш-ш-ш-ха! Хорошо коса сочный камыш режет. То он стеной стоял, выше роста человеческого. А вот я прошёл – и всё бритое стало.
"Асфальт – стекло.
Иду и звеню.
Леса и травинки -
сбриты.
На север
с юга
идут авеню,
на запад с востока -
стриты"
У меня тут не по Маяковскому, не Бродвей. У меня тут Угра "эз из". Так что – ни авеню, ни стритов. И "Асфальт – стекло" даже и не предполагается. Для этих мест – и в моей России начала третьего тысячелетия – тоже. Но чистоту наведём – кушири стоять не будут.
Тут есть такая тонкость: камыш мало срезать и положить. Его сразу и вынести надо. Почва мокрая, под ногами чавкает. Нужно перетащить скошенное на сухое место. "Есть такая профессия – кошенину выносить". Вот мы с Суханом этот силос и выносим куда повыше. Развлечение из круга: "Из болота тащить бегемота". Грязно, натужно, но нужно. Собираешь охапку этого... всего, накалываешь на вилки и тащишь.
"Вилы"... "Обнять и плакать". Нету на Руси железных вил. Нормально гнутых, тонких, четырёхзубых... Не-ту-ти. Берётся толстая ветка с развилкой, ошкуривается, обрубается как-то где-то. Кончики затёсываются. Получается такая... оглобля с рожками. Зубьев – только два. Короткие, толстые, чтобы не сломались. И всё равно: чуть перегрузил, чуть как-то не так воткнул – хрясь. Вроде бы – ну и что? В лесу таких можно за день десяток вырубить. Потом день таскать, день шкурить да обрубать, полгода-год ждать пока высохнет. А то не сено таскаешь, а само дерево. Потом выйти на покос... и выкинуть. Одну за другой.
Не хочу в средневековье! Не хочу в дикую природу! Опротивел весь этот "сделай сам" на каждом шагу! Не хочу "натурального хозяйства"! Хочу "ненатурального"! Хочу специализацию и диверсификацию! Даёшь стандартизацию и унификацию! Понятно, что ничего приличного здесь не сделают. Но пусть хоть "неприличное" будет одинаковым. А то каждый раз – новое... дерьмо. Так и злит как... как новое дерьмо! Надоели лепёж и самодеятельность! Хочу сертификацию и обязательное лицензирование! Хочу чтобы каждый своим делом занимался! А не из сырых дровишек инструмент... мастырил.
"Беда, коль сапоги начнёт тачать пирожник,
А пироги печи – сапожник".
Дедушка Крылов, какой же ты был умный! А здесь почти каждый – сам себе и сапожник, и пирожник. Поэтому из сапог – лапти или босиком. А главный пирог – недопечённый и одновременно подгоревший каравай.
Спокойно, Ванюха, спокойно. Имеем объективно существующую реальность, которая в очередной раз имеет нас. Что не ново и составляет, собственно говоря, основное содержимое жизни всякого... хомнутого сапиенса. Примем это безобразие за основу и попытаемся прожевать.
"Жизнь такова какова она есть
И более не какова".
Берём эту оглоблю ушастую и набираем на неё камыш срезанный. Не много – много не поднимешь, не мало – забегаешься по чуть-чуть таскать. Тянем. Высоко не поднять – капает с них... всякое. Отклоняешь вилы от вертикали. То есть тяга получается – "на пупок". Идёшь по склону вверх как в штыковую. Или мокрый, или потный. Или – два в одном. Но покос остаётся чистым.
А болотина пока голенькая постоит. Подсохнет. Как жара спадёт – можно будет еще раз по краю пройтись, глубже взять. Киевский судостроительный, который – "Ленинская кузница", в своё время очень хорошо плавающие сенокосилки делал. Ими потом Днепровские плавни и угробили. А у меня таких приспособ здесь нет. Да здесь, ёкарный бабай, даже нормальных вил нет! Мда... Так что – не угроблю. Но всё равно– без фанатизма.
...
Вот примерно так же, тщательно, но без фанатизма, мы провели уборочку на заимке. Печка развалилась, крыш не стало вообще. Из-под бурьяна вылезло куча всяких странных вещей типа колодезного ворота. Колодца нет, а ворот есть. Но главное – запустили первую очередь нужника. В виде выгребной ямы.
Опять попадуны и попаданки попадают со смеху. "Отхожее место как базовый элемент прогрессорства". Попадали? А теперь вспомните: какое было самое яркое впечатление графа Пьера Безухова на Бородинском поле до начала боя? "Поле нашей славы боевой". Стодвадцатитысячная русская армия – половина будет на этом поле убита и ранена. Вражеский лагерь стовосмидесятитысячного нашествия "двунадесяти языков". И что первое бросается в глаза их сиятельству графу Безухову? И в нос?
Уж если "такая глыбища, такой матёрый человечище" посчитал нужным обратить внимание графа, и, соответственно, сотен миллионов читателей, на эту особенность бивуачного образа жизни, то мне – ну просто "не проходите мимо". Тем более, что у меня здесь ещё одна деталь. Вы когда-нибудь наблюдали, как "живой мертвец" копает выгребную яму "достославным русским мечом"? Который из коллекции режуще-колющих инструментов "мастера заплечных дел"? Меч остался от покойного Храбрита. Нормальная железяка, но когда им яму копают... Ядрёна матрёна! Если придётся – следующих кузнеца с молотобойцем тоже зарежу, но нормальную штыковую лопату они мне сделают!
Как-то пренебрежительно мы относимся к человеку, к его насущным и ежеминутным потребностям. Насчёт хлеба насущного – везде. А вот наоборот... Даже в Библии сказано только: "в поте лица будешь есть хлеб свой...". А вот сколько потов сойдёт, пока от "съеденного" избавишься... У вас запоров не бывает? Тогда поговорим о поносе – тоже очень богатая тема.
Как-то брезгают российские литераторы правдой, знаете ли, жизни. А зря. Ведь читающая публика – она ведь почему читающая? Потому что с горшка слезть не может. Вот и вынуждена, в условиях неподвижности и несходимости, занимать своё внимание чем-нибудь ещё. Чтением, например. У нас нынче больше дамские романы в ходу. В смысле – в туалете. А вот кто-то из американских классиков, кажется О'Харра, описывает американского сенатора, который в такие минуты отдохновения и расслабления занимался самообразованием путём погружения в фундаментальный труд – "История упадка и разрушения Римской империи" Гиббона. Полчаса приобщения к великим – не много. А больше и нельзя – до геморроя приобщаешься. Однако по чуть-чуть, изо дня в день, многие годы, регулярно как пищеварение... До американского сената дошёл.
"Книга – источник знаний". Даже в сортире. Но прогресс не остановим. Вот приехал я как-то к приятелю, а у него над унитазом радиоприёмник висит и непрерывно работает. Я тогда его спросил:
– Зачем тебе здесь эта музыка?
– Прикинь: вот я тут сижу. А тут раз – и война.
Мда... Ответ исчерпывающий, крыть нечем. А ежели туда ещё интернет провести? И пивопровод? Просто какой-то общественный центр получается. Общества потребления и, соответственно, неизбежного выделения. Материальная и культурная пища, произведённые современной цивилизацией, нашли своего потребителя. И вышли из него. По направлению к пункту конечного назначения.
Впрочем, даже без этих техно-наворотов, сортир есть в человеческой истории место весьма значимое, можно даже сказать – сакральное. Буковки "-ак-" просьба не выкидывать.
Достаточно вспомнить, что Великий Цезарь произнёс свою историческую фразу: "И ты, Брут..." не просто в Сенате, а всего десяток шагов не дойдя до писсуара. А зачем он туда пошёл? – Правильно. И заговорщики это предусмотрели.
А Екатерина Великая? По широко распространённой русской народной легенде, она была убита на дворцовом толчке казаком, который снизу проткнул её пикой. Насчёт "убита" не знаю, но придворным потребовалось два часа набираться смелости, прежде чем они взломали дверь императрического сортира.
Ну ладно – аристократия. А роль этого помещения в жизни простого народа? Сколько разборок с мордобоем начиналось со слов: "Пойдём-ка в сортир, поговорим". Опять же – чистка данного заведения как официальное подтверждение социального статуса конкретного персонажа в рамках данной малой группы.
И не только малые группы. В еврейских гетто эсэсовцы любили ставить на чистку выгребных ям раввинов и уважаемых членов общества. А в лагерях советских военнопленных была такая забава: охранники кидали куски хлеба в сторону открытой выгребной ямы. Оголодавшие люди кидались за хлебом. Следующие куски бросались чуть в сторону. Толпа уплотнялась, раскачивалась, разгонялась. Наконец, кто-то из пленных падал в яму. И начинал тонуть в этом дерьме. Тогда остальных отгоняли выстрелами, и охранники заключали пари: выберется упавший, цепляясь за скользкие края, или так и утонет.
А в мирное время? Существует достаточно развитый фольклор по теме. Мудрость народная. От заимствованного из "Бриллиантовой руки" выражения: "обозначенный на плане буквами М и Ж", что впрямую ложится в объяснение массы задач по механике. Где g – ускорение свободного падения, а m – масса тела.
До стихов типа:
"Я гляжусь в унитаз хохоча.
У меня голубая моча
Да и кал у меня голубой.
И вообще – я доволен собой"
Поскольку наши правительства постоянно пытаются втянуть наш народ в свою политику, то наш народ им и отвечает. Народными анекдотами. "Хрущевки" пошли? – Пожалуйста!
"Товарищи! Генеральная линия партии на развитие малогабаритного жилья, требует и от нас творческого подхода. Наша основная продукция – "Ночная ваза" не может быть уменьшена по диаметру внешнего отверстия. Поскольку размеры контактной части советского народа не изменяются по решению очередного съезда партии. Но ручки будем делать внутри!"
Нужник как символ взаимодействия культур не рассматривали? А зря. Опять же классика:
"Проникновенье наше по планете
Особенно заметно вдалеке.
В общественном парижском туалете
Есть надписи на русском языке".
Так это при Советах. А теперь – вообще везде.
Вопрос настенных фресок в этих общечеловеческих местах требует отдельного и углублённого изучения. Ограничимся только одним аспектом: текстовые надписи. Я не про столь распространённую русскую народную математическую формулу "икс, игрек и ещё что-то". Но ведь активно используется и печатный материал: любой, даже совершенно бессмысленный, газетный заголовок, наклеенный на стену в этих укромных уголках, приобретает актуальное и многозначное звучание. Да что газеты! Любой продвинутый интернет-символ в этих местах наполняется реальностью и смыслом. Хоть "ЖЖ", хоть "фейспук". Стоит только задуматься... А, собственно говоря, где ещё человеку и задуматься-то?
"В деревне, где скучал Евгений,
Был свой укромный уголок".
Необходимость самоизоляции, возможности отдохнуть от окружающих, подумать о себе и о вечном – неотъемлемый элемент здоровой человеческой психики. Что и используется в медицине. "Псих? – В сортир! Лечиться!". А где ещё самоизолироваться? Очень распространённая манера поведения у подростков при конфликтах с родителями. "У меня не понос, я – думаю".
И снова Владимир Семёнович:
"Все жили вровень так.
Система коридорная.
На 28 комнаток
Всего одна уборная".
Лишите людей нормального, свободно доступного, 24х7, сортира, и они неизбежно впадут в тоталитаризм с целью построения светлого будущего. Где лозунг: "от каждого по способностям, каждому по потребностям" будет реализовываться ежедневно, без бесконечных очередей с номерками на руке и при рулоне туалетной бумаги достаточной длины и ширины.
На формат рулончиков туалетной бумаги в Малаге не обращали внимания? Чуть больше трамвайных билетов. Это от мракобесия и многовекового засилья испанской инквизиции. Нестяжательство доведённое до неподтирания.
Социальный, даже политический аспект интегрального показателя "сортирности" общества – ещё толком не рассмотрен. Общеизвестный факт: нет ни одного процветающего народа с неисправными унитазами. Или – течёт и засоряется, или – демократия и процветание. Не бывает демократии у бедных. И у заср...нцов – тоже не бывает.
Это на уровне организации общества. А ведь очевидно, что любая группа людей за несколько дней стоянки в необорудованном месте обрастает поясом "минного" поля. Когда ГКЧП ввёл танки на улицы Москвы, основная проблема, с которой чаще всего обращались командиры частей к Язову, были отнюдь не демократически настроенные народные массы и г. Ельцин на броневике. "Нет походных сортиров. Что делать?". А маршал отвечал вполне по-советски: "А пусть солдатики там, ну, по подъездам...".
И не надо ругать только коммунистов. Здесь все сложнее и глубже.
Форму политического правления и форму собственности поменять можно быстро. А вот глубоко народные, исконно-посконные привычки...
Пушкин в своём "Пугачеве" пишет, что "когда толпы эти были отбиты от Казани", то многие церкви в местах, где стояли пугачевцы "были осквернены калом конским и человеческим".
Ленин, говоря о съезде крестьян пяти северных губерний, прошедшем в самом начале 18-го года в Таврическом дворце, отмечает появление множества человеческих экскрементов в драгоценных вазах, составлявших часть интерьера. "Притом, что канализация дворца работала исправно".
А вот из третьего тысячелетия.
Москва, Белый Дом, после перерыва депутаты активно выступают в прениях по бюджету. А в туалете выступает уборщица:
"Вот, эти... депутаты... с собственной писькой управится не могут. А туда же – Россией управлять".
Слово "нужник" происходит от слова "нужда". Это в самом деле общенародная и повседневная нужда. И по уровню организации, по качеству удовлетворения этой нужды можно судить о качестве общества в целом. Конечно, тёплый ватерклозет не тянет на памятник древней культуры, вроде Тадж-Махала, или на великое свершение, типа полёта человека в космос. Эти – на века, эти – память будущего человечества. Но общество, которое работает преимущественно на память потомков – потомков не оставляет. Ибо заставляет своих нынешних граждан захлёбываться в дерьме современности. Великие свершения делаются небольшой кучкой "свершателей", которые высасывают ресурсы из всех остальных, постепенно сталкивая их всё глубже в выгребную яму. Потом, на место первых "свершателей", неизбежно приходят люди, для которых подтекающий кран или забитый унитаз не являются чрезвычайным событием, нарушением технологии, преступлением против базовых прав человека, поводом немедленно прибежать и исправить. Они к этому привыкли, они в этом выросли. Технологическая и политическая культуры начинают падать.
Сначала конструктор, рисуя перепускной клапан, не предусматривает обязательной однозначности установки. Чтобы этот клапан в принципе невозможно было установить неправильно. "А зачем? Ну погонит воду из бачка не вниз, а вверх. Ничего, наша соображалка лучше всех – сообразят и переставят". Потом слесарь устанавливает клапан по месту как на душу легло. "И чего? Ну ещё раз прибегут. Ещё пузырь выкатят". Потом, в момент прохождения стратосферы, клапан открывается, хотя не должен, и воздух сбрасывается в пустоту. Спускаемый модуль разгерметизируется и три хороших человека, прекрасных специалиста в области пилотируемой космонавтики... Звание "Героя" посмертно... Спустили в унитаз...
Санитария умирает, и страна начинает гнить заживо. Не смотря на все заклинания любой политической направленности. И в материальном, и в духовном плане.
Как практически каждый российский мужчина я был на "ты" с разводным ключом, нормально подматывал протечки и выставлял правильное положение поплавка. Но глубже, в систему, я не лез. И я не одинок – масса народу строит прекрасные, дорогие и красивые дома, тратит кучу времени, таланта и денег на всякие интерьеры. А потом в дорогом, импортном, с особым вкусом подобранном под цвет глаз хозяйки, унитазе всплывает переработанный "хлеб насущный" со всех верхних этажей. И где были ваши дизайнеры с визажистами? Нет, все-таки "сантехник" прежде всего "сан", а уж потом "техник". Кстати о сане – может попов к этому делу приспособить? Или дьяконов? Дело-то святое.
Сухан работал мечом как ломиком, разрыхляя местный суглинок, потом обломком половины бревна, назовём это лопатой, сгребал грунт в штаны покойного Перуна, на штанинах которых мы завязали узлы. Выкидывал этот псевдо-мешок из ямы, а я выволакивал к забору и высыпал на кучу скошенного бурьяна. Попросить у Ноготка его секиру для вырубания чего-то более приличного... Личным боевым оружием... Меру маразма и глубину личного оскорбления при таком просто предложении – я здесь уже понимаю.
Солнце клонилось к закату, тени во дворе постепенно удлинялись. Мы ещё успели укрепить последними несгнившими жердями верхний край ямы и разобраться с дверями. "Разобрались" в смысле – двери развалились все.