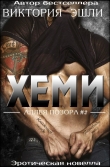Текст книги "Косьбище"
Автор книги: В. Бирюк
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 24 страниц)
Лучшее состояние конфликтного собеседника – состояние растерянности. Главное – не пропустить.
Самое страшное – потеря темпа. Кто сказал? – Сталин. Так вот, Сталин, поработаешь извозчиком: хватай вожжи и погоняй что есть мочи. Да ударение не перепутай!
– Всё. Всем разойтись. Ивашко – к коням. Пошли вещи собирать.
Но сборами заняться сразу не удалось. Сначала набежал мятельник. Прижал к стенке терема и шёпотом, брызжа слюной и междометиями, начал выражать свою крайнюю озабоченность:
– А как же Макуха?... А наш уговор? ... Ты меня кинул! Обманул! За полцены майно выкупил, а сам...!!!
Пришлось ухватить мужика за ворот, подтянуть лицом к лицу, вытереть ему ротик воротником и ввести дозу успокоительного:
– Пришёл форс-мажор. Понял? Объясняю: сказанное – сделаю. Уговор – в силе. Сиди тихо и все будет абгемахт. Понял? Проще скажу: будешь дёргаться – не получится. Твоё дело – увести посторонних с усадьбы. Делай.
Кажется, мужик нашёл какой-то скрытый и глубокий смысл в моих словах. Или именно в "абгемахт"? Улыбаться хитренько начал. Ну и ладно: дело – делом, а связанные с этим эмоции – только наше собственное, сердечно-кишечное. Меньше тревожится – дольше здоровым будет.
Следом Ноготок подошёл, дождался пока Спирька убрался, и сообщил:
– Господине, у Чарджи серебра нет.
И молчит. Я сперва испугался, когда он подошёл: если ещё и Ноготок от меня уйдёт... Потом вскинулся: так я этому дезертиру ещё и денег должен?! Потом призадумался. Один из самых противных, по моему мнению, человеческих недостатков – неблагодарность. А Чарджи мне жизнь спас.
Пошли в избу свою. В одном углу торк сидит – своё барахло перебирает, в другом – Николай вещи складывает, через плечо косится, посередине Сухан столбом стоит. Ладно, достал Корькины нумизмы, начал на столе выкладывать.
– Ты от меня уходишь, надо расчёт вести. Вот золотник – за стрельбу твою. Когда "пауки" в усадьбу пришли, а ты стрелами поленца поколол. Вот второй. Когда я Кудре попался, ты один за мной следом пошёл, обо мне обеспокоился, ворогов убил. Вот третий. Когда вы меня в лес искать пошли, ты волхва завалил. За добрый выстрел в бою. И четвёртый – на добрую память. Я на тебя зла не держу, и ты не держи. Ночью я тебя в трусости винил. Досада меня взяла: кабы со мною что случилось – остальные следом полезли, под молот кузнечный. Были бы убитые да покалеченные. Досада в моих словах была, а не правда. Прости. Ныне Любава тебя трусом назвала. В том правды тоже нет – не от испуга от меня уходишь, что я с Акимом поссорился, а от обиды. И за девчонку я тоже прощения у тебя прошу. Так получается, Чарджи, что я-то правду вижу, а другие нет. А дела твои, если со стороны смотреть... Внешняя благопристойность не менее важна, чем внутренняя добропорядочность. Важно не только "быть", но и "слыть". Древние мудрецы говорили: "не останавливайся завязать шнурки на бахче своего соседа". Если люди вокруг раз за разом будут говорить тебе: "свинья, свинья" – придёт день, когда ты захрюкаешь. Будь осторожен. И последнее: будет нужда – зови. Всё.
Торк ошарашено рассматривал золотые монеты у себя на ладони. В каждой – по 4.5 грамма, по курсу 1:12 получается больше гривны кунами за каждую. И, в отличие от серебра, золотые византийские монеты не портят. Ни по весу, ни по металлу. Богатый подарок. Ноготок кивнул удовлетворённо. Что у них с Чарджи общего – не знаю. Но вот же – озаботился кошельком товарища. Ладно, давай упаковываться.
Укладка вещей в большой команде – занятие всегда сумбурное. "Два переезда эквивалентны одному пожару". Только пожар – быстро. Отойди, не мешай – само сгорит. А вот во вьюки – само не вскакивает. Сколько я всего тут начал и не успел, до ума не довёл. Турник во дворе, который с Ивашкой строили, остаётся. Груша боксёрская, на которой Ноготок тренировался – остаётся. Складень мой, на котором я под Николашкину диктовку слова и выражения записывал – забираем. Мечи парные невиданные, с людоловского хутора привезённые... мой стыд и срам – только упаковываю да распаковываю. Даже не почистил. Берём.
Тут Ивашка заявляется, злой как собака: Доман коней не даёт. Так, где моя шашечка? Опять Ольбег спёр? Нет, грешу на невинного – за печкой спрятанная лежит. Шашку на левый бок, дрючок в левую руку. Пойдём-ка поговорим-ка с управителем. Как в первый день я с ним поговорил. Тогда меня сразу в поруб кинули, теперь наоборот – выкидывают с усадьбы.
– У тебя было два коня. Их – забирай. Остальные – рябиновские.
– Аким мне всю прирезанную землю отдал. Весь стоит на моей земле. Стало быть, все кони, которых с веси увели – мои.
– Я про то не слыхал. Иди к Акиму – велит владетель – отдам.
– Что не слыхал – твоя забота. Вон Хотен стоит – спроси, коли в словах моих сомневаешься. И к Акиму я могу сходить. Поговорить. Только не про коней, а про то, что о тебе в грамотках Храбритовых написано.
– К-каких т-таких грамотках?
Во. И заикаться сразу начал. Стало быть – рыльце в пушку. Давим дальше.
– Таких. Которые мы в Храбритовой опочивальне под полом нашли. Такой ларчик аккуратный, всякими сказками полный. Вот расскажу я Акиму кое-чего, посмотреть-почитать дам. А он-то нынче малость не в себе, железяку свою из рук не отпускает. У тебя, Доман, как – вторая голова найдётся? А напоследок перескажу, что мне мятельник сказывал. Ты ж видел: мы ж ним слуг выгнали и "под рукой" разговаривали. Тайно. Аким много чего интересного узнать может. Кто-то ведь послал донос, по которому Макуха из Елно прилетел. Ты, случаем, не знаешь – кто?
В разобранных грамотках Храбрита про Домана – ничего. Или мы не поняли. Насчёт доноса мы с мятельником не говорили. Но куда-то я попал: Доман существенно побледнел. Взгляд из презрительно-отстранённого стал просто злобным. Дёрнул щекой.
– Сколько?
– К двум моим ещё шесть. Упряжь, седла, вьюки, торбы.
– Шли своего. Только быстро.
Тут я несколько обнаглел, поманил Домана пальчиком. Будто чего на ухо сказать. Тот привычно наклонился, а я похлопал его по щёчке.
– Не гони, детка, как соберёмся – так и выйдем.
Он отшатнулся, схватился за щеку. Огромные, совершенно ошарашенные моей наглостью, глаза. И бледнеет на глазах. Будто я ему в лицо плюнул. Ну, вообще-то, "да". Только ответить ему сейчас нечем, только утереться. Вот пусть и привыкает: или делать по слову моему, или "утираться" после "ласки господской". Или как сейчас – не "или", а – "и".
Понеслось, побежали. Ивашко матом на конюшне кроет. Ноготка с барахлом туда-сюда гоняют. Из окошечек Николай, как черт из табакерки, выскакивает и орёт.
Рядом вдруг возник Долбонлав. Неслышно. Убью в следующий раз, если так подкрадётся. Или колокольчики во все места забью. Так и умереть же можно – то нет рядом никого и вдруг голос: "Сталсый глидень кличут". Что-то новенькое: прежде таких команд не было.
Долбонлав отвёл к обычному крыльцу, но не стал открывать дверь, а повёл меня на задний двор. Здесь в затишье на скамеечке сидел Яков. Только глянул на мальчишку – тот испарился. Похлопал по скамейке рядом с собой – "садись". Сидим-молчим. Напротив нас тот самый турник, бревно нами поставленное, ещё тренажёр – столб с колесом наверху.
– На восток – не ходи. "Пауки" нынче злые.
– А куда идти-то?
– На север не ходи: что там, у волхвов – не понятно.
– Ну так подскажи – куда.
– На юг не ходи – смутно там как-то.
– Ну, я так и думал: пойду в Елно. На запад. Там город, может, какую службу найду. А то дальше двину. В Смоленск. А то – к Новгороду-Северскому. По Десне вниз – легко пойдём,
– Далеко не ходи.
– Это почему ещё? Что мне тут, в лесах гнездо вить?
– Далеко будешь – не дозовёмся. Ежели надумаешь у Перуна встать – передай привет от "Чёрного гридня".
И что это было? Это был, Ванюша, подарок. Тебе, дураку, клад открыли – куда идти, где остановится, что сказать. Да будь ты хоть трижды попаданцем семи пядей во лбу, а сообразить это невозможно. Это надо просто знать.
– Чарджи твой в услужение просится.
И молчит. Глаз скосил и снова наши... "деревянный тренажёрный зал" разглядывает. Я ухожу, а этот... инал здесь останется? Ну и что?
– Долгов нет. Ни – он мне, ни – я ему. Тебе решать.
– Не мне – владетелю. Всё, иди.
Только упаковались – зовут на поварню: "поешьте перед дорогой". Шум, суета: "это взял? А это увязал? А чего в том вьюке острое выпирает?...". Хлебаем супчик-трататуйчик, спешно, аж обжигаемся. За спиной Домна встала, а ей-то чего надо? Мнётся чего-то, то руки под передник, то дёрнется чего подать, то вздыхает невпопад.
– Спаси тебя бог, Домна. Варево твоё всегда вкусно было. Уж не знаю куда дорога заведёт, но тебя всегда добрым словом вспомянем. Ходу, мужики, коней выводить, вьюки грузить, в отсеках – осмотреться.
– Чего?
– Посмотреть – не забыли ли что. Давай бегом.
– Господине, а этого как? (Это – Домна. И показывает на внутреннюю дверь. У двери Хохрякович стоит, в переднике, голова в колпаке чистеньком, кланяется мне с дрожью)
– А и то, забыли. Он же холоп твой. (Это – Ивашко. Губы вытирает, меня просвещает). Слышь, дурень, собирай своё. Быстро. Будешь коней обихаживать, сучья для костра собирать. На походе кощею дело всегда найдётся. Я тя быстро походной науке научу. Ну, или сдохнешь. Баба твоя погрустит, да и замену найдёт. Ты главное-то дело сделал – трубу в ейной печке прочистил. А уж перед чьим поленом теперя ляжки раскидать – она и сама найдёт. Мужичков на усадьбе много – кто-нибудь да огуляет. Тёлочку-перестарочку. Гы-гы...
Интересное дело: Ивашко всегда к Домне был уважителен, за кормёжку благодарил, по мелочи и помочь мог. А тут вдруг такой текст. Или он взревновал? А, он просто уже "на походе". То он был один из рябиновских, местных, а теперь уже гридень, княжий. Воин думает иначе.
"Сеча грянет.
Ворон кружит.
Твой дружок в бурьяне
Неживой лежит".
Даже донские казаки из своих станиц уходили в поход не щадя соседского имущества, а уж эти русские янычары – княжьи гридни... И дело не только в "на войну ходить – буйну голову сложить".
Тут ещё отношение "дояра" к "дойным". А для княжьего все местные: бояре, смерды, челядь, холопы – стадо, отара. Хочу – зарежу, хочу – остригу, хочу – ногой пну. Мекнул-бекнул-кукарекнул? – На шашлык. И плевать Ивашке, что я даже не боярин – он уже в походе, уже не "земский".
И Домна это понимает и принимает. Ещё утром она бы за такие слова Ивашке миску на голову надела. А сейчас стоит – только вздрагивает, слово молвить опасается.
Как говаривал партайгеноссе Штирлиц: "Важно правильно начать разговор. Ещё важнее – правильно его закончить". От себя добавлю: а ещё важнее знать: какое оно – "правильно".
– Домна, парень остаётся при тебе. Помни, ты его в мужья взять обещала. Всё, мужики, ходу.
Солнце ещё не дошло до зенита, когда мы вывели лошадей из ворот усадьбы. Всё население старательно делало вид, что они как-то мимо по делу... Но высыпали все. Виноват, не все. Никого из семейства владетеля, ни Любавы, никого из "верных"... Ну и пофиг, уходя – уходи. "Будет день – будут песни". Только никто не знает какие: песни бывают подблюдные, а бывают заупокойные. Поживём – послушаем.
...
Вышли мы тогда из Рябиновки и пошли в Пердунову весь. Пять мужиков пешком и восемь лошадей гуськом. Лошадки нагружены... "до пера". Слышали, наверное, про пёрышко, которое сломало спину вьючному животному? Ну, вот только такого пёрышка и не было. Как быстро человек барахлом обрастает... Быстрее чем бородой.
Насчёт пяти мужиков – это я погорячился. Я в мужики ещё годами не вышел. Сухан – вообще за человека не считается – зомби, Николай – купчик малосильный, Ноготок – палач-кнутобоец, Ивашко – воин с саблей. Мужиков – нет. Сплошной бродячий цирк. Может, мне в комедианты пойти? В скоморохи-шоумены? Будем... "давать Шекспира". Что вспомню. Единственное, что останавливает – все женские роли мои будут. Как у самого Шекспира в его "Глобусе". В те времена женщина на сцене – недопустимый разврат и порнография. Хоть бы и полностью одетая.
" – Я так не люблю мужчин! Они такие голые!
– Мадам, но они же в одежде!
– А под одеждой?"
Публика в средневековых театрах преимущественно мужская, но думает аналогично. Поэтому все женские персонажи – переодетые мальчики. А вот подросток в юбке и с накладным бюстом – вполне пристойно. Как и натуралистические сцены убийств и страстей любовных в исполнении детских трупп младшего школьного возраста. Были у Шекспира такие конкуренты, весьма успешные, даже в "Гамлете" упомянуты.
Топаем себе потихонечку вдоль реченьки. А там берёза моя стоит. В берёзе – дупло, в дупле – тряпица, в тряпице – от Елены Ростиславовны подарочек. С собой брать – а как спрятать, чтоб никто даже из моих не увидел? Здесь оставить... А ну как вернуться не смогу? Жалко...
"Страшнее жабы зверя нет" – полез клад свой вынимать. Чуть не умер. От страха. Руку туда сунул, а там что-то живое, мягкое, шевелится... Еле отдышался. Инфаркт миокарда смертелен во все эпохи. Палку подобрал, пошебуршил – белка выскочила. Что порадовало – одна. По-фински белка – "орава". Вот они по Хельсинки так и бегают. Хорошо что моя берёза не в Финляндии – а то затоптали бы, не отбился бы. Забрал свой депозит и в сейф – за пазуху. Ненадёжно. Нет тут банковской системы, деньги и ценности девать некуда – только в землю. Россия вообще – страна, где деньги и активы всякие – всегда девать некуда. "Остров сокровищ" размером в одну седьмую всей суши. Территория закопанных ценностей. А также – зарытых возможностей, юностей и талантов.
"Таганка, все ночи, полные огня.
Таганка, зачем сгубила ты меня?
Таганка, я твой бессменный арестант,
Погибли юность и талант
В твоих стенах"
Помесь кладбища с хранилищем и сиделищем. Похороненных со схороненным.
Вот дойду я до Елно. А там – власти. Которые начнут всех трясти. Я, конечно, не девка молодая, чтобы всякий стражник придорожный да приворотный мне за пазуху лазил, но повод "по-шманать"... Да тут, на Руси, хоть на этой "Святой", хоть в моей, которая – не очень, как в зоне – повода не нужно, приказа достаточно. Похоже, мне с таким подарочком от княжны во все города дорога заказана. И в это Елно тоже.
Я там как-то бывал разок. В прошлой жизни. То ли я сам куда-то шёл, то ли нас откуда-то везли. Запомнились только ельник на песках да вывеска "Телегостроительный завод". Ещё где-нибудь мне такой таблоид на заборе не попадался. А у городка и до "телегостроительного" была история. Большая история маленького города.
– Глава 74
Батыево нашествие было катастрофой. Об этом часто говорят, но как-то не прочувствуют. Две трети городов русских были уничтожены. Половина из сожжённого – так и не восстановилась. И это на Руси, которую ещё в язычестве варяги называли "Гардарик" – страна городов. Тот город, который мои современники называют Рязанью, ещё в 18 веке назывался Переяславль Рязанский. А на месте взятого татаро-монголами города осталось село – Старая Рязань. Через восемьсот лет там каждый год находят обломки стрел да обрывки кольчуг.
Средневековые города в Европе – это центры ремёсел, центры производства. Соответственно, всё это – "медным тазом". Хуже Батыя была только "победа трудового народа" – после гражданской войны уровень промышленного производства упал до 3%.
За те три года татаро-монгольского нашествия на Руси погибла треть населения. Как форма геноцида – эффективнее только когда свои своих режут. Смутное время, например. Ну, или торжество демократии в форме распада Советского Союза. И в том, и в другом случае численность населения России уменьшилась вдвое.
Даже земли, впрямую не разорённые ордой, получили такой мощный удар, что дальше и сами деградировали.
Елно тому пример. Ключевой город на одном из важнейших торговых путей – Окско-Деснянском.
Когда-то славянское племя северян шло вверх по Десне. Платило дань хазарам, потом на тех "понаехал" Вещий Олег. "Понаехал" – это не сленг, это точная цитата из летописи.
Стали северяне платить дань Киеву. Город себе новый построили. Так и назвали, по-простому, без заморочек, – Новгород-Северский. С другой стороны, вот уж точно с северной, вышли на Оку вятичи. Между ними остались балты-голядь и угры-мещера.
И всё это стало Русью. И пошли, под единой рукой Великих Князей Киевских торговые караваны с Оки на Десну, с Волги на Днепр. И обратно. В военном деле это называется "рокада", в мирное время говорят – "транспортный переход".
Потом пришли монголы, и всё рухнуло. И это тоже. Некому возить товары. Нет – от кого, нет – для кого. Меркурий Смоленский остановил тумены языческие. Своими сапогами железными да железным же посохом заступил дорогу Батыю. Не дошли татаре до Смоленска. Дорогобуж, через который мы тут пару недель назад бегом бежали – выжгли. И повернули не на запад – по Днепру, а на восток – выкатились к Козельску. "Злой город". Настолько "злой", что четырёхлетний князь Козельский захлебнулся в крови человеческой. Как последний из Багдадских халифов. Кстати, тоже при татаро-монгольском взятии города.
Меркурия провозгласили святым, железки его в Смоленске, в Мономаховом соборе хранились. Шлем потом спёрли немцы, посох – французы. Память о нем... свои затоптали. Меркурий своё дело сделал и упокоился, ему на том свете – всё равно. Память – это забота помнящих. Или – не помнящих. "Иван, родства не помнящий" – это наше, исконно-посконное, кандально-острожное. Вот про девочку Женевьеву, которая Аттилу в Париж не пустила – помнят. А про Меркурия – нет. Ну, значит, нам это и не надо знать. Знать – как врагам дорогу заступать.
На этой земле не было и позднее набегов, таких как на Рязанщину, Черниговщину, Киевщину. По всей Окско-Деснянской дуге каждый год горели поселения и посевы, угоняли людей и скот. А внутри Смоленской земли поганые не появлялись. Вроде бы – живи себе и радуйся. Но рухнули оба "великих русских торговых пути". И стало хиреть княжество.
Сейчас, в этом, в 12 столетии, только по северо-западному ходу, по пути с Днепра на Западную Двину сидит десяток крепостей. Не велики крепостицы, гарнизоны по десятку. Но чуть разбойнички появились – ворота на запор, окрестные мужички уже на стенах с вилами да топорами. Ну и много ли навоюешь, раскусывая эти орешки. А там уже и княжеская дружина на подходе. И куда ты с этих озёр да проток, узких и извилистых выскочишь? Хоть зимой, хоть летом? Болота вокруг, лес непроходимый.
А раз на путях мир, то и идут себе спокойно купцы, денежку платят. За проход – князю. За всё остальное – местным. Корм, товар кое-какой, в дороге нужный, постой, обогрев, работа. Хоть на волоках, хоть на вёслах. Дальше-то выскочат или на Днепр, или на Двину и по течению вниз. А вот тут, в озёрах да болотах, в стоячей воде – очень дополнительные работники полезны.
Не было здесь, в середине Русской земли, в середине торгового пути, татар. А вот концы обрубили. На юге – татары. На севере – немцы. И серёдка – захирела.
Только в восемнадцатом веке уже царь Пётр начал здесь новые пути создавать. Но не по прежним остаткам, а считая версты уже от Москвы и Петербурга. В самом Смоленске пробил через город прямую дорогу от северных ворот до южных. Напрямки. Прямо через дворы монастырей и усадеб боярских. Хорошо хоть сад при Смоленском дворце Алексея Михайловича в стороне остался.
А на речку Гжать пригнал и поселил несколько купеческих семейств, дабы была пристань добрая на торговом пути. На новом пути с севера на юг. В тех местах ещё мальчик один свет увидит. Юрий Гагарин.
Недалеко оттуда, в том же восемнадцатом веке, уже по новым, Петровским путям, будет прорываться из Волжской системы в Днепровскую Кудеяр-атаман. Тот самый, про которого в песне поётся. И, предчувствуя свою судьбу, закопает награбленное где-то на обрыве над широкой поймой невеликой речки Вязьмы. Через полвека и Наполеон где-то в этих же местах тоже закапает награбленное. Ему уже и предчувствовать не надо – казаки и партизаны за каждой ёлкой.
Был такой "третий золотой обоз" на 350 фур в корпусе вице-короля Евгения Богарне. В первых числах ноября 1812 года Сеславин, Дорохов, Милорадович долбят вокруг Вязьмы Понятовского, Нея, Даву. Потом подошла и Старая Гвардия самого Наполеона. В ту же молотилку. Император приказал даже бросить тяжёлые пушки и передать лошадей в обоз. Но в ночь на 4 ноября ударил мороз. И "по утру французская армия недосчиталась многих замёрзших людей и лошадей".
Один из русских писателей девятнадцатого века вспоминает виденного им в детстве в этих местах уже старого, но с гвардейской выправкой, француза-гренадера. Он остался здесь после похода. Не то – по ранению, не то – по заданию. Старик любил летними вечерами выходить на обрыв над Вязьмой и смотреть на заходящее солнце, туда, где Париж, туда, куда ушёл любимый император, приказав присмотреть за казённым имуществом.
Весной 1942 года на этих невысоких обрывах над маленькой речкой появилась команда немецких сапёров. Точнее – и сапёров тоже. Прошлись хорошенько миноискателями. И увезли несколько грузовиков чего-то замотанного. А клады там и до сей поры ищут.
"Ищут давно, но не могут найти
Золото разное. Тонн двадцати".
Лежит оно себе спокойненько где-нибудь в заваленных штольнях какой-нибудь "Альпийской крепости", ждёт новых "сапёров" уже с какими-нибудь "сильно-ультра-интра-ифро-визор-щупами".
Вообще, на Руси с кладами явный перебор. Больше всего, конечно, осталось от последней войны. Вот возле этого Елно в начале шестидесятых двадцатого столетия мужик в селе сильно поспорил с председателем сельсовета. Ну сильно они поспорили. Селянин обиделся, выпил, выкатил из сарая сорокапятку и... "Прямой наводкой, бронебойным, по сельсовету... Пли!". Хорошо – присутственное время закончилось. Хорошо – осколочных не было. Хорошо, когда бревна птичками полетели – никого не зашибло. "Где пушку взял? – Где-где... В лесу нашёл. Там и ещё есть". Дали 4 года "за незаконное хранение огнестрельного оружия". А что, калибр 45мм – не огнестрельное? Статей о терроризме в тогдашнем УК ещё не было, а "враг народа" – не было уже.
А ещё где-то между Москвой и Смоленском закопаны сокровища польского короля Сигизмунда: "Я отправил из Москвы с разнъм добром 923 подводы в Калужские ворота на Можайск...". До Смоленска эта почти тысяча возов майна не дошла. Причём есть интересная подробность: в обозе нет денег. Деньги были нужны королю на месте – он же собирался править Московией. А вот всякие атрибуты чуждого культа, схизматов-православных – основной груз. Московские церкви и монастыри поляки-католики грабили без ограничений.
Клады для историка – половина информации. Только по 9-10 веку – более полусотни кладов. И всё равно – мало. Вот, например, загадка. Летописи дают два основных торговых пути на Руси: "из варяг в греки" и "из варяг в хазары". Первый упоминается часто. По нему даже датчане-крестоносцы в Палестину ходили. Каждый торговый путь сопровождается кладами. Либо сами купцы зарывали в минуты опасности, либо народ, который эти пути обслуживал. Получил от проезжего серебрушку типа дирхем самаркандский и в скрыню его, чтоб владетель или лихие люди не отобрали. Купцу серебро нужно под рукой – для оборота, а оседлому жителю – на чёрный день. Вот и закапывают возчики, гребцы, владельцы постоялых дворов, лодочники, на волоках работники... То серебро, которое от прохожих получено. По этим кладам чётко виден путь "из варяг в хазары". А из "варяг в греки" – не просматривается. Может, летописи врут? Мягко говоря – преувеличивают?
Или вот есть клад. Называется – "Неревский". Найден в Новгороде, точная датировка – 989 год. Закопан на небольшой глубине внутри дома – то есть, предполагалось скоро извлечь. Но сверху следы мощного пожара. Хозяева-погорельцы не вернулись.
Почему? Ведь это не сокровища, не ювелирка, это – оборотные средства, по большей части дирхемы багдадской и самаркандской чеканки. Причём – кусками. Около тысячи таких кусочков. Ногата – это монета. А резана – это монета с обгрызенными краями. Куски, обломки серебряных монет чеканки разных стран – одно из двух основных платёжных средств на "Святой Руси". После Ярослава Мудрого монету на Руси чеканят редко. Бьют куны: маленькие серебрянные брусочки. Прямые – на юге, с горбинкой – на севере.
А владельцы-погорельцы не вернулись по простой и общеизвестной причине. Называется – "крещение Руси". Два дня новгородцы не пускали киевских "крестителей" к святилищам своим. И тогда Добрыня запалил город. А Путята погнал своих бронных гридней на бегущую толпу. Так и сказано в летописи: "Крестили Новгород Добрыня – огнём, а Путята – мечом". Похоже, хозяева клада не только погорели, но и порублены были. Или в Волхов кинуты. Вслед за идолом. Которому с берега кричали: "выдобай боже, выдобай". Не встал этот бог, не поднялся. И добрые люди русские плюнули вслед и взялись следующему служить-кланяться. Пока и этому колокола да кресты с церквей не посшибали. Тоже – добрые русские люди.
А Добрыня сумел сделать редкостную карьеру. Начинал-то с контрабанды и нарушения режима: ввёз на охраняемый объект, на княжий двор, постороннего. Постороннюю. Сестру свою – Малушу. Тайком, спрятав под щитом. Потом сводничеством занялся – подложил сестрёнку молодому господину – княжичу Святославу. И к народившемуся племянничку-ублюдку – в няньки. Точнее – в дядьки. Единственный надёжный человек – единственный кровный родственник. И защитник, и учитель, и во всех делах помощник. И когда братьев Рогнеды резали, и когда мятеж против законного государя и брата подняли... Вот и Новгород, который Владимира поднял, многие годы кормил и защищал, который ему деньги и войско дал – Добрыня крестил. Так "благую весть" принёс... – мои современники могут любоваться обломками закопанных на пожарище дирхемов.
Взглянешь на картину Васнецова, и дрожь берет. Три символа, три русских богатыря. Запойный мостостроитель – Илья Муромец, сводник и поджигатель – Добрыня Никитич, малограмотный качок – Алёша Попович. Цвет земли Русской. Родины моей. Как там, у Шаова под гитарный перебор звучит:
"Эх, мать-перемать, будем петь и гулять
И пить, и любить народ наш буйный"
Вот с такими умными мыслями мы и пришли в "Пердунову" весь. Здесь уже покос начали – народа в селении нет. И самого деда Перуна – нет. Одни детишки да бабы. Самая главная баба – деда Перуна жена. Сама себя называет: "Перунова жёнка". А имени своего не говорит. Ну, это на Руси – нормально. Бабе имя не надобно. Женщин здесь называет... притяжательно. Отвечает на вопрос "Чья?". Сначала по отцу, потом по мужу. Это я Марьяну Акимовну – Марьяшкой зову. Так это – почти интим. Или – только для близких родственников. Их тех, перед которыми на Востоке женщина паранджу снимает. А посторонние Марьяну зовут "Акимовой". Именно так, а не "Акимовной". Бабу по отчеству? – У нас и равноапостольную Ольгу по батюшке не величают. Баба же.
"Перунова" – ну и ладно. Невысокая, широкая. Широкозадая. Про таких говорят – усадистая. Злая. Сперва вроде вежливо разговор шёл: "Как дошли?" да "все ли поздорову?". Но тут Ивашко ляпнул: "Аким Янович сынка с усадьбы выгнал. За разврат с евоной дочкой учинённый". Тут тон поменялся мгновенно: "В весь – не пущу, встанете там, на опушке. Щей у нас на вас не сготовлено..." и вообще – "шли бы вы, люди добрые, дальше, пока на вас собак не спустили".
Я как-то со всеми своими мыслями из третьего тысячелетия несколько смутился. Как-то нормы приличия, правила поведения... Как-то... "незваный гость хуже татарина". Или – лучше? Но все равно – "татарина". А вот для Ивашки ситуация штатная, накатанная. Называется – "открытие приключилось". Открытие рта бабой. Не по спросу, не по делу, не по чину.
– Ты здесь кто? Ты чего сказала? Ты на кого глядишь? Ты почему перед мужем добрым глаз не опускаешь? Рот без спроса открываешь? Ах ты, курва-лярва... Да я счас с твоей спины ремней нарежу. А хозяин придёт – ещё добавит. За позор его перед людьми-соседями.
Ивашко и за саблю хвататься не стал, кулак сперва к носу поднёс, потом легонько бабу в грудь толкнул. Та и села. Удобно – задница широкая. Потом ойкнула и на четвереньках – ходу.
Пока коней завели да развьючили – уже и стол накрыт. Вроде же обедали недавно у Домны. Но у моих – нравы служивые. Есть надо не по времени, а когда есть чего. Ещё один персонаж появился – девка молоденькая. "Девка" – это по годам и мордашке. А по платку – баба замужняя. И к Сухану моему с вопросами. Оказалась – бывшая служанка Марьяши. По весне её вот сюда выдали замуж. Молодка. Такая радостная – аж светится. И животик погладила – намекнула, что не порожняя ходит, и мужем похвасталась – уж он у неё такой-сякой мёдом мазанный. И хороший, и пригожий, и на ангела похожий. Одно слово – Кудряшком зовут. Как-то я после Степко из Сновянки, к местным кудрявым... Опять же: ловить меня из "Паучьей веси" Кудря с сыновьями пошёл. Я, правда, его причёской не интересовался. Но – прозвище... Или это во мне зависть лысого к кучерявому говорит? Или – известная закономерность смены правителей в России в двадцатом-двадцать первом веках? "Нынешний – лысый? При нем – хорошо? Ждём кудрявого".
Ну ладно я, но чего хозяйка от этого щебета кривится, будто кислого укусила? А Сухан на вопросы этой девчушки не отвечает – он только на мой голос реагирует. Пришлось Ивашке объяснять. Насчёт зомбирования. В привычном ему стиле. И про волхвов толпами, и про идолов штабелями, и про медведей стаями. Или правильнее – стадами? Бабы ахают, Николашка свои пять копеек вставляет. Тут уже и пленный волхв Велесов на кресте православном клянётся и сапоги мои целует. Серебро уже пудами в мешки прыгает и само по болоту бегает. А вот это они – зря. Русская народная мудрость на этот счёт формулирует несколько... не мудро: "Умный хвастает золотой казной, глупый хвастает молодой женой, мудрый хвастает доброй матушкой". Мудрости у моих точно нет. И насчёт умности... Как-то мне такая мудрость, хоть она и народная, но... не сильно умной кажется.
Ребятишки мои после второго обеда да активной орально-убивальной ночки с последующим спешным исходом в стиле: "отсюда и... – нафиг" зевать хором начали. Отправил их на конюшню спать пока, а сам Суханом занялся. Ну не дело же когда здоровый муж как дитё малое – постоянного присмотра требует. Надо ему душу возвращать.
С волхвом у меня не получилось – не умеют они. Может, он и найдёт экспертов где-нибудь на Мологе. Но проблема у меня здесь и сейчас. Вот же везёт, как... как попаданцу. Все нормальные люди зомбей боятся и разбегаются. На крайний случай – забивают им в разные места осиновые колья. А мне счастье подвалило: то его в сортир отведи, то смотри, чтобы он лишнего не съел, то сопли вытри. Что одел, что обул, как спать лёг. Вот, комаров от него отгоняй. Такое чувство, что это я у него в прислуге, а не он у меня.