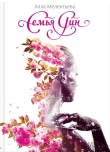Текст книги "Дочери дракона"
Автор книги: Уильям Эндрюс
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 23 страниц)
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Всю ночь мне снится что-то странное. Мама часто говорила, мол, сны показывают, кем ты становишься, когда устаешь быть собой. В детстве я пыталась запоминать сны, но они были довольно бредовые, и я стала бояться своей скрытой сущности. Так что сегодня, проснувшись, я сразу отгоняю сновидения. Я толком не отдохнула, а мне явно понадобится куча сил, чтобы просто пережить этот день. Хорошо бы так и остаться тут валяться, думаю я, натягивая одеяло до подбородка, но потом вспоминаю про гребень с двухголовым драконом и про визит к той старухе. Я заставляю себя встать.
Доктор Ким нам сказал, что в Итхэвон мы отправимся в девять тридцать утра. Папа уже принял душ и почти оделся. Он стоит и бреется, уткнувшись в зеркало. Я говорю ему: «Доброе утро», он что-то бурчит в ответ. Надеюсь, папа согласится мне помочь. Когда он выходит из ванной, я говорю, что все-таки хочу поехать по тому адресу и узнать про гребень, и прошу папу сказать доктору Киму, что я плохо себя чувствую и в Итхэвон не поеду.
– Ты уверена? – спрашивает он, надевая рубашку. – Лучше бы отдать гребень доктору Киму, как он предлагал, и вместе поехать за покупками.
– Папа, ну ладно тебе! – Иногда он забывает, что я все-таки уже не ребенок.
Он вздыхает и соглашается соврать Киму.
– Только будь очень осторожна, – говорит он.
Я отвечаю, чтоб он не беспокоился: когда он вернется из Итхэвона, я уже буду в гостинице. Папа достает из бумажника две сотни долларов и вручает мне, а потом грустно улыбается и выходит из номера.
* * *
Когда папа и остальные участники нашей группы уезжают, я выскальзываю из гостиницы и ловлю одно из вездесущих в Сеуле крохотных белых такси. Я называю водителю адрес, указанный в записке из свертка.
– Вам точно именно туда, мадам? – спрашивает таксист. На карточке с лицензией написано, как его зовут. Судя по количеству «цз» в имени, он китаец. Парень болезненно тощий, отросшие пряди волос закрывают уши.
Я еще раз зачитываю адрес.
– Ладно, – говорит он. – Тридцать пять долларов. Американских. Или тридцать пять тысяч корейских вон.
Дороговато, но мне все равно, и я соглашаюсь. Мы выезжаем на главный бульвар и едем на юг, к реке Ханган. Небо затянуто коричневым маревом. Похоже, день опять будет знойный. Мы едем через деловой район Сеула, мимо больших универмагов «Косни» и «Хёндэ» и десятков модных бутиков – «Булгари», «Гуччи», «Джимми Чу». Кроме бутиков, здесь есть сотни магазинчиков поменьше с неоновыми вывесками на корейском, английском, японском, китайском и еще каких-то языках, которых я даже не могу опознать. Повсюду модные кафе и дорогие рестораны. Уличные торговцы суют свой товар прохожим. На тротуарах полно людей, а на мостовой – машин. Мы переезжаем через Ханган по мосту Мапо. Вокруг нас стоят, как солдаты по стойке смирно, сеульские небоскребы.
Мы переезжаем еще один мост и сворачиваем в следующий торговый район. Водитель явно выбрал маршрут подлиннее – наверное, хочет показать, что не зря взял с меня такие деньги. Да и ладно. У меня поднялось настроение, мне даже нравится эта небольшая экскурсия. Я подвигаюсь к краю сиденья и опускаю окно. Такси сразу наполняют запахи: уличная еда, автомобильные выхлопы и смог большого города. Я вижу неоновые огни, вывески на корейском, людей в одежде самых разных стилей, крошечные автомобили, такси с голубыми крышами, шумные грузовики, у которых по бортам тоже тянутся корейские буквы. Повсюду высоченные жилые здания. Машины гудят, моторы грузовиков ревут, уличные торговцы вопят, атмосфера полна энергии и напора.
Так вот она какая, Корея. Наконец-то я оторвалась от организованной группы и вижу настоящую жизнь страны. Корея – не только дворцы, музеи и туристические местечки, куда нас возили на экскурсии. Корея тут, на этих улицах. Вот где я родилась. У меня с этими людьми общая ДНК. Я начинаю верить, что найду здесь ответы на мучающие меня вопросы.
А еще у меня теперь есть гребень. Он должен значить что-то важное. До сих пор мне некогда было его как следует изучить, поэтому я достаю сверток из сумки и разворачиваю. Поднеся гребень поближе к глазам, я рассматриваю его, ищу, не упустила ли чего. Темно-зеленый, почти черный черепаховый панцирь безупречно сочетается с белой слоновой костью двухголового дракона. Меня снова восхищают изящные зубцы и плавные очертания гребня, а золотая кромка идеально уравновешивает композицию. Интересно, откуда та старуха взяла такую великолепную вещь. Интересно, почему она считает, что гребень должен быть у меня.
– Что это у вас?
Я вскидываю голову. Мы стоим у светофора. Водитель развернулся ко мне, перекинув локоть через спинку сиденья. Он показывает на гребень.
– Ну, просто… подарок, – говорю я.
– Подарок? – переспрашивает он. – Честно? Штука-то непростая! Кому дарите?
– Нет-нет, это мне его подарили. – Я поспешно заворачиваю гребень и сую его в карман.
Парень ухмыляется, демонстрируя плохие зубы.
– Везет же! Непростая штука, очень непростая!
Я отодвигаюсь подальше и спрашиваю, долго ли нам еще ехать. Он говорит, что мы почти на месте, и поворачивается обратно к рулю. Свет на светофоре меняется, и мы снова трогаемся.
Улицы, по которым мы едем, становятся грязнее, а краски вокруг уже не яркие, а унылые. Мы находимся в сеульской версии гетто. Народу тут мало, и я впервые вижу в Корее мусор на тротуарах. Я поднимаю стекло и отодвигаюсь от окна. Мы сворачиваем на узкую улицу, застроенную жилыми домами трущобного вида, и подъезжаем к тротуару. Таксист объявляет, что мы приехали.
Машина стоит перед неприглядной восьмиэтажкой. Из половины окон свисают проржавевшие кондиционеры. Одно окно открыто, и оттуда вниз на улицу бессмысленно глазеет женщина. По тротуару бредет старик, шаркая ногами. Над обветшавшей дверью надпись на корейском и номер 315. Я спрашиваю водителя, точно ли это нужный адрес. Он уверяет, что точно.
– Мне подождать? – спрашивает он.
Я оглядываю грязную улицу и понимаю: если отпущу такси, придется несколько кварталов тащиться по этому жутковатому району, чтобы найти другое.
– Да, лучше подождите, – прошу я.
– Хорошо, – говорит водитель, выключая двигатель. – Пятнадцать американских долларов за пятнадцать минут. Только сначала заплатите тридцать пять за дорогу сюда.
Я достаю из сумки тридцать пять долларов и даю ему, потом вылезаю из такси и смотрю на дом. Предупреждаю таксиста, что не знаю, сколько тут пробуду. Парень отвечает, что подождет сколько надо.
– Пятнадцать долларов каждые пятнадцать минут, – повторяет он.
Я иду к двери. Древнее переговорное устройство с длинным рядом кнопок еле держится на стене. Я достаю из кармана записку и проверяю номер квартиры: 627. Провожу взглядом вдоль ряда кнопок, пока не нахожу нужную, но пока не нажимаю.
Мне как-то не по себе. Все слишком серьезно. И небезопасно, тут папа был прав. Я разворачиваюсь, чтобы вернуться в такси, и вижу, как водитель смотрит на меня. Непростая штука, сказал он. Я сую руку в карман и провожу пальцем по гребню. Вспоминаю, как мне показалось, что дракон вот-вот оживет. Повернувшись обратно к переговорному устройству, я делаю глубокий вдох и нажимаю на кнопку. Через несколько секунд из устройства доносится голос женщины. Она что-то говорит по-корейски.
Я называю свое имя. Повисает неловкая пауза. Я уже начинаю гадать: может, адрес все-таки неверный? Потом голос произносит на безупречном английском: «Добро пожаловать. Я очень рада, что ты пришла». Женщина объясняет, что надо войти в подъезд и подняться на лифте на шестой этаж. От лифта идти к третьей двери налево – это и будет ее квартира.
Переговорное устройство гудит, дверь открывается, и я захожу. Внутри просто ужасно. Резкий свет подчеркивает пятна на ковровом покрытии и потеки на стенах. В вестибюле в стене есть ниша для платного телефона, но от аппарата остался один голый провод. Я вхожу в лифт и нажимаю кнопку шестого этажа. Кабинка рывком трогается с места и ползет вверх. Через несколько секунд я чувствую еще один рывок – всё, приехали. Я выхожу из лифта, иду по темному коридору и нахожу квартиру 627. Нервно сглотнув, стучусь в дверь.
Она открывается, и передо мной стоит та самая пожилая женщина.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
На ней темно-синие брюки с обтрепанными снизу штанинами, чистая белая блузка и тонкий хлопчатобумажный свитер. Густые седые волосы падают на спину. Она смотрит на меня очень серьезно, но в глазах ее чувствуется доброта. У хозяйки квартиры потрясающая кожа. Единственные дефекты, которые я вижу, – это маленький шрам на верхней губе и еще один над глазом.
– Доброе утро, мэм, – здороваюсь я с легким поклоном.
Она изучает меня взглядом – на лице у нее при этом блуждает странная улыбка, – потом отходит в сторону и говорит:
– Можешь войти.
Я вовремя вспоминаю, что надо снять обувь, и захожу в маленькую чистую квартирку едва ли больше гостиной у нас дома. Тут чувствуется сладковатый острый запах кимчхи.
Из мебели есть невысокий комод, проржавевшая раковина, керамическая плита с двумя горелками и маленький холодильник. На дешевом низком столике у единственного в квартире окна стоят две фотографии в простых деревянных рамках. На подоконнике в стеклянной чаше с водой плавает лиловый цветок.
Хозяйка жестом приглашает меня сесть у стола. Осанка у нее идеальная, как у кореянок из высшего общества, с которыми я успела столкнуться в турпоездке. Она не сводит с меня глаз – кажется, оценивает. Я сразу жалею, что поленилась возиться с прической и не надела платье вместо джинсов.
– Ты, наверное, очень разочарована, что не смогла встретиться со своей биологической матерью, – говорит хозяйка. Английский у нее безупречный. Вообще никакого акцента.
Я киваю в ответ и уточняю:
– А откуда вы об этом знаете?
– Я занимаюсь волонтерской работой в приюте, – говорит она. – Уже двадцать лет.
Я быстро соображаю, что как раз чуть больше двадцати лет назад в приют доставили меня. Мне становится не по себе. Я уже жалею, что приехала. Может, удастся побыстрее разделаться со всем этим. Я говорю, что не могу оставить гребень себе и пришла его вернуть.
– Возможно, ты передумаешь, когда услышишь мою историю, – замечает она, по-прежнему глядя на меня в упор. Смущенно поерзав на стуле, я понимаю, что не знаю ее имени, и спрашиваю, как ее зовут.
– Хон Чжэ Хи. И я твоя бабушка по матери.
– Что, серьезно? – изумленно отзываюсь я. Потом принимаюсь разглядывать собеседницу, и вот что я вам скажу. Когда ребенок смотрит в лицо биологическим родителям, он видит себя. Видит, что у него глаза матери или подбородок отца. Но мне целых двадцать лет негде и не в ком было замечать такие вещи. До сего момента. Хотя эта женщина старше меня лет на шестьдесят, сходство очевидно. Она миниатюрная, как и я, и у нее такие же высокие скулы. Я впервые в жизни вижу, что на кого-то похожа, и это приводит меня в восторг. Внезапно мне уже не хочется поскорее сбежать.
Я пытаюсь вспомнить, как положено вести себя с корейской бабушкой.
– Рада познакомиться, мэм, – говорю я, опустив взгляд: помнится, нам рекомендовали так делать, когда мы готовились к поездке. – Как мне следует вас называть?
– Поскольку мы только что познакомились, – говорит она, – тебе, наверное, будет удобнее звать меня миссис Хон.
– Да, разумеется, миссис Хон, – отзываюсь я.
– Насколько мне известно, твоя приемная мать умерла в прошлом году.
Я сразу вспоминаю, как умирала мама, и мне стыдно за свою эгоистичную радость от встречи с биологической бабушкой. Я молча киваю, глядя в пол.
– Терять близких трудно, правда? – говорит она.
– Мама меня любила, – отвечаю я. – И я ее тоже любила. Мне ее ужасно не хватает. Наверное, я поэтому и отправилась в Корею знакомиться со своей биологической матерью. Мне сказали, что она умерла, рожая меня. Как это случилось? Какая она была? У меня есть братья и сестры? Кто мой биологический отец?
Миссис Хон бросает взгляд в окно. Держится она очень прямо, но во взгляде чувствуется грусть.
– У тебя много вопросов, Чжа Ён.
– Чжа Ён? А, так меня назвали при рождении. Родители дали мне имя Анна.
– Ну хорошо, Анна. Ты говоришь, что принесла гребень. Можешь отдать его мне.
Я достаю из кармана сверток с гребнем и кладу на стол. Миссис Хон смотрит на него в упор, но не трогает. Минута, еще минута… и только потом она наконец осторожно разворачивает ткань. При виде гребня она прикрывает рот свободной рукой, а морщинки возле глаз у нее становятся глубже. Мне кажется, она вот-вот заплачет.
– Я теперь редко его достаю, – признается она. – С ним связано слишком много мучительных воспоминаний.
Я придвигаюсь поближе.
– Извините, что спрашиваю, миссис Хон, но если он вам не нужен, почему бы его не продать? За такую вещь, наверное, можно немало выручить, и вы тогда переехали бы в какое-нибудь… ну, более подходящее место.
– Мне часто хотелось именно так и поступить, – говорит она, не поднимая глаз, – но я не могла. Он слишком важен, чтобы его продавать, Чжа Ён… Анна. И его должна получить ты.
– Но доктор Ким – он организатор нашего тура – сказал, что мне нельзя оставить гребень. Якобы есть какой-то закон, что объекты культурного наследия не разрешается вывозить из страны.
Она резко переводит взгляд на меня.
– Ты показала ему гребень?
– Я… мне пришлось, – говорю я. – Доктор Ким увидел его у меня в руках.
– Что он сказал? Вспомни точно его слова.
– Сказал, я должна отдать гребень ему, чтобы он мог передать его кому следует.
Миссис Хон огорченно прищелкивает языком.
– Вот беда. Он может знать, что это такое. – Она заворачивает гребень в ткань и кладет сверток на стол, а потом говорит: – Анна, я пригласила тебя, потому что ты должна сделать две вещи. Во-первых, выслушать мою историю и историю гребня с двухголовым драконом. А какая вторая вещь, ты узнаешь после моего рассказа.
– Конечно, я буду рада послушать ваш рассказ, – говорю я, – но мне не хотелось бы попасть в неприятности.
– Выслушай меня, тогда и решишь, как следует поступить.
Я вздыхаю, гадая, во что ввязалась. С другой стороны, почему бы не остаться? Она все-таки моя биологическая бабушка, а наша группа вернется из Итхэвона только после обеда. Может, мне удастся узнать что-нибудь важное. Ну и потом, что такого ужасного может случиться? Если речь зайдет о чем-то слишком серьезном, всегда можно встать и уйти, а гребень оставить миссис Хон, так ведь?
За окном ветерок вздымает грязь с тротуара. Такси. Я забыла про такси. «Пятнадцать американских долларов каждые пятнадцать минут». Я беру сумку и говорю миссис Хон, что меня ждет водитель: я его пока отпущу и скажу, к которому часу вернуться.
– Сколько времени займет ваша история? – спрашиваю я.
– Она длинная, – говорит миссис Хон, беря в руки фотографии со стола. – Очень длинная.
Я говорю, что попрошу таксиста заехать за мной в три, и жду от нее подтверждения, но она смотрит на снимки и молчит. Я обещаю, что вернусь через пару минут.
Подойдя к двери, я обуваюсь и еду на лифте вниз, к такси. Водитель опускает стекло, когда я подхожу.
Он заявляет, что прождал двадцать минут и с меня тридцать долларов.
– Пятнадцать американских долларов каждые пятнадцать минут, – напоминает он.
Я достаю из сумки тридцать долларов и даю ему, потом говорю, что мне надо еще тут побыть. Сможет ли он приехать за мной позже? Он соглашается и спрашивает, во сколько приехать.
– В три, – отвечаю я.
– Ладно, в три, – отзывается он. – Если придется ждать, пятнадцать амери…
– Да-да, я помню. Пятнадцать американских долларов каждые пятнадцать минут. – Водитель ухмыляется, снова демонстрируя плохие зубы, и медленно уезжает.
* * *
Когда я возвращаюсь, дверь в квартиру миссис Хон открыта. Хозяйка стоит возле стола; за спиной у нее окно, и свет из него выделяет ее фигуру, словно на картине. Она переоделась: вместо блузки и брюк на ней желтый национальный костюм ханбок, похоже шелковый. У блузки длинные пышные рукава, а широкая юбка доходит почти до пола. Волосы миссис Хон заплела и убрала наверх, скрепив узорчатой шпилькой бинё.
– Все в порядке, внучка? Ты готова выслушать мою историю?
Я киваю и говорю, что готова. Я словно во сне.
– Проходи, – говорит она. – Садись и слушай.
Я снова сажусь за невысокий стол. Бабушка передвигает цветок и фотографии в центр стола, поближе к свертку с гребнем. Сидит она прямо, положив руки на колени. Глубоко вздохнув, она начинает ясным и твердым голосом:
– Молодой солдат на покрытом ржавчиной мотоцикле привез предписание от японского военного командования в Синыйчжу…
ГЛАВА ПЯТАЯ
Сентябрь 1943 года. Провинция Пхёнан-Пукто, Северная Корея
Молодой солдат на покрытом ржавчиной мотоцикле привез предписание от японского военного командования в Синыйчжу. Я первая увидела, как он едет вверх по склону холма к нашему дому. За мотоциклом тянулись клубы пыли. Они были похожи на длинный змеиный хвост, который тянулся, извиваясь, до самого моря и до лежащей за морем Японии. Змея подбиралась все ближе, и мне хотелось выбежать и кинуть в нее камнем. Я ужасно жалела, что еще не выросла – мне исполнилось всего четырнадцать – и была слабее мальчишек, а то я швырнула бы в эту змею огромный камень и наконец убила бы ее.
Змею я видела не в первый раз. Солдат приезжал прошлой осенью – привез предписание для моего отца. Там говорилось, что на следующий день отец должен явиться в военную штаб-квартиру в Синыйчжу, а оттуда его пошлют в Пхеньян работать на сталелитейном заводе. Следующим утром, когда солнце еще не успело подняться над тополями, а воздух был совсем холодный, отец уже прощался с нами – со мной, моей старшей сестрой Су Хи и нашей матерью. Кажется, мать заплакала, когда отец, высоко держа голову и с предписанием в кармане, прошел мимо высокой хурмы, росшей у нас во дворе.
Я любила аппа[2]2
Папочка (кор.).
[Закрыть]. Он меня баловал: позволял мне такие вещи, которых мать никогда бы не допустила. Но с того дня я больше никогда его не видела.
Я как раз мыла листья салатной капусты, но когда заметила, что солдат едет к нам, быстро их собрала, завернула в кусок ткани и сунула под раковину. Потом я подбежала к задней двери.
– Су Хи! – позвала я сестру. – Сюда едет солдат на мотоцикле!
Су Хи как раз выкапывала глиняные горшки онгги с рисом и овощами, которые мы спрятали за домом, но тут выпрямилась и взглянула на дорогу. Увидев солдата, она очень серьезно посмотрела на меня, безмолвно призывая к осторожности.
– Задержи его, – велела она, а потом опустилась на колени и поспешно принялась засовывать онгги обратно в ямы, откуда их вынула.
Я вернулась в дом и стала смотреть из окна кухни на приближение змеи. Оставалась надежда, что солдат проедет дальше, к другому дому по этой дороге, но он остановился и прислонил мотоцикл к нашей хурме. Послеполуденный ветерок поймал хвост змеи и принялся играть с ним, вытягивая его, пока змея не исчезла и не остался только человек возле мотоцикла. Солдат снял перчатки и похлопал ими по бедру, так что в воздух поднялись облачка пыли. Потом он запустил руку в кожаную сумку, достал желтый конверт и подошел ко входу в дом.
– Эй! У меня предписание от военного командования! – крикнул он по-японски. – Выходите! Выходите!
Я отодвинула серый кусок брезента, висевший там, где когда-то была наша прекрасная дверь из резного дуба, и встала, скрестив руки на груди.
– Уходи, – отозвалась я на том же языке.
Мундир солдата побурел от пыли. Лицо у него тоже было бурое, если не считать двух чистых кругов вокруг глаз от защитных очков. Очки эти висели у солдата на шее и были не чище мундира. Мне казалось, что он выглядит ужасно глупо: весь в грязи, глаза обведены кругами, будто у енотовидной собаки. Но сам он, наверное, не чувствовал себя глупо и смотрел на меня с таким видом, будто он тут главный.
– Разве так со мной следует обращаться? – спросил он. – Я специально приехал, чтобы привезти вам предписание. – Он протянул мне конверт: – Вот, возьми.
– Лучше брось его в реку Амноккан, а нас не донимай, – сказала я, не тронувшись с места. – Почему это мы всегда должны вас слушаться?
Солдат ухмыльнулся, и его глаза как у енотовидной собаки превратились в узкие щелочки. Он прислонился к стене нашего дома.
– Потому что вы японские подданные. Если не будете подчиняться приказам, вас расстреляют.
– Да лучше бы расстреляли, – буркнула я.
Ухмылка солдата превратилась в оскал. Теперь он уже не выглядел глупо.
– Скоро ты научишься служить Японии.
Я собиралась сказать ему, что я думаю насчет службы Японии, но тут из-за дома вышла Су Хи, вытирая руки о платье.
– Что такое, в чем дело? – спросила она по-корейски. Сестра, в отличие от меня, по-японски не говорила.
– Коннитива[3]3
Здравствуйте (яп.).
[Закрыть], – сказал солдат и, переходя на корейский, добавил: – Вижу, ты еще не научилась говорить по-японски. Может, тебе стоит брать уроки у своей невежливой младшей сестрицы?
Су Хи склонила голову.
– Прошу простить мою сестру. Она совсем юная.
– Не такая уж и юная, – возразил солдат, разглядывая меня, а потом выпрямился и задрал подбородок, как принято у японцев. – Ваш хозяин недоволен урожаем, который вы собрали в этом году. Теперь вы ему задолжали. – Он протянул Су Хи конверт: – Это предписание для вас с сестрой. Тут сказано, как вы можете расплатиться с долгом. Возьми.
Су Хи слегка поклонилась и взяла предписание.
Солдат злобно зыркнул на меня, и я порадовалась, что не успела ему высказать свои мысли насчет службы Японии.
– Ты присматривай за сестрой, – сказал он Су Хи. – Она вас всех может впутать в неприятности. – Солдат кивнул и направился к мотоциклу. Он развернул его, запустил двигатель, подтолкнул и уехал туда же, откуда приехал, а за его мотоциклом на дороге снова поднялся в воздух пыльный змеиный хвост.
– Что там такое? – спросила я. – Что говорится в этом предписании?
Су Хи спрятала конверт за пазуху.
– Не думай о нем, сестричка, – сказала она. – Нам надо скорее замочить овощи, иначе не выйдет утром сделать кимчхи. – Она пошла на задний двор.
– Но что там говорится, онни[4]4
Обращение младшей сестры к старшей (кор.).
[Закрыть]? Солдат же сказал, что предписание касается нас обеих!
– Тихо, Чжэ Хи! – прикрикнула Су Хи, развернувшись ко мне. – Пора уже научиться вести себя как подобает. Матушка прочитает бумаги сегодня вечером, когда вернется с завода. Первой их должна увидеть именно она. А теперь иди и займись делом.
Су Хи вечно меня воспитывала, точно как мама, а я не любила, когда мной командовали. Рассерженная, я вернулась в дом и вытащила из-под раковины салатную капусту. Подготавливая ее для кимчхи, я не переставала думать о бумагах за пазухой платья Су Хи. Наверное, нам приказывают зимой выйти на работу на фабрику. Когда тощий ушастый японец, которому теперь принадлежала наша земля, приезжал за урожаем, он говорил, что властям нужно больше рабочих, чтобы снабжать армию Японии.
– Мы одерживаем героические победы над американцами, – заявил он, залезая в свой старый грузовик, набитый овощами, которые мы с таким трудом растили. – Если будете нас слушаться, мы прогоним грязных американцев обратно за океан, и больше они нас не побеспокоят.
Завелся грузовик с трудом: японец никак не мог переключиться на нужную передачу. Наконец он тронулся и покатил вниз по дороге, а потом вдруг высунул голову в окно – я уж думала, уши у него начнут развеваться на ветру.
– Тогда-то вас и наградят за все ваши жертвы! – добавил он. – Еще порадуетесь, что вы подданные Японии!
* * *
К тому времени, когда над долиной к западу от нас закатилось солнце и наступил вечерний холод, мы с Су Хи уже поставили два горшка овощей вымачиваться в рассоле. Наша ферма была самой большой в округе. В детстве я думала, что наш большой белый дом – дворец, а поля вокруг него – дворцовые сады. Папу я считала императором, маму – императрицей, а себя – их прекрасной дочерью-принцессой. Соседи, которые жили в тесных домах с низкими потолками и возделывали крошечные поля, были просто крестьянами в нашем королевстве. И честно говоря, часто я примерно так с ними и обращалась.
А теперь наш прекрасный дом стоял весь грязный: за ним уже несколько лет не ухаживали. С крыши отвалилась часть черепицы. Поля заросли сорняком. И хотя все лето мы усердно трудились, на зиму нам продуктов не хватало. Скоро маме, как и нашим соседям, придется выпрашивать лишний мешок риса.
Мамы все не было. Мы с Су Хи сели за невысокий столик и поужинали салатной капустой и горсточкой риса. Самая большая комната нашего дома объединяла в себе кухню, столовую и гостиную. Именно тут мама учила нас читать и писать. В глубине кухни стояла огромная чугунная печь, а от нее горячий воздух шел в наш домашний ондоль – систему подогрева полов. Доски пола были отполированы до блеска ступнями нескольких поколений моих предков. В кухне стояли две деревянные табуретки, а чуть поодаль – приземистый столик, за которым мы ели. Спальню от основного помещения отделяли раздвижные решетчатые двери. Там лежали на полу травяные циновки годза и стоял богато украшенный комод, который папа предлагал продать, но мама ему запретила. Теперь я очень радовалась, что мама настояла на своем.
Когда мы поели, Су Хи поставила на стол немного риса и овощей для мамы. Скоро она уже придет – поднимется по дороге на наш холм вместе с остальными женщинами с фабрики. На фабрику по пошиву обмундирования мама ходила каждый день с тех самых пор, как мы собрали урожай. Мама была очень умная – слишком умная для такой работы. Она любила читать. У нас дома хранилось множество книг, и родители очень этим гордились. У нас были книги на китайском и японском, и даже несколько штук на корейском, хотя японцы запрещали их держать. В библиотеке имелись великие романы, труды Конфуция, китайская поэзия. Даже западная литература вроде Шекспира, Толстого и Диккенса в переводе на корейский, китайский или японский.
Мне больше всего нравился Диккенс. Дочитав какой-нибудь из его романов, я часто сидела с закрытыми глазами и пыталась представить себе эксцентричную мисс Хэвишем и коварного Компесона из «Больших надежд» или мощенные булыжником улицы Лондона, Фейгина и Ловкого Плута из «Приключений Оливера Твиста». Это было просто чудесно. Проработав целый день в поле, мы всей семьей читали, пока не начинали слипаться глаза. Именно по книгам я так хорошо выучилась японскому и китайскому.
Еще когда я была маленькая, власти нашей провинции потребовали, чтобы все корейцы говорили по-японски. Мне не нравился этот язык: он создавал впечатление, будто японцы все время сердятся. Может, они и правда всегда сердились, но я не хотела, чтобы мои слова звучали сердито, и не любила, когда мной командуют, так что упорно говорила по-корейски. Мама настаивала, чтобы при японцах мы говорили как следует, но Су Хи языки давались тяжелее, чем мне, так что и у нее были проблемы.
Моя старшая сестра Су Хи родилась в год Кролика, но обычно в этот год рождаются очень красивые люди, а сестра такой не была. В невзрачной и неловкой Су Хи изящные черты отца и матери словно свели друг друга на нет. Зато она была тихая и добрая – ну, пока не начинала меня ругать и воспитывать. Я считала, что мама любит сестру больше, а папа, как мне казалось, больше любит меня, хотя Су Хи он тоже очень любил.
А еще сестра была не очень сообразительная. Иногда она не понимала шуток и сидела озадаченная, пока все смеялись. Папе с мамой приходилось помогать ей с чтением и письмом куда больше, чем мне. А мне они велели учить Су Хи японскому.
Так что сейчас, пока у нас было свободное время, мы с Су Хи устроились на полу, и я решила позаниматься с ней японским.
– Как будет «овца»? – спросила я.
Су Хи долго думала, потом покачала головой.
Я фыркнула.
– Ну почему тебе так сложно запоминать? «Овца» будет хицудзи. А «дерево» как будет?
– Это я помню, – обрадовалась Су Хи. – Моку.
– Точно! Видишь, как просто! Нужно просто придумать способ привязать новые слова к чему-то знакомому. А чтобы правильно произнести слово, нужно притвориться японцем. Как будто ты на сцене театра.
– Вот так? – Су Хи поднялась на ноги, приосанилась и задрала подбородок. – Вы должны говорить по-японски! – пролаяла она по-корейски.
Я захихикала и тоже встала.
– Именно так! Только по-японски. – Я выпрямилась и выкатила грудь. – Вы теперь японские подданные! – сказала я по-японски и погрозила пальцем. – Вы должны слушаться!
Мы обе рассмеялись, стараясь прикрывать рот. Но вскоре смеяться расхотелось, и Су Хи охватила грусть.
– Придется тебе говорить по-японски за меня, сестричка, – сказала она. – Я в основном понимаю чужую речь, но когда надо говорить самой, слова куда-то исчезают.
– Почему я вечно должна отдуваться? – возмутилась я. – Почему я могу выучить японский, а ты нет? Наверное, тебя к нам подбросил белый журавль и ты не моя настоящая сестра.
Су Хи ответила мне улыбкой, но в этой улыбке читалось смущение. Я задела чувства сестры – ее кибун, как сказали бы японцы, – и ее честь. Я поспешно сказала:
– Прости меня, онни.
– Чжэ Хи, – мягко отозвалась она, – ты умная, как мама и папа. Ты удачливее меня, да и красивее. И родилась в год Дракона. Но нужно осторожнее обходиться с тем, что тебе дано.
Она была права. Я не всегда следила за языком, за что мне частенько попадало от мамы, а иногда даже от папы.
– Меня просто злит, что нужно вечно выполнять чужие приказы.
Су Хи обняла меня.
– Не упрямься, сестричка. С японцами надо вести себя осторожно.
– Ненавижу их, – заявила я.
* * *
Над тополями уже всходила полная луна, когда на холм наконец устало поднялась мама. Лицо у нее было перепачкано, прямо как у героев Диккенса после целого дня работы на лондонской фабрике. Мы с Су Хи откинули брезент, закрывавший дверной проем, и побежали к матери. На ней – ее звали Со Бо Сун – было старое шерстяное пальто и выцветший лиловый шарф. Увидев нас, она улыбнулась.
– Детки мои, – сказала она. – Как вы сегодня? – Мама всегда называла нас «мои детки».
– Омма[5]5
Мамочка (кор.).
[Закрыть], омма! – выпалила я. – Сегодня приезжал солдат на мотоцикле, привез предписание! Он сказал, оно для нас с Су Хи.
– Чжэ Хи! – одернула меня Су Хи. – Сначала нужно выказать матушке почтение!
Я вздохнула, но вместе с сестрой поклонилась матери, а потом мы все вместе прошли в дом.
– Предписание? – переспросила мама. И что там говорится?
– Су Хи не разрешила прочитать, пока ты не вернешься, – пожаловалась я. – Можно мы уже посмотрим?
– Сестричка, учись помалкивать! – сделала мне замечание Су Хи. – Матушка голодна. Дай ей поесть.
Мама медленно стянула шарф и села за стол, не снимая пальто. Су Хи поставила перед ней рис и овощи, которые мы приготовили.
– Покажи мне предписание, Су Хи, – велела мама, не обращая внимания на еду.
– Матушка, – возразила Су Хи, – тебе стоит сначала поесть. Мы можем и позже прочитать.