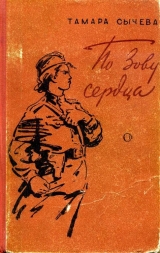
Текст книги "По зову сердца"
Автор книги: Тамара Сычева
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 28 страниц)
VIII
На следующий день мы с Трощиловым уехали в район вместе на совхозной бидарке, – ему нужно было туда по делам.
Я опять стала уговаривать мужа внимательней прислушиваться к советам Зобина, но он накричал на меня. После вчерашнего инцидента с заготовителем настроение у него было очень мрачным.
– Не могу работать! Не справляюсь! Уйду, брошу! Разве нет другой работы?
Никакие уговоры и советы на него не действовали. Чтобы не раздражать мужа, я замолчала, но сама думала: «Как его убедить? Как?»
В воскресенье в совхоз пришла машина. Из кузова с веселым шумом высыпали комсомольцы. Все в совхозе засуетились, забегали по хатам и с большим трудом достали несколько лопат. Но это, конечно, не смогло спасти положение. Просидев полдня без дела, горожане уселись в машину и уехали обратно, ругая того, кто их прислал.
– Сколько могли процапать! – с горечью вздыхал дед Михеич, провожая глазами уезжающих. – А теперь нам помощи уже не дадут больше.
Через несколько дней на расширенном бюро райкома обсуждался самый тревожный в те дни вопрос: о состоянии сельского хозяйства в районе.
Когда я вошла, с трибуны говорил седоголовый коренастый председатель колхоза. Военный китель его был увешан боевыми орденами, а на полевых погонах подполковника поблескивали эмблемы танкиста.
– Товарищи, нам, отставникам, конечно, очень трудно привыкнуть к колхозной демократической дисциплине. – Я взглянула на мужа. – Конечно, работать сейчас нам очень и очень трудно, но мы должны первыми откликнуться на призыв нашей партии, пока подрастет и выучится новое поколение.
В нашем колхозе самый назревший вопрос сейчас – это сенокос. Скот необходимо обеспечить на зиму кормами. Косилки некоторые отремонтированы, а на другие не достали запчастей. Что делать? Дал бы в руки колхозникам косы, их легче достать, и – по старинке вручную. Но кому? Кому же, когда в колхозе нет людей, и одной бригады не соберется, а работы много, площадь большая.
Давно я просил райком, – продолжал председатель. – Помогите в посадке табака, подбросьте людей из города. Вы обещали, товарищ Варалов, сказали мне: жди, в это воскресенье обязательно приедут комсомольцы. Ну и что же? Где ваши люди? От вас я этого не ждал. Раньше вы всегда свое слово держали, – стыдил он Варалова. – Подвели. Мы ждали, но никто не приехал.
Варалов посмотрел в мою сторону и укоризненно покачал головой.
Я покраснела и опустила глаза.
Свою фамилию Трощилов услышал будто неожиданно. Даже вздрогнул и побледнел. Выступление свое начал с того, что ему особенно трудно, потому что не хватает людей. Нужны люди.
Первый вопрос задала Трощилову я:
– Расскажите, как вы использовали горожан, приехавших к вам на помощь в это воскресенье.
Трощилов недружелюбно покосился в мою сторону и вытер платком вспотевший лоб.
– Надо сказать прямо – не обеспечили их лопатами. Люди посидели и уехали.
Сваливать на заготовителя он считал неудобным и поэтому не стал объяснять причин.
К трибуне я шла нерешительно. По дороге встретилась с тревожным взглядом мужа. Лицо у него было хмурое.
На какую-то минуту появилась жалость, но тут же ее перевесило желание высказать, что тревожит меня. Но… Нет, этого говорить нельзя. Дома, когда мы оставались вдвоем, я не раз пыталась внушить ему, что так нельзя: в совхозе ввел военную дисциплину и политику единоначалия. Сам в сельском хозяйстве не разбирается, а советами коммунистов, секретаря парторганизации и специалистов пренебрегает. Не руководит, а по-армейски командует. Часто ошибается, а потом в заключение – скоропалительный вывод: «Не справляюсь, не могу работать!» Но здесь сказать все это я не могла… Рассказала только о том, что вовремя не был приготовлен необходимый инструмент, что, вопреки указанию секретаря райкома, городских комсомольцев в первое воскресенье я послала не в колхоз, как было намечено, а в совхоз, к мужу, чтобы помочь ему, и что в результате этого получилось.
В зале возмущенно зашумели. Среди всех выделялся громкий голос председателя колхоза, бывшего подполковника-танкиста. «И здесь по блату!» – иронически выкрикивал он.
После меня выступил секретарь райкома. Он указал на ошибки многих отставников.
– Конечно, – сказал он, – вам трудно сразу овладеть правильными методами работы в сельском хозяйстве, да еще в таком разрушенном районе, как наш. Но райком надеется, что военная закалка не прошла даром и такие люди найдут в себе силу воли, чтобы перестроиться и понять свои ошибки.
В этот день муж не пришел домой обедать. Сел на попутную машину и сразу же уехал в совхоз.
Но там его ждала новая неприятность. В кабинете директора собрались парторг, агроном и Михеич.
– Вот при вас, товарищ парторг, заявляю директору, – сказал Михеич. – С садом у нас положение опять катастрофическое.
– В чем дело?
– Да вы же смотрите, какие холода наступили, а цвет распускается. На следующую ночь, передавали, будет заморозок, а окуривающего материала совсем мало, и на половину садов не хватит, весь цвет пропадет.
– А цвет сильный, – покачал седой головой агроном.
– Вы же обещали достать, – снова обратился к директору Михеич.
– Обещать-то обещал… Придется ехать в город. Попытаюсь выпросить у военных дымовые шашки.
– А чем окуривали раньше? – спросил агронома парторг.
– До войны хватало всего. Кроме сухого навоза была и гнилая солома, и листва, а теперь все скотина поела, навоза за время войны не накопилось, скота не было.
Директор озабоченно прошелся по кабинету.
– Вы, товарищ Зобин, – обратился к парторгу агроном, – человек здесь новый и не знаете, какую нам огромную работу пришлось провести в садах, а теперь все может пропасть за одну ночь.
– Этого нельзя допустить, – сказал Зобин.
– В общем, товарищ директор, езжайте сейчас же и без окуривающего не возвращайтесь, – распорядился Михеич.
– Есть! – невесело улыбнулся Трощилов.
Отдав распоряжения бухгалтеру, он снова вскочил на коня и скрылся в темноте. Через полчаса его лошадь уже цокала железными подковами по мостовой освещенного города.
Подавая мужу ужин, я заметила, как он хмур и неразговорчив. «Надулся», – поняла я и отошла к окну, вглядываясь в темноту большого двора.
После долгого молчания Трощилов наконец с обидой заговорил:
– Тамара, где же твои чувства, твоя дружба? Как ты могла выступить на бюро против меня?
– Вот это и есть настоящая дружба! – резко повернулась я к нему. – Дома ты меня не хотел слушать, а умолчать я не могла, потому что я – настоящий друг твой! Я должна тебе помочь!
Он вскочил и нервно заходил по комнате.
– Пойми, мне и так трудно. Я не справлюсь!.. Вот сейчас сады могут погибнуть. Нет окуривающего материала. Передали, что заморозки будут, а сады в полном цвету!..
– Как? Разве сады цветут? Ты ведь говорил, что все сады пропали за годы войны и зацветут не скоро? – не без иронии спросила я.
– Да, я так думал, но агроном с Михеичем днями и ночами не выходили из садов с секаторами и разными химикатами, работали, как молодые, и… сады зацвели.
– Да ты просто трусишь, думая, что не справляешься. Я считала, что ты…
Трощилов вздрогнул как от удара.
– Тамара! Что ты говоришь! Подумай! Я ждал от тебя поддержки, сочувствия, а ты… Ну хорошо! – схватив фуражку, он бросился во двор.
У меня сжалось сердце: «Уедет обратно в совхоз. Зачем я его обидела? Он ведь поделился со мной, а я его, как мальчишку, оскорбила!»
Нет, я очень невыдержанна, за это меня и в райкоме ругают. Мне тоже нужно взяться за себя. Как у меня повернулся язык сказать ему: «трусишь»? Это для него самое страшное оскорбление.
«Неужели уедет, не простившись? – тревожилась я, всматриваясь в темное окно, пока не разглядела в нем огненную искорку. Она двигалась. – Курит. Переживает, – догадалась я. – Значит, не уедет. Лягу спать. И он скорее успокоится…»
Потом муж рассказывал:
– Вышел во двор. Сел, закурил. В голове все еще звучало: «трусишь!» На войне не был трусом, столько наград имею, а здесь вдруг растерялся. Но ведь если я уйду из совхоза, кто-то встанет на мое место и будет работать и бороться с этими же трудностями?
А тогда Тамара скажет: «Вот видишь, человек смог, а ты испугался…» Пожалуй, она права, что сердится.
Сидя на козлах, вдруг почувствовал, что в носу и в горле защекотало и запершило, а на глаза навернулись слезы.
Что такое?.. Снизу, из-под ног, над землей ползли клубы густого дыма.
Сначала не понял: «Что случилось? Откуда дым?»
На земле возле козел чернело дымящееся пятно. «Здесь всегда пилят дрова, а я бросил папиросу… Опилки и задымились… И такой дым?! Дым… Дым… А нам нужен дым для садов!..»
Бросился за лопатой и стал сгребать свежие опилки в кучу, потом положил на нее пустую пачку из-под папирос и зажег. Бумага сгорела, оставив вокруг себя расширяющееся темное пятно, от которого сразу пополз по земле, медленно поднимаясь, тяжелый дым. С восторгом наблюдая за тлением опилок, Трощилов думал: «А сколько их пропадает на лесопилках! И как я раньше не додумался до этого?»
Он кинулся в дом, вбежал в спальню:
– Тамара, ты спишь?
Я слышала, но не в силах была преодолеть сон.
– Ты спишь, Тамара? Дым есть! Я дым нашел!..
– Тише, разбудишь Лору! – зашикала я на него, наспех надевая халат. – Что случилось?
Его руки дрожали от волнения, когда он торопливо застегивал потемневшие пуговицы кителя.
– Что с тобой, Петя? Куда ты торопишься? Подожди, согрею завтрак…
– Какой завтрак! – воскликнул муж. – Смотри, ты видишь дым? – Он взял меня за плечи, и повернул к окну.
– Дым? Пожар?! – крикнула я и бросилась к двери, но муж схватил меня за руку.
– Это я сделал окуривание, чтобы сады наши не замерзли! – засмеялся он, сразу забыв о нашей ссоре. – Теперь спешу посоветоваться с агрономом. Что он скажет…
Не успела опомниться, как муж поспешно поцеловал меня и вышел. В окно увидела, как он, пришпорив коня, поскакал по темной еще улице.
– Александр Константинович! – закричал директор еще из сеней. – А если опилками окуривать сады? Такая дымовая завеса получается!
– Опилки? – приподнимаясь на локте, уставился на директора агроном. – В моей практике этого не было, но… проклятый склероз, – агроном потер лоб, – где-то, я слышал, употребляли. Опилочный, опилочный… – твердил он, поспешно одеваясь. – Да, да, совсем забыл, где-то слышал, применяли, но сам не пробовал, не было в том необходимости. Сейчас испробуем. Это идея!
– А я уже испробовал. Я уверен, что это будет замечательно!.. Вы с Михеичем распорядитесь, чтобы у нас на стройке собрали опилки для пробы, их много. А я побегу к парторгу…
Через час дед Михеич уже стоял с лопатой и присыпал землей воспламеняющиеся места в куче опилок.
– Вот это да! Молодец Трощилов, – хвалил директора агроном. – А ведь я совсем забыл, что опилками можно.
В этот день с метеостанции сообщили, что в ближайшие ночи в нашем районе заморозки усилятся. Засуетился агроном. Всех рабочих хозяйства направил в распоряжение Михеича.
Весь день машина возила из города опилки, ссыпая их кучами в садах.
К вечеру все было готово. В каждом саду поставили дежурные посты, раздали им градусники и куски рельсов для подачи сигналов.
Дед Михеич с трубкой в зубах переходил от поста к посту и уже не в первый раз объяснял молодым рабочим:
– Смотрите, як буде ниже нуля – сейчас бейте у рельс, чтобы поджигали кучи! Да следите, як опилки воспламенятся, присыпайте землей..»
– Ничего, – бодро отвечали дежурные, – надымим как нужно!
Ночь эта для всех в совхозе была тревожной. Не могла усидеть дома и я. Поехала в хозяйство. В саду встретила Михеича. Пошли рядом.
– Во время оккупации много деревьев повырубали, а еще больше одичало, – сразу заговорил Михеич о своих любимых садах. – Пять лет никто за ними не смотрел, не до деревьев было, когда люди гибли, – вздохнул старик. – А вот сейчас взялись за них, – ох и трудно нам пришелся тот цвет, – любовно прильнул он морщинистой щекой к нежным белым цветам.
От легкого холодноватого ветерка вершины деревьев зашуршали. Михеич усмехнулся:
– Боитесь, дорогие? Боитесь? – проводил он нежными лепестками по своим сморщенным сухим губам.
Из-за низко проплывающих темных, как тучи, облаков выбилась полная, круглая луна. Казалось, она улыбается и ласкает холодным светом пышные цветущие ветки.
– А я думал, що в цим году не зацветет, сколько ж на вас було павтины та разных вредителей! Повывели, – разговаривал с деревьями старик и, нагнувшись к подбеленному стволу, любовно поправил стружковый пояс, предохраняющий дерево от вредителей.
Потом Михеич присел и предложил мне отдохнуть. Вынул из кармана засаленный кисет, достал из него щепотку табака и, набив трубку, задымил.
– Да, – тяжело вздохнул старик, – сады вернем к жизни, разрушенное тоже построим, а вот погибших детей уже никогда не вернуть…
– Я слышала, у вас два сына в партизанах погибли? – осторожно спросила я.
– Да, – кивнул он, – один совсем еще мальчик был.
И с какой-то печалью в голосе стал рассказывать о том, как в село пришли фашисты и как он со своей старухой проводил двух сыновей в партизаны.
Однажды в такую вот лунную ночь они услышали легкий стук в окно.
«Сашко!! – взглянув в окно, закричала мать и бросилась к двери, на ходу крикнув старику: – Вставай, отец, сынок прийшов!»
Сколько радости, мольбы и слез было в глазах матери! Она не сводила с сына глаз, пока он жадно хлебал холодный борщ. Заметив, что на его рубашке нет пуговиц, она второпях пришила ему маленькую белую пуговицу, – другой не оказалось.
«Выйду прислухаюсь, – сказал старик. – В деревне немцев много, щоб не пидследили».
В эту ночь они со старухой покинули дом и ушли с сыном в лес. В отдаленном лагере там жили старые да малые. Лесные ночевки, холодная и голодная зима в лесу – все было очень трудно, но возврата в село не было. Партизаны часто уходили в походы, и многие из них не возвращались. Не вернулись однажды и оба сына Михеича. Нашли их под снегом около города после ухода немцев, среди изуродованных трупов партизан. Старуха по белой маленькой пуговичке на черной сатиновой рубахе узнала младшего – Сашка, а Федора – по широким плечам. На спине его была большая пятиконечная звезда. Так геройски погибли сыновья старого Михеича.
На глазах старика блеснули слезы. Утирая их потертым обшлагом фуфайки, он вздохнул и хотел подняться, в это время где-то вдалеке раздался звон, за ним еще и еще, и, тревожно перекликаясь, зазвонили всюду.
Михеич быстро встал, осмотрелся. Лунный свет рассеивал надвигающуюся зарю, в холодном утреннем тумане, казалось, дрожало ароматное цветенье.
– Пойдемте! – сказал старик и поспешно направился к главному посту.
Присветив фонариком градусник, качнул головой:
– К двум приближается. Давно надо было задымить.
– Только что был один градус. Быстро понижается, – сказал дежурный.
По саду забегали с горящими факелами.
Тяжелый серый дым, сначала медленно стлавшийся по земле, стал подниматься кверху, окутывая цветущие кроны деревьев. Михеич не отходил от градусника, с тревогой посматривая на него. Температура понизилась до трех градусов мороза.
Через час весь сад был затянут серым дымом. Смешиваясь с предутренним туманом, он уплывал в высоту. На востоке пролегла красная полоса зари и отразилась на посветлевших облаках.
– Пошло на повышение! – радостно крикнул Михеич и, поручив дежурному следить за температурой, позвал меня на другой пост. Там мы встретили Трощилова с парторгом. Они тоже всю ночь провели в садах, обходя посты.
– Ну, пронесло, – облегченно вздохнул подошедший агроном.
Через несколько дней Трощилов забрал из подвала выданное ему под отчет зерно. Выяснилось, что двухсот килограммов не хватает.
– Двести килограммов? – схватился за голову секретарь райкома.
– Будем судить! – кричал мужу начальник, которому он оставлял второй ключ.
– За то, что Трощилов не взял ни крошки государственного хлеба, я головой поручусь, – говорила я следователю. – Да, он допустил оплошность, а эти жулики и спекулянты использовали его неопытность.
То же я доказывала секретарю обкома партии. «Разберитесь!» – просила я его.
И разобрались. Виновники этой истории совершили еще немало других темных дел. Они были разоблачены и наказаны по заслугам.
После этой хорошей встряски и в результате спокойного, но твердого влияния секретаря парторганизации совхоза Зобина Трощилов работу свою в совхозе перестроил в корне. Прежде всего установил новый порядок. Теперь бригадиры ежедневно отчитывались о проделанной за день работе, а потом все, собираясь у директора, совместно решали наиболее важные совхозные дела.
IX
– Мама, солнышко, – проснувшись, радостно пролепетала Лора, жмурясь и протирая пухлыми кулачками сонные глаза.
Соскочив с кровати, она выбежала босиком на крыльцо и, сморщив маленький веснушчатый нос, опять зажмурилась от ярких лучей.
– Какое солнышко! – радостно смеялась она, протягивая ручки навстречу ласковым лучам. – Мама, когда была война, солнышка не было?
– Как не было? Было, доченька, – ответила я.
– Нет, не было, не было и не было, – сердито затопала она ножкой. – А теперь войны никогда больше не будет и всегда будет солнышко? – широко раскрыв серые глаза, смотрела на меня Лора.
– Конечно, войны не будет и будет солнышко, – поняла я тревогу ребенка.
– А почему? – не унималась Лора.
– Потому что люди не хотят войны, не хотят умирать.
Я догадалась, что мои воспоминания о войне, которыми делилась вчера вечером со стариками в присутствии дочери, оставили след в ее сознании.
– И ты больше не будешь из пушки убивать фашистов? – подумав, опять спросила девочка.
– Нет, не буду, доченька.
– А почему? – снова посмотрела она вопросительно на меня.
– Потому что их уже нет.
– Ты уже всех убила?
– Да, – рассеянно ответила я.
– А почему? – не отставала дочь.
– А потому, что они убивали наших маленьких детей. Ты ведь слышала, как я вчера рассказывала?
– Да, – прошептала она задумчиво, не сводя с меня глаз, а уже через минуту опять, протянув к солнцу руки, с обычной детской беспечностью прыгала по двору, потом побежала к воротам, где белело несколько ромашек.
«Как хорошо, – подумала я, входя в комнату, – когда дети могут радостно встречать по утрам солнце».
Взглянув в окно, я увидела, что во двор вошел военный в новеньком, щегольски обтягивающем фигуру кителе. Присев перед Лорой на корточки, он стал о чем-то расспрашивать ее.
– Лора, – донесся до меня ее звонкий голосок.
Прямые плечи и широкая спина военного показались очень знакомыми. Сердце забилось. Я бросилась к двери.
– У меня есть бабушка, дедушка, мама и папа, – снова донесся до меня голосок дочери.
– И папа есть? – удивленно спросил человек. Знакомый взволнованный сейчас голос кольнул мне сердце.
Передо мной, сверкнув черными глазами, во весь рост поднялся Гриша. Распахнувшиеся в первый момент для объятий, его руки медленно опустились.
– Ну, здравствуй! – сказал он, пожав мою протянутую руку.
– Как ты нашел нас? – справившись с волнением, спросила я.
– Нашел, – сухо ответил он. – И уже успел узнать, что у Лоры есть папа.
– Пойдем в комнату, – пригласила я и, взяв за руку Лору, дрогнувшим голосом строго сказала: – Ну-ка, быстрее умываться и завтракать!..
– Где же твой муж? – вызывающе спросил Гриша, усаживаясь поудобнее в кресло.
– На работе, – ответила я и, чтобы скрыть снова охватившее меня волнение, предложила: – Гриша, поешь с нами?.
Пристально наблюдая за мной из-под смоляных нешироких бровей, он молчал.
– Давай завтракать, а то я спешу на работу, – придвинула я к нему тарелку с кашей, как будто не замечая его тяжелого взгляда.
– Ты счастлива? – глухо спросил он, отставляя тарелку.
Я поняла, что большого разговора не миновать, и решила говорить напрямую.
– Зачем приехал?
– За тобой и Лорой, – твердо, не отводя глаз, ответил он.
Больно сжалось и заныло у меня сердце. Вот он опять передо мной, мой Гриша. Он искал нас, приехал за нами, а я встретила его, как чужая. Хотелось броситься к нему, забыть все, что произошло. Он все такой же бодрый, подтянутый, и широкие суконные галифе, и облегающий его стройную талию китель: – все такое же щеголеватое, как было до войны. Только погоны на плечах да медаль «За Победу» на груди напоминали, что прошла Великая Отечественная война.
Гриша встал и нервно зашагал по комнате, потом остановился у маленького стенного зеркала. Провел рукой по волосам, по выбритому до синевы подбородку и самоуверенно проговорил:
– Интересно повидать твоего мужа. Он красивый?
В эту минуту передо мной всплыло мужественное, смуглое лицо Трощилова, и мне стало обидно за него.
– Внешняя красота не определяет души человека. Когда-то в молодости именно эта внешняя красота увлекала меня, и за ней я не заметила одного большого недостатка – безволия.
– Знаешь, Тамара, не будем ссориться, не за тем я приехал сюда.
– А зачем же?
– Я уже сказал – забрать вас.
– Забрать? Что значит – забрать? – вспыхнула я. – Что я – вещь, которую можно и на дальнюю полочку отложить, а когда нужно – взять. Нет, я не вещь, я человек.
– Но я же твой муж!
– Был когда-то.
– Посмотрим, – угрожающе усмехнулся он. – Вы что, вместе служили в армии?
– Да, воевали в одной дивизии, от Курской дуги до Праги, – не без гордости ответила я.
– Ишь, вояка! Как он смел разбивать семью? – продолжал возмущаться Жернев. – Ничего. Вот я с ним поговорю!.. Нет, я не верю, что ты могла меня разлюбить, Тамара! – после паузы уверенно продолжал он и опять заходил по комнате, поскрипывая новенькими сапогами.
«Такая самоуверенность! Откуда?» – подумала я.
– Так любила и сразу разлюбить? – недоверчиво заглянул он мне в лицо.
Я снова почувствовала, что теряюсь, слезы застилают глаза, и голос не повинуется. Сжав губы, я молчала.
– Настоящая любовь так быстро не проходит, Тамара, когда любишь, можно многое простить.
Мне показалось, что он почти прав, что я действительно готова многое простить, и, подавив волнение, я проговорила:
– Знаешь, Гриша, твою личную измену я могла бы простить, но измену народу – не могу. А труднее всего забыть обиду, которую ты в своем письме нанес женщинам в серой шинели. И если мы сойдемся, ты всю жизнь будешь незаслуженно упрекать меня этим…
– Но ты меня еще любишь? – заметив слезы, торжествующе проговорил он, притягивая меня за плечо.
– Нет, – сказала я твердо, уклоняясь от его объятий, – не люблю.
Чтобы кончить неприятный разговор, я спросила:
– Расскажи лучше, как ты жил последнее время. Ведь после войны два года прошло. Где скитался?
– Я жил неплохо, – вскинул голову Гриша. – Когда с тобой расстался, мы вскоре уехали на фронт. Прорывали долговременную оборону фашистов. Я был при штабе, а вскоре мой полковник уехал в Москву и забрал меня с собой как адъютанта. Там мне вернули звание, правда, с понижением на одну звездочку, – кивнул он на свой погон. – После этого я служил в саперном батальоне, а теперь скоро год как демобилизовался. Из Москвы поехал искать по свету, – засмеялся он, – «где оскорбленному есть чувству уголок», и вот уже год ищу.
– Гриша, неужели тебя не волнует, что в стране такая разруха и так нужны везде люди, а ты отдыхаешь? Ты ведь инженер-строитель, полон сил и здоровья. Твоя специальность сейчас так нужна.
– Нет, Тамара. Сначала отдохну, полечусь. Деньги у меня есть. Построю себе домик, все равно теперь мне некуда стремиться, все пути закрыты.
– Это почему?
– А потому, что генералом мне не быть, директорского кресла не видать и «красненькой книжечки» никогда не иметь.
– Суждения, Гриша, у тебя стали не наши. Если ты только о карьере думаешь, то, конечно, коммунистом тебе никогда не быть. Карьеристам в партии не место.
– Я еще докажу партии и всем, но вначале надо подумать и о себе…
«Нет, только внешность осталась та же, а Гриша стал совсем другой», – подумала я.
– Ну, у меня времени нет, – сказала я Жерневу. – Иди посиди у стариков, а я отведу Лору в детский сад. Мне надо на работу.
– А когда я смогу увидеться с твоим мужем?
– Если хочешь, заходи вечером, – сухо ответила я, прощаясь с ним у дверей.
В райкоме не утерпела, рассказала товарищам о приезде Гриши, о нашем разговоре.
– Что мне делать?
– Вспомнил, – усмехнулась подруга. – Долго искал «чувству уголок». Война давно закончилась, почему же он не работает?
– Ему тоже трудно теперь, он, наверное, голову потерял, не знает, с чего начинать жизнь, – оправдывала я его.
– Не беспокойся, не потерял. Если он в «красной книжечке» ищет личную выгоду, значит, он и в тебе ищет не любовь, потому и приехал.
В глубине души я и сама чувствовала, что не любовь привела Гришу ко мне, а что-то другое, но намеки на это мне показались обидными. Не таким я знала и любила его, и теперь не хотелось осквернять этого чувства. Да ведь он придет вечером, и опять предстоит трудный разговор.
Я подняла телефонную трубку и позвонила в совхоз:
– Петя, приезжай пораньше домой, у нас гость. Приезжай обязательно.
– Хорошо, – ответил муж, но кто этот гость, не спросил, словно что-то почувствовал.
Работать в этот день я уже не могла и после обеда осталась дома. Со стариками пришел и Жернев.
– Буду ждать твоего мужа, – усаживаясь, решительно сказал он.
Солнце уже ушло за лес. Утопающий в зелени городок стал оживать после дневного зноя. Мимо окон с мычанием возвращались с пастбищ коровы, овцы, пробегали загорелые ребятишки. Стало темнеть, а Трощилова все не было.
Гриша заметно нервничал. Часто посматривал на часы.
– Что же он не идет, твой муж? – насмешливо улыбнулся он, когда часовая стрелка на ходиках показала семь.
– Он много работает, – проговорила я и в этот миг увидела в окно Петю. Вышла ему навстречу.
В запыленных кирзовых сапогах, в полинялой от жаркого крымского суховея гимнастерке, с обветренным, утомленным лицом, он остановился на пороге. Вопросительно посмотрев на меня, тихо спросил:
– Кто приехал?
– Незваный гость, – шепнула я.
– Жернев? – сразу угадал он и, схватившись за косяк двери, огорченно добавил: – Я это предвидел.
– Он ждет тебя, умывайся быстрее! – поторопила я мужа.
Внимательно посмотрев в мои глаза, он внушительно сказал:
– Подумай хорошо, Тамара. Поступай так, чтобы не жалела потом.
Опасаясь ссоры, я решила пойти на небольшую хитрость. Когда Трощилов помылся, я настояла, чтобы он надел свой парадный китель со всеми наградами.
Пока он умывался, я зубным порошком до блеска протерла большой орден Александра Невского, орден Отечественной войны, медали, сухой суконкой вытерла эмаль ордена Боевого Красного Знамени и поцарапанный осколком мины орден Красной Звезды.
Когда Трощилов вошел в комнату, Гриша невольно вскочил и вытянулся.
– Знакомься. Мой муж, – сказала я ему и подумала, что не ошиблась.
С лица Жернева моментально сползла надменная улыбка.
Вначале они неприязненно и в упор взглянули друг на друга, потом быстро и решительно шагнули навстречу и холодно пожали руки, громко назвав свои фамилии.
Медлительный Трощилов не сразу уселся, и Жернев тоже топтался на месте, не решаясь сесть первым.
– Садитесь! – муж указал гостю на противоположный конец стола.
Разговор не вязался. Жернев держался скованно, но после первого стакана водки, им же принесенной, оживился и стал разговорчивее.
Трощилов к обеду не притронулся, много курил, глубоко затягиваясь дымом, и временами каким-то щемящим сердце взглядом посматривал на меня.
Отвечая на вопросы моих родителей, Жернев стал доказывать, что ему пришлось пережить немалые трудности в оккупации, когда он работал у немцев в строительной конторе, что он там подвергался опасностям и унижениям.
– А где ты работал после войны? – спросил его отец.
– Пока нигде, искал пристанища, присматривался.
– Выходит, у немцев ты сразу нашел пристанище и работу, а сейчас не можешь найти! Сейчас, значит, пусть другие работают? – сердито насупив брови, вспыхнул отец.
Жернев, опустив глаза, смущенно сгребал в кучку на скатерти крошки хлеба.
– Я, папаша, уже отпетый человек, веры мне теперь не будет нигде.
– А ты докажи. Иди вместе со всем народом, не стой в стороне. Поезжай на какую-нибудь большую стройку, покажи себя.
– Я так и думаю сделать, – усмехнулся Жернев, – надо все сначала зарабатывать: и доверие, и авторитет, и «красненькую книжечку» – без нее я ничто.
Под солидным Трощиловым заскрипел стул.
– А я без нее, – сказал старик, – всю жизнь прожил, работал и считал, что я большевик и должен еще больше сделать.
– Эх, батя, не говорите. Все равно уже не то, далеко не пойдешь, – вздохнул Жернев. – Хорошего места не получишь. А сюда я приехал за своей семьей, и на моей дороге никто не должен стоять. Она моя жена! – кивнув на меня, остановил он вызывающий взгляд на лице Трощилова…
Тот молчал, глядя перед собой. Потом глухо проговорил:
– Я с Тамарой два года воевал, полюбил ее, но сказал ей об этом только после войны, когда вы от нее отказались. Я сам читал ваше письмо о женщинах в серых шинелях, – прищурился он. – Если сегодня вы с ней помиритесь, – добавил он тише, – мне, конечно, будет тяжело, но я отступлю и на вашей дороге стоять не стану.
Все время прислушиваясь к словам Жернева, я не могла поверить, что это говорит он, мой любимый, честный, справедливый Гриша, какого я знала в молодости. А ведь я любила того, прежнего Гришу.
Мы и тогда, в первые годы нашей с ним совместной жизни, нередко спорили. Он был бесхарактерный, ему не хватало твердости, самостоятельности, умения организовать себя на выполнение какого-нибудь дела, задания. Всегда был в подчинении у кого-то, под чьим-то влиянием. Я замечала этот недостаток и всегда ему говорила: «Нет принципиальности комсомольской».
Таким и остался он на всю жизнь. Да, я не ошиблась тогда, когда разговаривала с ним в казармах рабочего батальона. Он мне чужой.
– Ну что же ты молчишь, Тамара? – сказал отец.
Я очнулась от размышлений.
В ожидании ответа Жернев, вскинув голову, настойчивым взглядом пристально посмотрел на меня.
Трощилов, наоборот, опустил голову и отвернулся.
– Я никуда не поеду, – сказала я. – Я останусь с тобой, Петя.
Жернев встал, с грохотом отбросил стул, гордо выпрямившись, произнес:
– Тогда мне здесь больше делать нечего.
И, взяв фуражку, вышел…
Больше я Жернева не видела. Однако судьба его продолжала интересовать меня. Видимо, те уроки, которые преподнесла ему жизнь, заставили его многое пересмотреть, понять. И он нашел в себе силы измениться. Много лет он работал рядовым инженером на одной из крупнейших строек страны. Проявил себя как один из лучших, фотография его была помещена на Доске почета стройки. Сейчас ему доверили руководство большой стройкой. Самоотверженным трудом искупил Жернев свою вину перед Родиной.








