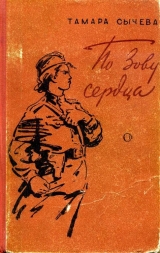
Текст книги "По зову сердца"
Автор книги: Тамара Сычева
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 28 страниц)
III
В санатории я быстро поправилась, окрепла, и через месяц вместе с майором Трощиловым, после «капитального ремонта», мы возвращались в часть.
Забившись в угол машины, я с волнением думала: «Как встретят меня бойцы? Возможно, они уже знают об изменениях в моей жизни. Как они к этому отнесутся?»
Тем временем машина уже приближалась к лесному массиву, где стояла наша дивизия.
Свернув в лес, мы встретили группу бойцов с пилами и топорами в руках. В одном, самом высоком и плечистом, я сразу узнала старшину Немыкина. Машина резко затормозила, и майор спросил:
– Куда путь держите?
– В деревню, товарищ майор, – поприветствовал нас старшина.
«Что он подумал, увидев меня у майора в машине? – жгла меня мысль. – Баба, скажет».
– Идем помогать венграм чинить хаты, – добавил старшина, не сводя глаз с майора.
Хорошо, что среди этой группы нет моих бойцов. Как бы я им в глаза взглянула? Осудят, скажут – только война закончилась, а она уже замуж. Боится – не успеет.
В части теплые приветствия подчиненных, добрые шутки товарищей и душевные поздравления немного рассеяли мои опасения, но тревога в душе осталась. Этой тревогой я поделилась с майором.
– Конечно, так не годится, – сказал он. – Надо узаконить наши отношения.
В этот же вечер он взял разрешение на наш брак у командира дивизии генерала Бочкова.
– Пара боевая, – смеялся генерал, – оба гвардейцы, артиллеристы.
На другой день по дивизии зачитали приказ о нашем бракосочетании.
А вечером, в ближайшем населенном пункте, в штабе нашей дивизии генерал Бочков устроил офицерский вечер, посвященный молодоженам, которых в дивизии было уже немало. На вечер были приглашены члены местной венгерской власти. Большинство из них были коммунисты, бывшие политические заключенные, до прихода советских войск томившиеся в гестаповских застенках.
На вечере они сказали много благодарственных слов нашей армии и советскому народу. Обещали бороться за мир и содружество наших стран. После торжественной части началось веселье. Много было спето наших народных и боевых песен, много высказано хороших пожеланий молодым.
Допоздна, вперемежку со звуками военного оркестра, на венгерской земле разносилось наше русское «Горько!».
Все лето строительное подразделение нашей дивизии помогало местному населению ремонтировать разрушенные войной дома, за что венгры были очень нам благодарны. И только глубокой осенью, когда в лесу стало холодно и сыро и лагерная пора подходила к концу, на одном из совещаний офицерского состава генерал сказал:
– Здесь нам больше делать нечего. Получено разрешение собираться домой. Едем в Россию.
– Отбой! – зычно скомандовал в этот день своему расчету командир орудия Денисенко. – Довольно нам здесь хаты чинить, нас свои дома ждут. Там наши жинки уже замучились одни.
Через два дня наш эшелон неторопливо полз по узким, извилистым, всегда сырым ущельям Карпатских гор. Эхо разносило по диким, заросшим лесом вершинам хриплые гудки и пыхтенье узкоколейного паровозика.
Зато как весело и шумно было в вагонах! Проезжая страны, освобожденные нашей армией, мы узнавали знакомые места, где год – полгода тому назад проходили с тяжелыми боями, оставляя могилы боевых товарищей.
На каждой станции выходили нас встречать и провожать тысячи людей – наших друзей: мадьяры, австрийцы, чехи, словаки, румыны. Они подходили к эшелону и, снимая шляпы и кепки, кланялись, кричали слова благодарности:
– Спасибо, товарищи!
– Слава русским героям!
Девушки дарили бойцам сувениры и брали адреса, чтобы переписываться…
В Венгрии, на станции города Ньиредьхаза, нас восторженно встречала молодежь. Жали нам руки, фотографировали, бросали в вагоны цветы. Меня тоже окружили девушки с цветами. Я им рассказала о подвигах бойцов, сражавшихся за этот город и на реке Тиссе. Прощаясь, они протягивали мне букеты, но я попросила отнести эти цветы на могилу наших бойцов, похороненных на площади в городе Ньиредьхаза. Я назвала им фамилии бойцов и в их числе имя отважного сибиряка, старшего сержанта Грешилова.
Девушки обещали носить цветы на братскую могилу наших товарищей.
Уже несколько гудков дал наш паровоз, а провожающие все не отходили от вагонов, прощаясь с нами как с родными.
И снова за окнами вагонов потянулись чужие поля, серые деревушки. Оборванные детишки махали вслед поезду худыми ручонками. Сидевший у окна старший сержант Денисенко вдруг закричал:
– Слухайте, гвардейцы! А вон то место, где в прошлом году сильные бои с танками у нас были. Помните, какая грязюка была, по колено. Еще волов впрягали в пушки и на руках пять километров тянули, вон на ту гору!
Все бросились к окну.
– Да, да! – сказал наводчик Юркевич. – Здесь нас на рассвете атаковали танки.
– А вот под той горой немецкий танк моего земляка Степана раздавил, – грустно сказал старшина Немыкин и снял пилотку.
– А недаром мы воевали на этой земле, братцы. Смотрите, как увеличились крестьянские посевы, – показал в поле Юркевич. – Помните, какие узенькие полоски были, когда мы в прошлом году проходили здесь. Ты, Денисенко, еще смеялся, говорил, что у тебя дома на огороде грядки и то больше, чем у них посевы. А теперь смотри, какие поля широкие, почти как у нас.
– Да, – сказала я, рассматривая пробегающие поля. – Помещики удрали, а земля перешла к крестьянам, вот и увеличились у них наделы.
– Смотрите, товарищ лейтенант, они машут нам, вон те, что за сошкой идут, – сказал Денисенко.
Я выглянула в окно. Невдалеке, на черном распаханном поле, стояли люди в самотканых белых штанах, в рубахах с черными жилетами и в шляпах с длинными перьями. Они махали нам, потом прикладывали руку к сердцу и кланялись.
– Вот бы им теперь наши тракторы ЧТЗ, – мечтательно проговорил Юркевич. – Тогда бы они зажили…
Юркевич вырвал из блокнота лист бумаги и крупными буквами написал:
«Братья, мы вам тракторы наши пришлем, вам будет легче».
И к бумаге приколол красноармейскую звездочку.
– Давай я брошу, – взял бумагу Денисенко.
Тяжелый порывистый ветер рванул лист и понес его к удалявшейся группе крестьян.
– Пришлем тракторы! – кричали в окно бойцы, размахивая пилотками.
…И вот мы на Родине. В первую очередь демобилизовали сверхсрочников, рядовой и сержантский состав, а также ограниченно годных по здоровью офицеров.
В эту первую очередь попала и я.
Провожая меня, Трощилов сказал:
– Жди, Тамара, скоро приеду.
IV
На рассвете проводник громко объявил:
– Подъезжаем к Симферополю.
Спрыгнув с полки, я жадно всматривалась в окно. Из темноты выплывали знакомые места. Вот станция Сарабуз. «До войны она утопала в зелени, а теперь одни развалины», – с горечью отметила я.
С нетерпением дожидалась конца стоянки. Двинулись дальше. На фоне светлеющего горизонта уже обозначился темный силуэт города. Взволнованно забилось сердце – родной Симферополь! Но что это за огни? Да это ведь лесопильный завод «КИМ»! Светятся цеха. Ночная смена еще работает. И сразу вспомнились картины ранней юности.
Вот виднеются цеха завода. Все родное, знакомое. Здесь я начинала свою трудовую жизнь.
Уже в последнем классе школы нас, молодежь, волновали призывы нашей партии и комсомола: «Все на строительство социализма, на выполнение пятилетки!» И комсомольцы нашего класса решили отозваться на этот призыв. Закончив семилетку, я тоже решила пойти работать, а учиться дальше без отрыва от производства. Но подросткам без специальности в те годы не так просто было найти работу, и мне пришлось долго ходить на биржу труда. Рабочие требовались, но брали больше специалистов.
В одно зимнее утро в толстом простенке биржи открылось маленькое деревянное окошко, и знакомый уже мне голос спросил: «Кто с комсомольской путевкой?»
Я подала документы.
– На лесопильный завод «КИМ» требуются подручные!
Выбора не было.
Не раздумывая, я взяла направление и, не заходя домой, помчалась оформляться.
На заводе, когда вышла из конторы, меня сразу оглушил шум, скрип, визг режущих пил и гул моторов.
– Работать нам больше приходится в ночной смене, с двенадцати до восьми утра, днем не хватает электроэнергии, – сказал мне сменный мастер, знакомя с бригадиром комсомольской бригады.
Сметая опилки со станка, бригадир стал объяснять мне его устройство.
– Это станок «циркулярка», – провел он рукой по гладкой, как у стола, поверхности, в середине которой вертелась круглая, блестящая пила. – Сейчас двухметровые доски режем на рейки. Доски надо подносить со двора, а рейки складывать у станка. Чаще выбирать опилки. В общем, поворачиваться у нас нужно быстро, чтобы мотор не стоял ни минуты. В этом году мы, комсомольцы, взяли на себя большие обязательства. Бригада у нас дружная. Все за одного, один за всех… Приходи к двенадцати ночи, познакомишься с ребятами.
На комсомольский учет меня брал в завкоме комсомола секретарь Борис Серман.
С сомнением взглянув на меня, он спросил:
– С учетом торопишься, а выдержишь ли? Не сбежишь?
– Не сбегу, хочу работать, а учиться буду без отрыва от производства, – тихо проговорила я, протягивая ему комсомольский билет.
В цехе под открытым навесом меня оглушил скрип пил-«циркулярок» и рокочущий гул электромоторов. Задувающая под навес метель кружила в воздухе легкий снег, смешивая его с горячими опилками. Электрические лампочки, красные полотнища лозунгов на стенах и лица людей – все, казалось, было окутано густым туманом.
В соседнем цехе с грохотом работала огромная, до потолка, пилорама.
Под нашим навесом стояло двенадцать распиловочных станков «циркулярок».
– Мой подручный ушел работать на станок, – крикнул мне на ухо бригадир, завязывая на затылке тесемки черных закрытых очков, – если справишься, работай у меня.
Кивнув головой, я крепко затянула концы красной косынки и уверенно подумала: «Конечно, смогу, ерунда».
Бригадир включил рубильник, завыла, загудела большая круглая зубчатая пила, рассекая толстые доски на тоненькие рейки, Длинные двухметровые доски вначале не казались тяжелыми, и я успевала из глубины двора подносить их к станку. Но вскоре с непривычки почувствовала слабость и дрожь в коленях, а потом со страхом стала замечать, что не успеваю за бригадиром.
У станка образовался завал напиленных реек, а досок не было.
Остановив станок, бригадир сам пошел за досками, заставив меня разбирать завал и складывать в штабель рейки.
«Позор, – думала я. – Неужели не успею?»
Гудок на обед застал меня с ящиком опилок во дворе.
В цехе мгновенно затихли моторы.
В изнеможении и отчаянии я бросилась на присыпанную снегом гору опилок и расплакалась. «Сейчас, как покажусь в цех, бригадир меня осрамит и выгонит. Лучше самой уйти, и все. Уйду», – решила я.
В это время из цеха послышался нарочито громкий голос бригадира:
– Ничего, привыкнет, научим, желание у нее есть, – значит, научится.
– А кто же будет учить? – отозвался чей-то недовольный тенорок.
– Как кто? Коллектив. Коллектив – великое дело. Комсомольский коллектив поможет ей. Забыл, как сам-то ты первые дни тушевался, даже драпать с завода хотел, плакался, что тяжело. А кто тебе помог? Ну-ка вспомни! А теперь вон уже за станком работаешь.
– Поможем, поможем, а там и сама привыкнет, втянется, – послышались голоса комсомольцев.
От этих слов мне стало легче на душе и в то же время очень стыдно. Вспомнила испытующий, недоверчивый взгляд секретаря Бориса Сермана: «На учет спешишь, а выдержишь?»
Вытерла глаза концом красной косынки, быстро поднялась, стряхнула снег, схватила ящик и направилась в цех. У моего станка несколько человек уже наводили порядок, разбирая оставленный мной завал из реек.
– Ну, а теперь, Тамара, только поспевай, а не поспеешь, не горюй, поможем, – улыбнувшись, крикнул мне после перерыва станковой, включая рубильник.
Гул нашего мотора слился с коротким заводским гудком, и все бросились к станкам.
Очень хорошо запомнила я свою первую рабочую смену. К утру меня стало клонить ко сну. Выходя во двор, я все искала, где бы прислониться и хоть секунду подремать. К концу смены у моего станка опять образовался завал. И я снова почувствовала дружеское тепло комсомольского коллектива – товарищи помогли мне благополучно закончить работу. Так благодаря поддержке товарищей я смогла в короткий срок овладеть этой несложной, но физически трудной работой. Через полгода я уже сама стала за станок-«циркулярку», у меня был ученик.
Припомнилось мне, как однажды в конце квартала выяснилось: план завода под угрозой.
Подвел тарный цех – не выполнил взятых на себя обязательств. Комсомольцы нашей бригады волновались, шумели больше всех. В завкоме комсомола в этот день было особенно многолюдно. После смены многие не ушли домой. Окружили секретаря Бориса Сермана и стали требовать, чтобы их направили на прорыв в тарный цех.
В принципе решили, но, когда встал вопрос, кого же послать, каждый стал кричать:
– Я пойду! Я! Я!
– Ребята! Я понимаю вас, – охрипшим голосом успокаивал нас Серман. – Выручать завод мы должны, но не все сразу. Туда можно послать двух или трех человек – и довольно.
– Там трое не помогут. Это риск. Больше надо послать!
Опять взметнулись вверх десятки рук.
– Столько не нужно, – пытался урезонить комсомольцев Серман.
Но они не унимались, опять раздались недовольные возгласы: «Вот провалите план, провалите!» – и толпа все сильнее сжимала маленького худенького секретаря.
Лицо его выражало растерянность.
– Ребята! Ребята! Тише! – кричал он.
Неизвестно, чем бы все кончилось, если бы не подоспел плечистый верзила – бригадир. Решили послать в тарный цех шесть человек. Они работали по две смены: вторую и третью, но большинство ребят из нашей бригады на работу приходили не к двенадцати ночи, а к восьми вечера и тайно помогали рабочим.
Так план с помощью комсомольцев был досрочно завершен.
Больше года проработала я на заводе «КИМ». Жаль было покидать наш дружный в работе, сплоченный комсомольский коллектив.
Но меня тогда увлекла другая специальность – электрохимия. Поступила на завод машиностроения в шлифовочно-никелировочный цех. Вечерами училась, а когда была уже бригадиром, снова прозвучали призывы нашей партии и комсомола: «Комсомолец Крыма! Керченский металлургический завод и домна имени Ленинского комсомола – твоя ударная стройка!»
Ничто не могло остановить горячий комсомольский порыв: ни вылазки врагов индустриализации страны, ни гнусная оппортунистическая агитация, ни бытовые трудности тех лет.
Не очень сытые, плохо одетые, но сильные духом, сильные любовью к своей молодой стране, желанием видеть ее окрепшей, богатой, ехали комсомольцы Крыма в пустынные степи Керченского побережья. С путевкой комсомола ехала туда и я.
…Прощание с родными. Эшелон, переполненный жизнерадостной говорливой молодежью… Песни, смех… На дорогу я с трудом достала двести граммов мелкой соленой хамсы и четыреста граммов хлеба, полученные по карточке. Этого должно было хватить до Керчи. Но это было неважно. Главное – стройка, завод…
Гремела комсомольская песня:
Мы кузнецы, и дух наш молод,
Куем мы счастия ключи…
…А потом война. Опять партия сказала: «Надо». А комсомол ответил: «Есть!»
Да, в этом наша сила.
Мелькнула перед глазами Саша Нилова – военврач, Аня – разведчица, Галя – связистка, разведчицы Маня и Луиза, Николай Кучерявый. Вот они – наши комсомольцы.
Воспоминания все еще теснились в голове. Очнулась от суеты, поднявшейся в вагоне. Поезд стоял.
Перекинула через плечо вещевой мешок и вышла на перрон. Вместо вокзала лежала груда развалин. Горько сжалось сердце.
Через общий выход не пошла, решила пройти через развалины старого вокзала: «Еще лучше построим, – шептала я, переступая через кучи кирпичей. – …Своими руками, с новыми комсомольцами…»
V
Ущерб, нанесенный войной, тяжело отразился на экономике страны и моего родного Крыма.
Возвратившиеся из эвакуации заводы не сразу смогли переключиться на выпуск мирной продукции, страдало разоренное за годы войны сельское хозяйство. А тут еще один за другим засушливые неурожайные годы…
В эти трудные дни партия бросила клич: «Все на восстановление и развитие народного хозяйства».
И в первую очередь поднялись коммунисты, комсомольцы и демобилизованные воины, вернувшиеся с войны.
Многие из них были измучены, искалечены войной, но не ушли на отдых. Каждый старался найти свое место в мирной жизни, чтобы вместе со всем народом, засучив рукава, приняться за большие дела, на которые звала Родина.
Я приехала домой в начале октября. Осень в Крыму была такая же, как всегда: тихая, сухая, теплая. Многие еще купались в море, катались на лодках и загорали. «Бархатный сезон» был в разгаре. Крымскую запоздалую осень до войны называли «золотой» и за обилие фруктов и винограда. Но после войны фруктов в Крыму стало совсем мало. Разоренные войной, остававшиеся несколько лет без ухода сады и виноградники одичали, были заражены вредителями. Нужен был огромный труд, чтобы снова привести все это в порядок. Нужна была кропотливая работа, чтобы ликвидировать тяжелые последствия войны и двинуть народное хозяйство вперед.
Приветливо встречала Родина демобилизованных защитников своих. Заботливо встретили и меня. Сказали: вот тебе квартира, пенсия по состоянию здоровья, лечись, отдыхай пока.
– Нет, – заявила я в обкоме, – отдыхать сейчас не могу. – И попросила послать меня в район работать с молодежью, с комсомольцами.
– А квартиру в Симферополе потеряешь?
– Это неважно, поеду туда, где нужнее.
На другой день я уже ехала с направлением на должность второго секретаря Старо-Крымского райкома комсомола. В Белогорске решила остановиться, чтобы проведать свою старую подругу Пашу Федосееву, с которой в сорок втором году встречалась в разведке в Зуе.
С затаенным волнением постучала я в ветхую дверь маленького дома, какие нередко можно увидеть на окраине небольшого районного городка.
За дверью послышались шаги. Поворот ключа – и на пороге появилась девушка.
Блеснувшие на ярком солнце приколотые к новенькой гимнастерке медали и до блеска начищенные кирзовые сапоги говорили о том, что девушка тоже недавно из армии.
Веснушчатый носик, светлые пряди волос и большие открытые серые глаза, строго и вопросительно взглянувшие на меня, сразу напомнили мне Пашину дочь Нину. Я вспомнила, что, когда в 1941 году, перед приходом фашистов, я встретилась с Пашей в Белогорском райкоме партии, она сказала: «И старшая дочь моя, Нина, тоже добровольно ушла в армию, а я пойду в партизаны».
– Вам кого нужно? – спросила девушка, удивленная моим молчанием.
– Мне нужно видеть Пашу, – улыбнулась я. – Вы, кажется, ее дочь, Нина?
Строгое лицо девушки сразу как-то обмякло, губы дрогнули. Опустив глаза и не отвечая на мой вопрос, она вежливо посторонилась и тихо сказала:
– Проходите.
С тревожным чувством переступила я порог домика и вошла в просторную, скромно обставленную комнату.
У окна сидела с вязаньем в руках сгорбленная старушка, а за столом, застланным розовой скатертью, мальчик лет десяти читал книгу. Когда он поднял голову, я увидела, что его лоб и левую щеку пересекает широкий рубец. А глаза у него были такие же черные, как у матери, мне даже почудилось, что на меня посмотрела Паша.
– Как ты вырос, Миша! – сказала я.
Мальчик удивленно перевел глаза на сестру.
Подавая мне стул, Нина улыбнулась:
– Теперь я вас припомнила, вы Сычева? Он, – указала она на брата, – вас не помнит. Бабушка, – обратилась Нина к старушке, – знакомься, это мамина подруга Сычева, она тоже была в армии.
Я нетерпеливо спросила:
– А где же Паша?
Старушка тяжело вздохнула, перекрестилась, а Нина, опустив глаза, тихо проговорила:
– Мама погибла. Она у партизан разведчицей была… Ее убили в день прихода наших.
Больно ударили по сердцу эти слова. Я опустилась на стул.
– Ох, диточка моя, – простонала старушка и, подняв кверху помутневшие от старости и слез глаза, прошептала: – Царство ей небесное.
Я посмотрела на мальчика. Он делал вид, что внимательно читает книгу, но длинные его ресницы дрожали.
Я поняла, что, расспрашивая о Паше, растравляю душу детей и старушки матери, но, уж если приехала, я обязана все узнать и, решительно придвинув к столу скрипучий шаткий стул, сказала:
– Мы с Пашей встречались в Зуе, когда я была в разведке здесь в Крыму. Я знаю, вам тяжело, но у меня не простое любопытство, я должна знать все о Паше. Расскажите, как она погибла.
Девушка стояла, опустив глаза, и теребила маленький, обшитый кружевом платочек.
– Бабушка может рассказать подробно, все происходило у нее на глазах, – сказала она и присела на сундук у окна.
Поджав впалый рот, старушка молчала. На ее сморщенном лице отразилась глубокая скорбь, а в сухих старческих пальцах быстрее замелькали блестящие спицы.
– Расскажите, бабушка, – настойчиво попросила Нина. – О маме должны знать все.
Миша, насупившись, еще ниже склонился над книгой.
Опустив на колени вязание, старушка утерла концом черного фартука слезы и срывающимся голосом медленно проговорила:
– И какие матери родили таких кровопийцев?
Она еще несколько раз всхлипнула, вытерла слезы и стала рассказывать:
– Это было уже на последних днях, когда наши входили в Крым, Я тогда жила у старшей дочки Марии в Зуях. С нами был и Пашин Миша, – кивнула она на мальчика. – Слышим мы, что наши уже под Белогорском. Два дня грюкали немецкие пушки у нас под колхозными сараями. Румыны еще ничего, а немцы дюже злые были в те дни, как собаки.
А наши люди все радовались. Как появится наш самолет, дети машут руками, а фашисты все злее становились. Боялись, что партизаны поднимутся. А в Зуях много в партизаны ушло. Марии, старшей дочки, дома не было, она поехала в Симферополь, мы с Мишкой были одни.
Утром возле колодца, слышу, бабы говорят, что наши уже близко от Зуев, но немцы страшенно сопротивляются. А в обед прибежала ко мне соседка и говорит: «Мой сынок видел, как Пашу арестовали».
У меня чуть ноги не отнялись и макитра выпала из рук. Но той соседке я не совсем доверяла, прикинулась спокойной и говорю: «Да то он, наверно, обознался. Паша в Симферополе живет, чего она здесь будет?»
Соседка ушла, а я покой потеряла, места себе не найду. Одно за ворота выглядываю. С вечера закрылись с Мишкой пораньше и легли спать. Но не спится мне, томно, а может быть, думаю, и вправду сказали? И все прислушиваюсь, все прислушиваюсь…
Под утро загремели в ворота. Я открыла, а сама как в лихорадке трясусь. В хату зашел полицай с двумя немцами, все перерыли, а потом нам с Мишкою велели собираться.
Я их прошу: «Пусть малец останется дома, я сама пойду!» А они – «Нет, с ним велено».
Привели нас в комендатуру, а у меня аж ноги подгибаются. Значит, вправду Пашу поймали, и вспоминаю, как она мне говорила: «Если поймаюсь и будет очная ставка, не признавайтесь ни за что, мама!»
«Дети есть, стара?!» – спрашивает комендант на ломаном русском языке.
«Есть, говорю, – а у самой руки трясутся. – Одна дочь в Симферополе с мужем живет, а друга к ней поехала, это ж ее сын Мишка».
«Врешь, старая!» – кричал он, да как топнет ногой, глаза вытаращил от злости, вот-вот вылезут.
«Не брешу, пан офицер, – говорю я ему, а сама Мишку успокаиваю: – Не плачь, говорю, то дядя нарочно, не плачь…»
А фашист плеткой как хлыстнет!
«Партизан, большевик! – кричит. – Где матка твоя?!»
А Мишенька спрятался за меня да еще больше ревет. Фашиста всего так и перекосило, подскочил к столу, нажал звонок. Дверь открылась, и в комнату втолкнули мою доченьку Пашеньку.
Господи-и… – старушка заплакала, потом, протерев глаза, продолжала: – Побита, замучена, вся в синяках, в крови, чуть на ногах держится. Провела по нас глазами, и я почуяла, как сердце ее похолодело, когда она Мишу увидела. А он аж реветь перестал, выглядывает из-за моей юбки. Матери сразу не признал, видать.
– Да я сразу узнал, – поднял от книги глаза Миша. – Это ты мне шептала: «Не признавайся, молчи! А то маму убьют». Кабы теперь, я б его… – сжал кулаки мальчик, сверкнув глазами. Лицо его покраснело, и на нем еще ярче выступил белый рубец, пересекающий лоб и щеку.
Мы с Ниной переглянулись.
– Миша, – сказала девушка, – пойди погуляй, пока мы с тетей поговорим. А уроки потом выучишь.
– Хорошо, – тихо сказал мальчик и, накинув пальтишко, вышел.
– Видите, как он помнит, а ведь ему тогда шесть годков только было, – покачала головой старушка и продолжала: – Ввели Пашеньку, фашист как закричит на нее: «Это твоя матка и сын твой?!»
«Нет, – отвечает Паша слабым голосом. Силы-то у нее уже не было. – Я не здешняя, у меня здесь никого нет».
«Врешь! – кричит фашист. – Нам сказали, ты партизан, а это твои», – указал он на нас.
«Я уже вам не раз сказала, у меня здесь нет никого!» – твердо повторила Пашенька.
Фашист вынул из стола исписанный лист бумаги, посмотрел на него, потом подошел вплотную к Пашеньке и как крикнет: «Коммунист, большевик, партизан?» – и как ударит мою доченьку пистолетом по распухшим губам, она так о стену и хлопнулась, а потом подняла глаза и так грустно глянула на Мишу, будто попрощалась.
Глотая кровушку, она проговорила глухим голосом:
«Да, я коммунист, я партизанка, но вы ничего от меня о партизанах не узнаете. А они, – кивнула она в нашу сторону, – не мои, я их не знаю. И больше я вам ничего не скажу».
Старушка, вся трясясь от рыданий, продолжала:
– Тут фашист совсем озверел, стал ее бить плеткой по лицу, по спине, а она стоит как вкопанная. Я не выдержала да как заплачу.
«А… – злорадно закричал фашист, – чего же ты орешь, если она не твоя дочь?»
А я на него с кулаками:
«Да твоя мать увидала бы, что ты делаешь, она бы еще больше плакала, что такого сына родила!»
А он меня как ударит плеткой по рукам, так кожа и лопнула. Наверное, с проволокой она у него. Вот и доси следы, – и старуха показала белые рубцы на руках.
«Будешь говорить, где партизаны, – отпустим, не будешь – убью и сына», – пригрозил он пистолетом.
Пашенька молчала.
Фашист взбесился и опять с размаху ударил ее. Она упала на пол, и он стал хлестать ее этой плеткой. – Старушка, закрыв руками лицо, опять навзрыд заплакала. – «Где партизаны?!» – кричал фашист, – продолжала она сквозь слезы, – и все бил ее плеткой. А Мишка-то… Что с дитя возьмешь, то прятался за мою юбку, а то вдруг выскочил да как закричит: «Мамочка! Мама!» Моя деточка как услышала, подползла к нему и говорит: «Мальчик, ты обознался, я не твоя мама, но дома у меня есть такой же сыночек» – и целует его ножки. А губы-то у нее все в крови…
Я подбежала, чтобы забрать Мишу, и не успела. Фашист с размаху полоснул его плеткой по лицу. Так и залился кровью Мишенька. А Пашенька собрала последние силочки, закусив губы, ухватилась за стол, поднялась на ноги, даже сквозь кровь и синяки было видно, как побелело у нее лицо, но ни слезиночки в глазах, ни страдания, одна ненависть…
Старуха подняла голову и посмотрела на большой портрет дочери, висевший на стене, – Паша на нем была удивительно похожа – смотрела на нас, словно живая, – вытерла глаза и, сдерживая рыдания, продолжала:
– Моя доченька еле расчепила разбитый рот и говорит: «Что ты ребенка бьешь, он же не мой, подойди, я тебе скажу, где партизаны, – поманила она фашиста, – сейчас вы их легко можете окружить и уничтожить, подойди!» Она чуть держалась на ногах, и казалось, вот-вот опять упадет.
«Решила сказать, – подумала я. – Сына пожалела, ведь могут убить и его. Ради сына скажет».
– Скажи, что знаешь, – умоляюще прошептала я ей, – скажи, доченька, что знаешь. Партизаны с орудием, они сильные, они отобьются, а мы… Миша… – плакала я.
Немец даже не расслышал моих слов. Метнулся к столу, взял бумагу, ручку и снова к Паше.
Выпрямилась она. Гордо так посмотрела на него и говорит:
«Пиши! Партизаны везде. Где будут фашисты, там и партизаны, а всех не убьете».
Поначалу фашист, видно, не понял, слушал и стал записывать, а потом, когда понял, как закричит! А Пашенька как плюнет кровью ему в рожу раз, другой… Он схватил на столе автомат и, – старушка зажмурилась и тихо договорила: – …ударил ее по голове, она и упала как сноп. Мы бросились к ней, но он замахнулся автоматом, и я ничего больше не помню…
Клокочущее рыдание сдавило горло старушки, она стащила с белых волос сползающую черную косынку и, закрыв ею лицо, неудержимо разрыдалась.
Я тоже достала из сумки платок.
Нина смотрела в окно, уже не утирая бегущих по щекам слез. Потом, решительно тряхнув головой, она встала, подошла к столу и, неизвестно зачем закрыв книгу, подняла глаза на портрет. Да, она могла гордиться такой матерью!
– Пускай лучше б я померла, чем Паша вот так… осиротила детей, – плакала старуха, – уже чтось сказала бы.
При этих словах Нина резко повернулась и сказала:
– Бабушка, я вам сколько раз говорила: нам, конечно, очень тяжело, но лучше остаться сиротами… чем… чем если бы мамочка… – с бледным как полотно лицом выпрямилась девушка, – стала бы предателем…
И в этом горьком, но здравом суждении, в этой твердости я узнала Пашу Федосееву, ее характер.
…Прижавшись к окну грохочущего старенького автобуса, минуя редкие, одичалые сады и лежавшие в развалинах придорожные села, я размышляла: «…Все построим, все восстановим, все вернем, а вот утерянных в войну лучших людей не вернуть. Нужно растить новую смену, из молодежи, и это теперь наша основная задача. Позволило бы только здоровье работать в полную силу!»








