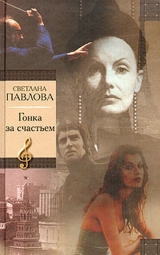
Текст книги "Гонка за счастьем"
Автор книги: Светлана Павлова
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 33 страниц)
Примерно месяц она пребывала в полном отчаянии и бездействии, ни с кем не встречаясь и не отвечая на звонки. Потом пришли подруги, все узнали и немедленно организовались, решительно заявив, что пойдут в деканат, в партком, в Союз композиторов, в Политбюро, устроят пикеты у его дачи и будут хором скандировать протестные лозунги – словом, сделают все, чтобы призвать его к ответственности.
Но она запретила им вмешиваться, твердо сказав, что готова лишь к одному – взять академический отпуск и позже перевестись на вечернее отделение, а с Загорским ничего общего иметь не хочет и справится со своими проблемами сама.
Народная примета подтвердилась – в положенный срок она родила сына и назвала его Георгием, в честь своего отца. Ее мать, став бабушкой, вдруг совершенно преобразилась – появление ребенка сделало ее энергичной, деятельной, и она со всей страстностью натуры погрузилась в заботы о нем.
ГЛАВА 4Друзья отца снова помогли, и Марина устроилась переводчицей в Интурист. Она свободно владела английским и немецким, справлялась с любыми переводами, включая и синхронные.
Работая на международной выставке в одном из павильонов в Сокольниках, она познакомилась с Ларсом Бергманом, совладельцем известной шведской фирмы «Фем-Брок». Молодой, преуспевающий тридцатилетний бизнесмен, на десять лет старше, влюбился в нее сразу, как только увидел.
– И с этого времени начинается другая история, или, вернее, сказка – ни больше и ни меньше – о Золушке, встретившей своего принца, – сказав это, Марина с облегчением вздохнула, закончив нелегкую для себя часть рассказа.
Да, теперь в ее жизнь вошли совсем другие отношения. Он задаривал ее цветами и подарками, познакомился с матерью, с явным удовольствием играл с малышом – словом, был влюблен во все, что касалось ее.
У него была постоянная виза, и он почти полностью переселился в Москву, лишь коротко наведываясь в Стокгольм. Через три месяца после знакомства он сделал ей предложение, и она, не раздумывая, приняла его, потому что важнее всего теперь для нее было обеспечить достойную жизнь сыну – у него должен быть отец, а лучшего отца трудно было бы пожелать.
Он был совершенно не похож на ее знакомых мужчин, которые, как на подбор, делились на две категории – либо отъявленных циников, либо беспомощных нытиков. Была еще целая когорта воздыхателей – евнухоподобных мальчиков из хороших семей, но они не могли ни влюбить в себя, ни влюбиться всерьез сами. Все они находились в поиске – прежде всего самих себя, с неизвестными результатами и последствиями.
Марине, в то время не отличавшейся ни особой дипломатичностью, ни ухищренной пронырливостью, приходилось довольно непросто выживать в этой новой интуристовской среде с ее предрассудками, сплетнями, завистью, подсиживанием, доносительством и массой спецпредписаний. Ее красота в этом довольно зависимом положении не только не помогала, а, наоборот, создавала дополнительные трудности, которых она совсем не хотела – большинство женщин-коллег она раздражала уже одним своим существованием, и их постоянное ревностное внимание и перешептывание за спиной делали ее нервной и подозрительной. Мужского внимания было более чем достаточно, но теперь, став матерью-одиночкой – а именно к этой категории причислялись женщины, родившие без мужей, – она стала уязвимой и перестала считаться заманчивой партией, поэтому притязания мужчин были теперь, в основном, определенного свойства – без особых затей.
Приняв предложение, она действовала рационально и рассудочно. Нет, он ей не был противен, но и любим тоже не был – просто жизнь приоткрывала перед ней интересные перспективы, а главное, давала стабильное будущее ее ребенку.
У Ларса был минимальный опыт в общении с женщинами. Лет пять назад он пережил любовную трагедию, после которой ушел с головой в работу и больше не помышлял о браке. Марина с удивлением открыла в нем то, чего не было ни у одного из ее воздыхателей, – целомудренную деликатность и явную неопытность – и это в стране сексуальной революции!
Вообще, в ее первый приезд в Швецию было развенчано множество стереотипов. Одним из первых сюрпризов стал оживленный и радостный прием в доме родителей Ларса – вместо ранее представляемых пресных, замороженных белобрысых шведов с замедленными реакциями она увидела эмоциональных, веселых, весьма темпераментных будущих родственников, один из которых, младший сын сестры, был вообще темнокожим – как выяснилось, это был приемный ребенок, сирота из Сомали. Позже она не раз увидит детишек всех рас и национальностей в добропорядочных шведских семьях, где гуманизм и сострадание были не пустыми словами, а руководством к действию. Появление же в тот момент африканского ребенка и отношение семьи к нему так потрясли ее, что скованность мгновенно прошла, и она сразу почувствовала себя с ними легко и на равных.
* * *
Медовый месяц они проводили, путешествуя по стране. Она уже начала говорить по-шведски и поражала всех легкостью, с какой ей удалось так быстро его освоить. Для нее это и не было напряжением – владея английским и немецким, хорошим слухом и памятью, а главное, имея большое желание, сделать это было совсем нетрудно… да и общение с родней вовсе не требовало углубленных знаний языка – при необходимости все легко переходили на английский, в знании которого никто с ней соперничать не мог – как-никак, филфак МГУ…
У Ларса было огромное количество родственников – казалось, что в каждом шведском городке или уголке живут дяди, тети, племянники, двоюродные и троюродные братья и сестры, дети от находящихся в браке или бывших жен и мужей – родственные связи поддерживались и после разводов. Такое количество имен и лиц запомнить было невозможно, осталось лишь общее впечатление теплоты, гостеприимства и какое-то умеренное, не режущее глаз благоденствие – у всех были машины, хорошие дома и выглядели все вполне довольными жизнью.
В Швеции ее поразили изысканная простота и рациональный минимализм – в домах не было вычурности, излишеств, лишь истинный комфорт и идеальная чистота. В этих домах легко дышалось – как объяснил ей Ларс, в большинстве случаев были использованы современные экологически чистые материалы и системы – кондиционирование и климат-контроль, отопление через потолок, внутренние пылесосы, подогрев пола, не говоря уже о саунах, которые были практически в каждом доме.
За месяц они изъездили почти всю страну, познакомились не только с родственниками, но и с некоторыми друзьями и коллегами Ларса, и по этим многочисленным контактам даже беглый взгляд зафиксировал полное отсутствие всякого бахвальства, предрассудков и предубеждений, ксенофобии и зависти, а отметил терпимость и несуетность. Никаких оборванцев и нищих, все одеты удобно и достаточно просто, без извечного родимого стремления поразить кого-то вывороченным лейблом, во всем свобода выбора и демократичность – вот таким оно оказалось, это королевство, еще один стереотип долой. Ей стало неловко за свой шанелевский костюм, туфли из змеиной кожи и особенно за крупные бриллианты в ушах, которые она надела в первый день после свадьбы, посмотрев на потрясающие туалеты и драгоценности гостей, собравшихся по случаю их бракосочетания. Вырядившись как на смотрины и приехав на кофе в дом брата мужа, она почувствовала себя Эллочкой-людоедкой, соперничавшей с несуществующей Вандербильдихой, – хозяева были в джинсах и майках. Вернувшись домой, она подальше спрятала все дорогое оперение – здесь никто ни с кем не соперничал, все одевались исключительно в соответствии со случаем. Она купила себе джинсы, шорты, несколько маек, кроссовки и шлепанцы – так и проходила все лето.
Отсутствие лицемерия и двойных стандартов в обществе, прессе и на телевидении после Москвы очень бросалось в глаза – все обсуждалось взвешенно, с желанием разобраться, без крайностей ангажированности и экстремизма, хотя темы затрагивались разнообразные и точки зрения могли быть самыми противоречивыми. Даже алкоголики были какими-то ненастоящими – чистенькими и прилизанными, и если бы не их испитые лица, можно было бы подумать, что это всего лишь актеры, разыгрывающие их роли. Какая-то лакированная пастораль, а не страна. Когда она сказала об этом Ларсу, он засмеялся:
– Не преувеличивай, здесь есть все, что и везде, хотя и в менее гротескных формах. Но одно неоспоримое преимущество перед многими странами у Швеции имеется – социальные реформы, которые не дают возможности слабым упасть, и делается это за счет сильных – их обременяют драконовскими налогами. Но если брать в целом, шведское общество устроено более или менее разумно.
И еще ее удивило – свободные, уважительные отношения в семье друг к другу, никто не лезет с советами, не поучает, не вытягивает признаний и не напрашивается на откровенность. Она спросила Ларса, отговаривали ли его родственники от женитьбы на русской, да еще с ребенком. Он с удивлением посмотрел на нее и сказал:
– Конечно, нет, я ведь сказал, что люблю тебя, – для них это было главным.
То, что она видела и слышала, нравилось ей. Перспектива собственного устройства тоже не внушала пессимизма – вариантов было много. Но начинать следовало с языка – она решила, что филолог должен знать его профессионально, поэтому первые три месяца занималась с частным преподавателем, а потом закончила курсы в университете, чтобы получить официальный сертификат. В МГУ были сданы государственные экзамены и осталось закончить дипломную работу, защиту которой ей перенесли на зиму.
Москва ей почти не вспоминалась. Если бы у нее были проблемы в доме или трудности с вживанием в новую действительность, она не смогла бы так легко и быстро адаптироваться. Но все было как раз наоборот – то, что было раньше, дома, казалось темным, безрадостным и бесперспективным, а здесь открывались новые возможности и начиналась светлая полоса. Ей было всего лишь двадцать лет, и хотя она уже прошла через страдание и боль, она не успела обзавестись предрассудками и предубеждениями, поэтому ей нетрудно было увидеть и оценить действительные преимущества и достоинства ее новой жизни. Она занималась всем с удовольствием и легко все преодолевала…
Сыну уже исполнился год, и она привезла его из Москвы. Ему взяли няню-шведку, и его первым языком стал шведский. Они решили, что будет лучше, если Ларс усыновит ребенка и у них в семье будет общая фамилия.
Первое время семья жила в центре Стокгольма в небольшой квартире Ларса, а потом они решили купить новый просторный дом в пригороде. В доме было две комнаты для гостей, которые почти никогда не пустовали, – подруги стояли в очереди в ожидании приглашения. Даже мать, несмотря на отъезд дочери и внука, казалась довольной, часто приезжала к ним и самостоятельно занималась шведским языком, также удивляя всех неожиданными способностями, – в магазинах и за столом переводчик ей уже не требовался…
Палитра шведской жизни оказалась гораздо более непредсказуемой и разнообразной, чем все, что ей до этого приходилось видеть. Гомосексуальные отношения никого не раздражали и не казались вызовом обществу, вписываясь в незашоренную североевропейскую ментальность, наравне с гражданскими браками. Смешанные браки поражали своим разнообразием.
Вообще, терпимость и широта взглядов шведского общества не переставали удивлять – лучший друг Ларса был женат на темнокожей, как гуталин, американке, старше его на восемь лет, с двумя детишками от разных браков. В Москве у нее точно не было бы никаких шансов найти приличную работу, не говоря уже о возможности оказаться женой успешного ученого, директора вычислительного центра и просто красавца-викинга, прощающего ей все ее сумасбродства.
Второй приятель был женат на жутко эмансипированной ученой даме родом из Индии, бесконечно работающей над какими-то статьями и проектами в Оксфорде – там они познакомились и поженились десять лет назад еще студентами. Оксфорд для нее оставался единственным местом на земле, не вызывавшим критического отношения, там она с завидным постоянством и удовольствием и продолжала жить – уже без мужа. Предложение же постоянно осесть в Швеции она еще не готова была принять и откладывала на какие-то более поздние времена, о которых пока не задумывалась. В браке не было детей, и Карл жил в одиночестве, в постоянном ожидании решения или очередного визита ненаглядной супруги.
Даже монархическая семья выделялась среди прочих августейших семей – была на виду, не совершала ничего предосудительного, отличалась демократичностью и при всем при этом еще и вызывала уважение, благоговение и любовь. В домах можно было часто видеть портреты обожаемой королевы или всего семейства – исключительно по велению сердца, а не из каких-либо других побуждений.
Расслоение в обществе, конечно же, существовало, но и оно имело какие-то пристойные формы, было тонким и скрытым. Мать Марины обожала Стокгольм и чувствовала себя в шведской столице комфортнее, чем в родных пенатах, – здесь она была туристкой, иностранкой, а в Москве, если Марина куда-то выходила с ней, на нее смотрели, как на одиозную особу, ничего из себя не представляющую, не умеющую ни связно говорить, ни адекватно себя вести – просто пустое место…
Марина научилась ценить любовь, надежность и преданность мужа и жизнь, которую она ни на что бы теперь не променяла. Она видела пропасть, отделявшую ее от московских подруг, половина из которых влачила жалкое существование, и ей приходилось возить из Швеции полные чемоданы детской одежды и подарков своим бывшим однокурсницам.
В основном, все девчонки прозябали на жалких зарплатах в школах или в гостиницах – было непонятно, как они умудрялись на эти гроши не только существовать, но еще и выглядеть так, будто только что сошли со страниц глянцевых журналов… Две самые симпатичные из ее подруг уже несколько лет путанили, одна работала в «Афродите» – известном вычурном журнале для жен новых русских, – и считалось, что она безумно и недосягаемо преуспевает, получая тысячу долларов в месяц. Еще три бывших сокурсницы, относящиеся к категории состоявшихся, работали на фирмах – без всякой уверенности в стабильности своего положения. Все до одной были измотаны и постоянно недовольны.
Трудные воспоминания постепенно изглаживались из памяти и забывались. Рана зарубцевалась и давно зажила, и если кто-то из подруг пытался приближаться к этой теме, она досадливо морщилась и останавливала разговор. Теперь она точно знала, что для нее значит семья, и ничто другое ее больше не интересовало.
Диплом филфака она с некоторым опозданием получила, позже закончила в Стокгольме последние ступени курсов шведского языка и, пройдя довольно большой конкурс, устроилась на работу в русский отдел шведского радио. Это было лучше, чем преподавать или работать переводчицей, потому что работа была творческой, абсолютно в ее духе, к тому же, наладилась постоянная связь с Россией – последнее, чего ей недоставало.
Все определилось и приняло абсолютно осмысленную форму, поэтому ей не хотелось ничего вспоминать, от таких воспоминаний становилось тошно, ведь в них было все – беспросветная глупость, легкомыслие, отсутствие морали, малодушие, предательство, ложь, грязь и как венец – безнравственная, мерзкая торговая сделка, о которой она узнала позже.
А сколько было стыда, слез, угрызений совести и бессонных ночей… Как ей удалось пережить то время, пройти через позор и ужас своего положения, не сломаться, не обозлиться да при этом еще и родить здорового ребенка – для нее самой оставалось загадкой. Единственное ощущение того времени – отсутствие реальности происходящего, погружение в полусон, от которого она избавилась только после рождения ребенка, впав в другую крайность – гиперактивность, из-за большого количества забот и страха не справиться с ними…
Она сравнила начальный период своей шведской жизни с моим парижским стартом и сказала, что в двадцать лет, без всяких перспектив за спиной и с грузом уже сделанных ошибок, ей было нечего терять, и поэтому оказалось нетрудно осваиваться на новом месте. Особенно важными в это время стали первые успехи по работе и безоговорочная, великодушная поддержка мужа. При этом ей не пришлось менять приоритетов, потому что постоянные контакты и совместные проекты с Россией давали возможность находиться в привычном культурном слое, а мне было сложно потому, что мое вхождение в новую среду оказалось сплошной цепью неудач и проблем, от меня не зависящих.
Может быть, она и была права, но, рассказав ей о своем браке, я больше не хотела об этом думать, поскольку уже перестала страдать и прежняя жизнь мне почти не вспоминалась… Я бы тоже ни на что не променяла свою жизнь – теперешнюю…
ГЛАВА 5Первым препятствием на пути моего официального знакомства с семьей Марины было то, что Георгий не знал, что Ларс – его отчим. Он был усыновлен в возрасте одного года, и эта тема в семье никогда не поднималась, потому что в том не было никакой необходимости.
И вот теперь возникала практическая задача – под каким видом я вдруг появляюсь в семье? Мальчик считает себя шведом, хотя у него и русская мать, но далекая Россия – это что-то огромное и местами интересное, приятно иногда туда съездить, а здесь, в Швеции, – дом, все свое, родное. По-русски говорит неплохо, русскую литературу почти не читает. Увлечен современной музыкой – даже организовал рок-группу – и спортом. На фотографиях похож на Марину, но нужно увидеть живого человека, чтобы найти в нем родственные черты. Когда увидеть?
Нам обеим не давал покоя главный вопрос – имеем ли мы право что-то менять в уже сложившихся судьбах и насколько далеко стоит в этом заходить? Ведь ни она, ни я никому и ничему не хотели навредить…
Отцу через полгода будет шестьдесят семь лет, мама на десять лет старше его… Она ни разу не пожаловалась на возрастные болячки, наверняка их было немало, но этот вопрос, как и ряд других, был в доме под негласным запретом – так сложилось давно. Нездоровым мог быть только отец, который обожал жаловаться по любому поводу и приходил в ужас от обычного прыща, температуры, простуды и даже малейшей царапины. А уж когда у него начались сосудистые проблемы, то он сразу сник, почти перестал появляться в издательстве, занявшись собой и своим здоровьем.
Родители теперь редко появлялись вместе на публике, а если такое все же случалось, то уже не были главными действующими лицами, приглашались как почетные члены каких-то мероприятий, повышая их значимость своим ясновельможным присутствием.
Мне было грустно видеть их рядом… Их разъединенность особенно бросалась в глаза, когда они изредка мелькали на телеэкране в новостных репортажах или в записи культурных акций. Это обреченное на печаль содружество с годами стало каким-то особенно гротескным. Странное они производили впечатление, двойственное – представить кого-нибудь другого рядом с ним или с ней было совершенно невозможно. Но эта их совместность была одновременно и полной отдельностью – каждый из них застыл в своей неприкаянной, одинокой скорби, которая, независимо от предпринимаемых усилий, прорывалась сквозь их светские улыбки…
Отец снова резко изменился – Женька оказалась права. После очередного возлияния, упав на крыльце и сломав руку, в одночасье, как отрезав, перестал выезжать на все фуршеты и тусовки, позабыв главный лозунг своего недавнего шоу-прошлого – «Пресность и серость – постыдны и скучны»…
Он снова ушел в себя, стал сдержаннее, как будто погрузился в дремотное состояние, которое лишь иногда, видимо, в какие-то минуты просветления, неожиданно прерывалось… Музыку он не только больше не писал, он почти перестал ее слушать. В нем шла какая-то болезненная ломка, которая наводила на мысль о том, что наступило временное затишье – только было неясно, перед чем. Я старательно отгоняла от себя худшие мысли. Хорошо, что оставалась работа в издательстве, лишь эти внешние обстоятельства еще продолжали влиять на него, заставляя время от времени встряхиваться, возвращаться к размеренному ритму. Это было, конечно, необходимо, но я, зная весь творческий багаж отца и противоречивость его интересов, втайне надеялась на какой-нибудь новый поворот в его судьбе.
Как-то позвонил Раевский – вот уж действительно человечище! Он был на пятнадцать лет старше отца, но продолжал руководить театром, был полон творческих планов, выезжал на гастроли, ставя музыкальные спектакли и оперы за рубежом.
Родители уже давно предлагали ему написать автобиографическую книгу, он все обещал, и вот – просил о встрече именно по этому поводу, в таких ударных ритмах умудрился найти время и написать «Взгляд изнутри», который после публикации стал бестселлером.
Встреча всколыхнула отца, а в особенности принесенная рукопись. Чтение и вправду оказалось увлекательным, в книге встретилось столько знакомых имен, названий, событий и дат, что после просмотра рукописи отец тут же решил – начнет писать что-то мемуарно-публицистическое. Обсудив с матерью форму и план, он тут же занялся подборкой фотографий и материалов, пересмотрев весь семейный архив. Он так загорелся, что с ходу придумал прелестное название, вспомнив любимого Бориса Леонидовича, – «Перебирая годы поименно».
Идея была прекрасной, если бы не та лихорадочная суетливость, с какой он бросился воплощать свой новый замысел, – теперь только это занимало его, только это имело значение. Горячка была пугающей – так работает человек, который как бы отжил для себя свое, положенное, и теперь хочет успеть вспомнить что-то значительное для других, сказать что-то важное, не сказанное до сих пор никем. Он судорожно бросался к бумаге в самых неподходящих ситуациях – за едой, во время просмотра новостей, в момент разговора на отвлеченную тему, в издательстве… Мать едва поспевала собирать за ним исписанные страницы, чтобы сохранить текст. На компьютере он так и не научился работать, объясняя свое нежелание просто – не идет, безликость экрана убивает, это – оргтехника, а перо должно быть живым…
Несмотря на его нервозность, у меня появилась надежда, что такая работа поможет ему заново пережить, переосмыслить свою жизнь и на время займет настоящим творческим трудом.
Мои надежды не были напрасными. Провидение словно вмешалось в жизнь, дав ему очередной шанс. Его расстроенная энергетика начала понемногу восстанавливаться, и такой поворот не казался мне удивительным – если Бог многое отмерил одному человеку и заложил отмеренное ему в душу, было бы несправедливо в конце пути лишить его этих благословенных даров.
Удалившись от суеты и праздности, он всерьез погрузился в новое для себя творчество. Мать была счастлива и сделала то единственное, что и нужно было сделать, – оставила его наедине с самим собой и книгой.
Как можно было тревожить родителей такими встрясками? Об этом нечего даже и думать… Нет, для таких потрясений сейчас совсем не время.
* * *
Пришла новая беда – совсем слегла Фенечка. После перенесенного второго инфаркта, пролежав в больнице целый месяц, она так и не встала на ноги, и я решила, что ей лучше будет в Новодворье – она всегда говорила, что там привольнее и легче дышится.
Туда ее и перевезли после выписки, и через две недели после переезда, не причинив никому беспокойств, она скончалась во сне. Тихая жизнь и тихий уход, моя милая няня, надежный, славный человек. Прости, что иногда тебя не замечали и не очень о тебе думали, но ты была настоящим членом семьи и никто тебя никогда не заменит…
Все мое детство связано с ее постоянным присутствием – родители были как подарок, приятные, но временные люди. Она же всегда находилась рядом – верная подруга по играм, кормилица-поилица и вечная утешительница.
Она же научила меня и читать. Родителям было некогда, да они и не подозревали, что я в свои четыре года оказалась к этому уже готова. Когда Феня увидела, что я перерисовываю название «Правды», пытаясь постичь механизм сцепления букв, она решительно сказала:
– Давай-ка начинать по-другому. Будем сразу учиться и писать, и свое написанное – читать.
Она дала мне тетрадку, карандаш и начала учить. Первое слово, избранное ею, было – мама, самое легкое, как ей казалось. Но с этим словом не все оказалось просто.
– Мы – а, мы – а – будет ма – ма, – громко и отчетливо сказала она, тыча пальцем в старательно перерисованное мною слово.
– Да не будет ма-ма, а будет мыа – мыа, – резонно возразила я. – Куда же ты дела – мы?
Феня, озадаченная вопросом, подумала и быстро нашлась:
– Мы – это когда отдельно букву говоришь, а когда буква идет в слово, хвост-то и отпадывает, как у ящерицы… зачем он нужен, хвост-то, только мешается…
Это объяснение меня не только устроило, но и очень понравилось мне, я ведь поняла, что все буквы – хитрые, но если знать их хитрости, то научиться можно. После этого процесс пошел быстрее.
Никогда не забуду изумления матери, когда после возвращения из очередной поездки она услышала впервые прочитанную мною вывеску – ВИН-НО-ВО-ДОЧ-НЫЙ МА-ГА-ЗИН.
– Кто научил тебя читать?!
– Известно, кто – Феня, – сказала я, не понимая, что копирую интонацию, и речевые обороты своей няни.
После этого потрясения мать поняла, что пора передавать меня в руки профессионалов, что и было вскоре сделано – ко мне стали наезжать различные учителя, с переменным успехом отравлявшие мою жизнь и желание познавать новое. Но первой учительницей, научившей меня не только читать, но и верить в свои возможности, была все-таки она, моя дорогая няня, незнакомая с педагогическими методиками малограмотная прислуга, и сделала она это легко, изящно и с явным удовольствием.
Я помню все ее неповторимые словечки и фразочки, сочные и вкусненькие – теперь таких и не услышишь…
«Да что ж ты такая нефинтикультяпистая – совсем не в мать», – говорила она мне, если у меня не сразу что-то получалось. «Опять видела этого обжардома» – это, по звуковой оболочке, нечто среднее между обжорой, жандармом и мажордомом означало одно – плохой человек. Это определение, произнесенное по какому-то специальному случаю, так всем понравилось, что навсегда прилипло к Палычу, которого она сразу невзлюбила, пару раз поймав на каких-то мелких грешках. С удовольствием подхваченное словцо, превращенное в эпитет – «обжардомистый», – продолжало использоваться всеми домашними и в других подходящих случаях…
«Совсем я стала бабка-хворябка» – это уже о себе, когда почувствовала себя плохо. «Кум королю и помощник министра» – похвала преуспевающему мужчине, комплимент же успешной даме звучал не менее колоритно – «Ну, прямо-таки жена офицера – вся в чернобурках и губы бантиком». В зависимости от времени года, чернобурка заменялась на креп-жоржет, габардин или коверкот при неизменных губах-бантиках. Где она подсмотрела этот образ – было загадкой, может, в дни ее молодости, а может, придумала сама в одиноких мечтах о красивой жизни…
А все эти бесчисленные халдоны-халдейки – невежественные особи обоего пола, кулемы – бесхитростные, залипухи – прыщи или волдыри, хрумдамдэ – халва, набуровила – наговорила лишнее, рассупонилась – разделась, налимонилась – наелась, разбузюнилась – разошлась…
На мой вопрос, почему она не завела своей семьи, обычно отмахиваясь, не отвечала, но когда я повзрослела, однажды, видимо, в редкую минуту откровения, сказала: «Маята это одна… Навидалась я чужих безобразиев на своем веку, и отбили они у меня всякую охотку до мужиков… Да и куда мне соваться-то с такой рябой вывеской? Тянет ведь меня ко всему хорошему… а что я найду со всеми этими Петьками-Васьками? Зальют горло да в лупцовку, это – завсегда распожалуста, накормят досыта… да сразу и обдитят еще, а потом возьмут да и кинут. А что я дитям смогу дать, одна-то? Да ежели и не одна, а с этими лиходеями-бузотерами – каких-таких форте-пьян-учителей и шоколадов-монпансье, при нашем-то разумении?»
Зависла Фенечка между классами – от своих оторвалась, а к другим прибиться не могла – изначально…
Отца смерть ее потрясла сильнее, чем я могла предположить, – она ведь была немногим старше его и младше матери, одно поколение. Он слег, не подходил к телефону, недели три врачи регулярно навещали его.
На это время я переехала в Новодворье. Чтобы все успеть, приходилось вставать рано – в шесть утра, так как школа Мари начиналась в восемь. Было бессмысленно возвращаться на дачу или ехать домой, и я, как обычно, приезжала на работу раньше всех. Забирал дочь из школы наш издательский шофер Ленчик, который, в случае необходимости, возил родителей. Я задерживалась на работе столько, сколько требовали дела, закупала продукты и снова отправлялась к родителям.
Мать хоть ни на что не жаловалась, но от недосыпания и беспокойства за отца похудела и поблекла. Теперь я твердо решила, что нужно оградить родителей от всяческих потрясений.
* * *
Неожиданная помощь пришла, откуда ее никто не ждал, – от моей дочери. Как-то вечером, после очередного разговора с Мариной, звонившей из Швеции, она спросила меня:
– А твою новую подругу Марину бабушка и дедушка знают?
Я похолодела – ведь все может неожиданно раскрыться – как же я не подумала, что ребенок может в присутствии родителей вдруг упомянуть это имя в какой-нибудь связи? И я сказала:
– Маша, очень прошу тебя – никогда не произноси этого имени при них…
– Вы что – лесбиянки? – с безжалостной прямотой современного продвинутого ребенка спросила моя четырнадцатилетняя дочь.
– Что ты несешь?!
– Тогда почему надо делать тайну из шведской Марины?
Что мне оставалось делать? Чего доброго, ребенок действительно заподозрит меня во всех смертных грехах… Полнейшая неподготовленность к такому повороту событий подействовала неожиданным образом – оказавшись в тупике, я была вынуждена сказать дочери правду:
– Видишь ли, иногда взрослые совершают поступки, которые их не украшают, вот и наш дедушка много лет назад сделал то, чего не стоило делать – влюбился…
– Влюбиться всегда стоит, если хочется и есть в кого, – выдала моя дочь вполне готовый афоризм, который лучше было пока оставить без комментариев.
– Он был уже немолод, имел семью, а влюбился в свою студентку.
– А сколько ей было лет?
– Лет девятнадцать-двадцать.
– Ну, дед дает! Не хило!
– У них был… настоящий роман, и она родила сына…
– Ого, вот здорово! Неужели эта студентка – Марина?
– Да, она…
– И что же сделал дед, когда узнал, что у Марины будет ребенок?
– Дед тогда не решился оставить бабушку… согласись, это было бы не очень честно по отношению к ней.
– Ну, честно говоря, не очень-то честно было и бросать беременную Марину… Да, ситуевина – совсем как в фильме «Исповедь», где главный герой, сын миллионера, тоже оказывается обыкновенным трусом…








