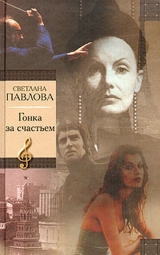
Текст книги "Гонка за счастьем"
Автор книги: Светлана Павлова
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 33 страниц)
В августе семьдесят третьего, после дирижирования бетховенским «Фиделио» в лондонском «Ковент-Гардене», они улетели в Финляндию на фестиваль современной музыки, который проводился в изысканной старинной крепости Савонлинна.
С утра Сергей отправился на репетицию своего нового камерного сочинения с австрийским симфоническим оркестром, а она решила пройтись по магазинам. Конечно, заниматься шопингом лучше в Лондоне, но там их поселили в роскошном поместье за городом, и из-за расстояний почти не оставалось свободного времени на другие дела.
Финские устроители фестиваля обеспечили машиной, и она, взяв список лучших магазинов с адресами, отправилась «остоксилле», что по-фински и означает – шопинг. Она бегло говорила по-английски и по-французски, этого было вполне достаточно для общения на любом уровне и в любой стране, но ей нравилось вворачивать в разговор словечки и фразы и на менее распространенных языках, поражая воображение мужа и прочих присутствующих широтой своих познаний. Для этих целей она завела специальную тетрадь, которую регулярно пополняла новыми записями в разных странах, заучивая слова и фразы, как он – стихи, а заодно и тренируя свою память.
Встретившись с мужем вечером за ужином в ресторане гостиницы, она сразу почувствовала – что-то происходит, он не в себе, какой-то напряженный и взвинченный.
– Что-нибудь не так?
– Да нет, все – замечательно, австрийцы на высоте, лучший оркестр в Европе, сама знаешь, – понимают с полунамека…
– Но что-то тебя все же беспокоит.
– Знаешь, я показал Караяну мою «Мерцающую симфонию». Он посмотрел и сказал, что я должен ее сыграть.
– Ты сошел с ума. Где? Когда?
– Здесь. Завтра.
– Герберту легко говорить, он живет в нормальной свободной стране. Ты что, полностью расслабился и забыл, откуда ты? Хочешь специального постановления на свою голову? Или тебе мало ошибок других – успел забыть фортель Денисова?
– Ничего я не забыл…
– Тогда опомнись, пока не поздно…
– Лера, неужели за столько лет у нас ничего не изменилось? Неужели все так уж мрачно и безнадежно? А вдруг?..
– Вдруг – это не про нас… Короткая у тебя, однако, память, дорогой мой. Вспомни, что случилось, когда наш милейший Эдисон забунтовал и прогремел – со своим замечательно талантливым «Солнцем инков», на Западе – помнишь? Если забыл, я напомню – сразу разгромили в критике и автоматически загнали в разряд запрещенных. Но он-то пострадал по вполне понятным причинам – родимые блюстители высокой социалистической нравственности считают его проповедником западных ценностей и апологетом советского авангардизма… С ним разобрались беспощадно, но вполне конкретно – за что бедняга боролся, на то и напоролся. А куда клонишь ты? Лавры авангардиста тоже не дают покоя?
– Какие лавры – вдруг просто повезет и удастся проскочить…
– Через эту мерзость от 26 июля 71 года?
– Ну, у меня все-таки солидный послужной список и идеологически безупречная репутация…
– Нет, тебе все-таки не мешает напомнить – кстати, и здесь опять след того же Денисова… Именно после его статьи в итальянской газете – не помню ее названия…
– Это был журнал, ежемесячное приложение к газете «Ринашита»…
– Да, именно после этой публикации Секретариат Союза композиторов и принял знаменитое Постановление, по которому передача за границу любого нотного или литературного материала без его ведома и одобрения категорически запрещается. С соответствующими последующими санкциями – вплоть до сам знаешь каких…
– Думаю, вряд ли по моему поводу начнут сильно возбуждаться и станут настаивать на исключении… Я ведь не лыком шит и действую по-умному – никому ничего не передаю, а исполняю сам…
– Не будь ребенком. Тоже мне, хитроумный подпольщик нашелся… Против кого шустришь? Ты же прекрасно понимаешь – если машина закрутится, отмыться будет сложно.
– Будь и ты объективна и признай – сейчас не те времена…
– Блажен, кто верует… чтобы втоптать в грязь, достаточно нескольких предложений в одной статейке, а чтобы отмыться, потребуется, ох, как много времени, усилий и не восстановимых нервных клеток – причем, своих собственных… Учись на чужих ошибках – хотя бы того же Эдисона – до сих пор ведь нигде не исполняют, не издают, не записывают. И хотя его вещи популярны за рубежом, сам он сидит на привязи и никуда выехать не может. Да и кому он особенно известен даже у нас? Только горстке приобщенных профи… Ни всенародной славы, как у тебя, ни тебе заслуг и почестей – одни пинки да подзатыльники… Хоть и является потрясателем основ и даже влияет на многие композиторские умы и вкусы, а широкому слушателю – не известен.
– Зато он всегда был и остается самим собой, а это дорогого стоит… придет еще его время…
– Я никогда ни на чем не настаивала, когда речь заходила о твоих творческих приоритетах, но, боюсь, здесь нам с тобой не договориться.
У Загорского не было бунтарства в творчестве – он не писал ничего фрондерского, авангардного, додекафонического, как некоторые другие, все время находящиеся в творческом поиске. И не потому, что рационалистическая серийная техника, додекафония, алеаторика были признаны коммунистическими идеологами и всей ответственной за культуру цепочкой чуждым явлением, не допустимым в советской музыке. Он, признавая право на существование любого музыкального направления, не разделял безоглядного увлечения некоторых талантливых композиторов только авангардом, потому что раньше других разобрался в нем и не счел его особенно перспективным. От этого направления, столь почитаемого многими молодыми и талантливыми композиторами, на него веяло неким технократическим диктатом, а он в творчестве предпочитал простор. Некоторые новые идеи были созвучны и ему, запоздалое же подпольное увлечение некоторых композиторов только модернистами – новейшей музыкой Штокхаузена, Шенберга, Веберна, Ноно, Булеза, Бартока, Лигетти, Вареза, Кейджа и других, менее известных, он не разделял и полагал обыкновенной данью моде, неким завихрением заблудших искателей. В творчестве необходимо быть независимым, и он, зная это, всегда стремился быть свободным от чужих влияний. Свои мысли он излагал жене – четко и честно:
– Нельзя идти против традиций только потому, что это – модно… Если чувствуешь, что рамки тональной системы становятся слишком тесными – что ж, тогда тебе и карты в руки, дерзай… Только не нужно следовать этому модному направлению из одного протестного порыва или желания быть на гребне волны и приобщиться к взрыву официозности… Всегда считал и считаю до сих пор, что чрезмерное почитание, а тем более следование и подражание большинства моих современников новой волне для меня неприемлемо, даже вредно, передозировка чужим радикализмом может полностью подавить собственную индивидуальность.
На ее вопрос, почему он не пишет статей на эту тематику, он отмахнулся и сказал:
– Терпеть не могу быть назидательным и вообще поучать – не мое дело, может, именно поэтому я не люблю преподавательской работы. По натуре я – одинокий волк, сам себе голова…
Эта симфония была единственной попыткой доказать, прежде всего самому себе, что он может все – включая и заарифметизированную додекафонно-серийную технику.
Да, за всеми творческими успехами, подъемами и победами он слегка угорел и успел позабыть о незыблемости основ – в музыке, как и во всем искусстве, царили не вдохновение, самобытность и спонтанность, как он полагал, а совсем другая триада: идейность – народность – реализм. Идейность предполагала партийность – не стоит объяснять, какую. Народность имела в виду только один тип народа – строителя коммунизма. Реализм же сводился к одной-единственной правде – установочно-нормированной, в соответствии с указами, директивами, решениями и постановлениями, отраженными в газетах, на телевидении и радио.
– Проба сериалиетического пера, – объяснил ей тогда полностью оторвавшийся от действительности и парящий в невесомости ее дорогой муженек, – в духе Штокхаузена… Он мне как-то ближе других, в нем сочетается и рациональное, и экспрессивное начало. Особенно интересна пестрота его полинациональной стилистики…
– Ну и ну, – сказала она, просмотрев клавир. – И что же делать с этими треугольниками, прямоугольниками и прочими фигурами? Как играть эти схемы, эту геометрию?
А он объяснил, что все не так уж сложно – на основе одного ряда цифр выдается гармоническая и мелодическая части, рассчитывается ритмика, варьируется громкость и т. д. И сыграл начало, которое она тут же назвала «иллюзорной музыкой точек и пауз». Ей сразу стало ясно, куда могут привести эти оторванность и парение. Нужно было срочно опускать его с высот на землю.
– Это, конечно, небезынтересно, необыкновенно выразительно и очень даже своеобразно, но где же играть такую авангардную музыку? У нас и за меньшее предают анафеме и отовсюду отлучают. И если все же осмелишься и место найдешь, учти – никто тебе тогда не поможет, сам знаешь, опальные санкции – не для слабонервных фантазеров. Надеюсь, к революционерам и бунтарям ты себя все-таки не причисляешь… Да и зачем тебе такая сомнительная слава? Мало, что ли, настоящей?
– Да ведь в творчестве вообще не все и не всегда поддается одной только логике и здравому смыслу, и музыка – не исключение… Пришло время, и она прорезалась спонтанно – наверное, просто вызрела…
– Знаешь, дорогой мой, спонтанность пусть вызревает в постели, но не в карьере, достигнутой не только одним талантом, но и многолетней продуманной стратегией и тактикой. И я не могу допустить, чтобы ты в одночасье взял и разрушил труды многих лет. Лучше не испытывай судьбу, а отложи-ка ты сей опус на потом… когда-нибудь придет время и для таких экспериментов…
– Когда-нибудь, когда рак на горе свистнет… Дорога ложка к обеду… да через некоторое время эта техника может просто потерять актуальность, устареть и стать просто очередным пройденным этапом, историей музыки, – с обиженным видом проворчал он и, взяв тетрадь, надолго исчез в кабинете, плотно закрыв за собой дверь…
Тогда он внял – уже готовое сочинение было задвинуто поглубже в стол.
И вот сейчас оказалось, что внял он – ненадолго. Втихую привезя симфонию с собой, он томился и не знал, как быть, но она видела, что ему очень хочется, чтобы ее услышали.
– Ты ведь даже не включен в программу.
– Пустяки. Даже лучше, что не включен в официальную программу – доносчики потеряют бдительность и пропустят мимо ушей. Караян говорит, что можно сыграть в заключение, сверх программы, сюрпризом.
– По-моему, на тебя просто нашло затмение, головокружение от успехов. Ты даже забыл, что нужны репетиции.
– Я не успел тебе сказать – сегодня уже была первая.
– Конспиратор, – сказала она. – И как?
– Этот оркестр способен на все…
– Я не о том! Как звучит музыка? Ты впервые слышал вещь целиком, в оркестровом исполнении…
– Ничего не хочу говорить… У тебя есть уникальная возможность – самой послушать ее завтра. Или – никогда.
– Инстинкт самосохранения говорит мне – не нарывайтесь, ведь все так хорошо. Но я вижу, что ты завелся. Скажу честно – не хочу участвовать в этой акции самосожжения.
– Я уже обещал Герберту…
– Не пори горячку, давай подумаем до завтра.
Заснуть она не смогла, потому что всю ночь он ворочался и вздыхал. Едва рассвело, он оделся и на цыпочках, думая, что она еще спит, направился к двери. Она взглянула на часы – было пять утра.
– Куда ты в такую рань? – спросила она.
– Ты поспи, а я немного погуляю, подышу и поразмышляю на тему: «Талантов много, духу нет».
Он печально посмотрел на нее и, нахохлившись, как мокрый воробей, закрыл за собой дверь.
«Как обычно, начинает обращаться к авторитетам и цитировать, когда его что-то сильно забирает», – с раздражением подумала она.
Далась ему эта «Мерцающая», ведь сам же говорил, что это – не его путь… но зачем-то же взял ее с собой, причем, что досадно, втайне от нее. Как будто не понимает, какая это лакомая кость для всей идеологической инквизиции, набросятся и порвут, живого места не оставят, и никакие дядюшкины охранные грамоты не спасут!
Нет, она должна надавить на него – для его же блага! Пусть дуется и дергается, это пройдет, она знает, как зарядить его энергией, но сейчас нужно быть твердой и удержать его от заведомой глупости!
Она попыталась заснуть, поставив будильник на восемь часов, но так и не смогла. Услышав звонок будильника, встала, приняла душ, привела себя в порядок и, одевшись, начала паковать вещи, готовясь к завтрашнему отъезду. Оставив только самое необходимое, она со злостью посмотрела на часы – через двадцать минут выезжать на репетицию, а его все нет и они еще не завтракали.
Написала ему записку – мало ли, вдруг разойдутся – и спустилась в ресторан.
Он сидел за столом с фон Караяном и главным организатором фестиваля – финским композитором Маркку Нихти. Увидев ее, эти двое тут же встали из-за стола и, приветственно помахав руками, вышли из ресторана.
«Удрали от меня, заговорщики… Черт возьми, его уже полностью захлестнуло и несет… Тоже мне – герой, идущий наперекор, на мою голову… впервые обошелся сам, без моей помощи – сумел объясниться на своем чудовищном английском!»
Она злилась на него, не понимая, что ее больше раздражает в этой истории – нависшая угроза или его неизвестно откуда взявшееся тупое упрямство.
– Извини, не зашел за тобой… встретил в вестибюле Караяна и Нихти, они шли завтракать и потащили меня с собой. Маркку весь светился – Герберт успел сказать ему о сюрпризе.
– И чему он так возрадовался?
– А тому, что советский композитор открыто продемонстрирует связь с современной западной традицией, развивая ее своеобразием русского звучания… ну, и тому, что заодно и продирижирует собственным сочинением!
– Но ты же знаешь, что это – не бирюльки, и для тебя не тайна, как у нас…
– Пойми, Лера, этим сейчас живет весь остальной музыкальный мир, и я не хочу начисто выпадать из времени!
Калерия замолчала, не закончив фразу. Только теперь до нее дошло – она уже проиграла, опоздав с переубеждениями, он на самом деле вполне обошелся без нее – нашел высоких покровителей, поддержку и, как ему кажется, беспроигрышную лазейку. Все это и придало ему неуместной храбрости.
Но в своем затмении он выпустил из вида пару простеньких истин – безумству иных храбрых песни поются одно мгновенье, а все его авторитетные покровители имеют значение только исключительно на этой территории… При переезде через границу иллюзии развеются напрочь…
Ну, что ж, всему свое время – проигрывать лучше весело, и свои поражения тоже нужно уметь признавать… В ее правоте он, к сожалению, скоро убедится сам, ждать недолго… Может, самомнение и вера в собственные силы и возможности откроют ему глаза на некоторые реальные вещи – все не совсем так, как представляется. Наверное, иногда полезно получить по башке, чтобы научиться ценить уже достигнутое… Не за горами времечко, когда он сможет привести только одну подходящую цитату – «Что имеем – не храним, потерявши – плачем». Жаль, конечно, себя – рыдать-то он придет на ее плечо, и выкручиваться придется именно ей.
Она решила больше не раздражать его и не злиться самой, а постараться не напрягать его, забирая энергию на споры, – ему предстояло еще репетировать, а вечером дважды выходить перед публикой. Все, что она сделала, было уже не ультимативным, а примирительным актом – допила кофе, игриво взъерошила его волосы и, с веселым видом встав из-за стола, сказала:
– Ну, ладно, не будем заранее притягивать неприятности, поминая черта всуе, может, ничего и не случится – авось, пронесет! Где наша не пропадала!
– Спасибо тебе. Было ужасное чувство, что впервые ты – против меня.
– Не я – против тебя, а ты – против них, что чревато. Ладно, замнем и, по принципу и подобию нашей организующей и направляющей, начнем немедленно надеяться и верить в свое неизбежное светлое завтра и в не менее светлое будущее всего прогрессивного человечества…
Они уже весело рассмеялись, и он с благодарностью поцеловал ее. Напряжение было снято, но это была просто хорошая мина, а внутри она продолжала ощущать и неприятный тяжелый осадок, и предчувствие чего-то дурного…
* * *
Его концерт для фортепиано и камерного оркестра, написанный специально для фестиваля и вошедший в официальную программу, был заранее прослушан и одобрен в Союзе композиторов. Технически блестяще выполненное, сочинение начиналось со страстного вступления солирующего фортепиано, призывно ведущего за собой струнные, которые в контрасте с ним создавали изломанный, с разной степенью длиннот, волнообразный фон. Пианистка играла именно так, как он хотел, – нервно, надрывно, и финал, хотя и мажорный, заставлял думать о каком-то исступленном конце. Он посвятил концерт памяти Бориса Пастернака, творчество которого боготворил, но об этом знали только они, а чтобы лишний раз не нарываться, официальное название, одобренное цензурой, было вполне невинным – «Пробуждение».
Концерт был принят прекрасно, его бисировали, но полный триумф, с которым была принята «Мерцающая», не шел ни в какое сравнение с ним, да и, по ее мнению, вовсе не соответствовал и качеству самой симфонии – на успех, по всей видимости, сработали солидарность и некий ореол таинственности, чуть ли не заговора музыкантов против тоталитаризма.
На банкете прозвучало больше всего речей и тостов в его честь, а изрядно подвыпивший, растроганный Нихти назвал его ни больше и ни меньше – надеждой русской советской музыки. Хорошо хоть не единственной.
Она нервничала, понимая, что такое признание западных музыкантов будет немедленно донесено тем, кому надо, – талант вообще простить трудно, – ну, а те, кому надо, для того и существуют, чтобы, в свою очередь, донести на самый верх. Сворная иерархия была отлажена давно и прекрасно работала – никаких сбоев никогда не давала.
Он, в отличие от нее, был просто счастлив, пил со всеми поздравлявшими и к концу банкета хорошо набрался. В эту ночь вздохов она не услышала – спал, как младенец.
Утром их проводили в Москву. Приехав домой, они пообщались с дочкой и, когда она, довольная, отправилась в детскую со своими новыми платьями, джинсами и игрушками, завалились спать – Калерия едва держалась на ногах после третьей бессонной ночи.
Она проснулась первой и сразу пошла в кабинет – посмотреть почту. Сначала взяла «Правду» и на первой полосе сразу нашла то, что ожидала увидеть, – статья называлась «Перевертыш». Заметив мелькнувшую фамилию, она в панике схватила другие газеты – и «Известия», и «Литгазета», и «Советская культура», и даже «Труд» поместили о нем статьи, состязаясь в уничтожающих названиях.
Она налила себе крепкого кофе и села читать. Обвинения были жуткие, бредовые, в духе небезызвестных кампаний тридцать шестого и сорок восьмого годов – конструктивное раболепие, поддельный язык, упрощенческий примитивизм, почему-то – клеточный аморализм… Она читала дальше, подчеркивая новые определения соревнующихся писак – пессимизм, бездуховность, экспрессионистски-болезненная преувеличенность, субъективные рефлексии, интонационная отвлеченность и бездушие и, конечно же, до кучи, дежурные – пресмыкание и низкопоклонничество перед Западом.
«Правда» установочно ставила вопрос ребром – о целесообразности пребывания автора опуса в рядах Союза композиторов и о запрещении дальнейших поездок Загорского за границу. Тут же припоминался и его давний грех – нечленство в партии. «Известия» также выражали сомнение в его способности достойно представлять страну за рубежом. «Советская культура» была недовольна отрывом от масс и потерей чувства реальности. «Труд» негодовал бесхитростно – анархия, зарвался, развлекается на народные денежки, как хочет, да еще и плюет в колодец, из которого пьет.
И единодушие, и тон, и объем разгромных статей давали понять – все это не случайно, не просто критика, но начало планомерной кампании, продуманной травли. Кому же они так помешали, когда и где перешли дорожку?
Заглянув в спальню, она увидела, что Сергей продолжает безмятежно спать, и ей стало жаль будить его – пусть побудет триумфатором несколько лишних минут. Прятать газеты она не будет, да скоро, конечно, затрезвонит телефон и придется давать объяснения.
Калерия успела перечитать статьи еще раз, когда услышала бодрое пение, доносящееся из кабинета, и поняла, что муж проснулся и спустился вниз. В прекрасном настроении, под впечатлением недавнего успеха, он с раскрытыми объятиями вошел в кухню, напевая свой последний романс на стихи Поля Верлена в переводе Пастернака:
И в сердце растрава.
И дождик с утра.
Откуда бы, право.
Такая хандра?
После этих строк вступление уже не требовалось, и она, разжав его объятие, без обиняков сказала:
– Почитай и поймешь, откуда.
Зазвонил телефон. «Началось», – с тоской подумала она и сняла трубку. Это был отец. Не здороваясь, он загремел:
– Что он там у тебя устроил?! Во что вляпался?! А ты что варежку разинула? Первый день, что ли, на свете живешь?
Она, заикаясь, объяснила, что ничего особенного не случилось, он просто сверх программы сыграл свою старую вещь, единственную в этой манере, он больше ничего подобного не писал и писать не собирается… Она сейчас же позвонит дяде, все объяснит и попросит его помочь…
– Ты что, с ума сошла? И не думай звонить, здесь он тебе не только не помощник, но и наоборот…
– Почему наоборот? Он никогда не отказывался…
– Да поймите же вы, ты и твой удалой муженек, что и на старуху бывает проруха, дядя сейчас сам в дерьме – случайно не врубился и вляпался, по одному делу оказался в контрах с самим Сусликом, который его и раньше не жаловал и всегда ждал, чтобы братишка подставился…
– Да что же случилось?!
– Это – не телефонный разговор, я сказал тебе главное – откуда ветер дует…
Все сразу объяснилось. Да, хуже – не придумаешь, добро на травлю дал сам «серый кардинал»…
Это было опасно, его хватка всем была известна. «Все-таки тут не сталинский жим, – подумала она. – Времена уже не те, поэтому особенно дрожать, наверное, не стоит, но хорошо бы провентилировать начальство и заручиться какой-нибудь высокой поддержкой».
Она начала лихорадочно обзванивать знакомых, надеясь что-нибудь прояснить и найти нужный ход, а заодно и узнать их реакцию.
Неодобрение было таким всеобщим, что она опешила. Основная масса захлебывалась от осуждения – сошли с ума, перестали быть реалистами, подвели Союз композиторов под монастырь, подставились, зарвались, теперь всем снова – хана, снова начнут усиленно бдить и последовательно зажимать…
Надо же было так завидовать и ненавидеть их, чтобы не удержаться и с ходу влиться в общий хор, извергая столько желчи! Гуляев и Портновский, его дружки-соперники, якобы сочувствуя, в долгих телефонных беседах с нескрываемым удовольствием смаковали суть самых авторитетных приговоров и приводили цветистые высказывания представителей разных музыкальных кланов и группировок, включая околомузыкальные круги. Изображая свою с ним солидарность, они заявились в Новодворье – на их невозмутимых лицах читалось тайное удовлетворение сложившейся ситуацией. От вынесенных из кулуаров новых подробностей становилось совсем уж не по себе, но, видя это, они еще больше вдохновлялись и с просветленными лицами и с новой волной напускного негодования начинали выразительно цитировать особенно запомнившиеся им – не поленились выучить! – целые абзацы из газетных борзописцев.
Избиение началось сразу – уже во второй половине дня позвонил Барсуков и сообщил об отмене концертов в ЦДРИ; на следующий день было отменено выступление в Зале Чайковского и авторский концерт в Консерватории. Еще через день – звонок из Ленинградского малого зала филармонии, потом отменили запись на радио его камерных циклов – все под благовидными предлогами.
Начальник отдела внешних сношений Минкульта позвонил лично и предлогами обременять себя не стал – сказал без вступления, что в свете происшедшего не видит оснований для гастрольных поездок Загорского за рубеж и все его поездки аннулируются на неопределенное время.
Разделались быстро – за неделю все было кончено… Он оказался не у дел и почти в полной изоляции.
Удивляться скорости, с какой была произведена экзекуция, она не стала, потому что считала – нечему… Времена хоть и поменялись, но привычки-то остались прежними, ведь людишки у власти были те же самые.
Не все оказались трусами и прихлебателями – на проработке его в ЦДРИ, куда он не пришел, загремев в больницу с резким обострением хронического гастрита, раздавались и трезвые голоса, а кое-кто даже выступил в его защиту, но это потонуло в истошных воплях тех, кто жаждал немедленной расправы.
Однако исключать его было неоткуда – в партии он не состоял. Изгонять тоже – официального поста он в это время не занимал, а из композиторского Союза выпирать было как-то неудобно – все-таки в свое время он находился там на высоких постах, да и в свете приближающегося международного конкурса имени Чайковского в Москве было неразумно давать западным музыкантам зацепку для критики лучшей из систем. Заклеймив позором и выпустив пар, сошлись на том, чтобы поставить на вид, запретить зарубежные гастроли и преподавание в Консерватории.
* * *
Он был настолько сломлен и уничтожен размахом этого удара, что она стала опасаться за его здоровье. Сибарит, с барскими привычками, – весь в своего отца, белая кость, – уже успевший привыкнуть к успеху и почестям, после недавнего всеобщего признания и, особенно, последнего вознесения – и вдруг такой контраст, такое унижение!
Она понимала, что потрясения подобного свойства не проходят даром и могут непредсказуемо вылиться в болезнь или и того хуже – отозваться крайним поступком.
Так и получилось. Началось все с гастрита, потом потянулись непрекращающиеся ОРЗ, с головными болями, бронхитами, гайморитами и воспалениями среднего уха. Но еще больше пугало его психическое состояние – полная прострация и бездеятельность. Он вообще перестал разговаривать, не подходил ни к телефону, ни к письменному столу, ни к роялю, даже ничего не читал. Она знала, какую нежность вызывает в нем ребенок, и, специально проинструктировав, направила Беллу в кабинет, но он тут же выпроводил дочку из комнаты, сказав ей всего два слова: «Папа болен».
Оставлять его одного она опасалась, поэтому первое время тоже сидела дома и ничего не предпринимала. Потом решилась – позвонила Роману Борисовичу, и тот сразу дал совет:
– Немедленно смените обстановку… увозите его – куда угодно, но не оставляйте одного. Пойте дифирамбы, гуляйте, ласкайте, даже станьте на время его собутыльницей – в меру, конечно; короче – расслабляйте чем угодно и как можете. Помогите ему снова почувствовать вкус к жизни. Если все это не поможет, тогда – ко мне, приступим к гипнозу и медикаментозному лечению.
Она созвонилась с грузинским композитором Нодаром Коберидзе, у которого была дача в Пицунде. Он уже был наслышан о разносе, но это его не смутило:
– Да плюньте вы на весь этот хреновский бздеховский хай и пошлите их всех сама знаешь куда! Айда ко мне, здесь – настоящий рай… Сейчас на море – самое время, бархатный сезон. А Серго скажи – вылечу за неделю, «Цинандали» от любого гастрита – первое средство.
Вот это загнул, грузинский князь, живой классик – колоритно, да еще и с аллитерацией! Да, в самобытном словотворчестве Нодарчику не откажешь, как, впрочем, и в таланте тоже…
Море, солнце и, конечно же, грузинское гостеприимство, сдобренное изрядным количеством «Цинандали», сделали свое дело. Сергей стал приходить в себя, немного оживился, загорел, начал есть, но его продолжала мучить бессонница и, видимо, связанные с ней и с нервным потрясением, головные боли, не проходившие даже после приема таблеток. Работать он все еще не мог.
Прожив в Пицунде месяц, вернулись в Москву, она – с четким планом: пройдется по старым связям, авось что-нибудь где-нибудь и проклюнется.
– Противно ходить на поклон и пресмыкаться, – сказал он.
– Да тебе и не надо никуда ходить, пойду я.
– Прости меня, ты тысячу раз была права…
– Конечно, я так хорошо знаю изнаночную сторону этой зловонной канавы, которая зовется советским искусством, где гениев немного, зато злодейских козней – хоть отбавляй. Разве легко вынести чужой успех? У тебя – аншлаги, признание, люди слушают твою музыку с душевным трепетом, о песнях вообще молчу, где их только не поют – кто это может пережить спокойно?
– Мне поехать с тобой?.. Чтоб тебе не так тоскливо было…
– Все эти людишки, которые кормятся за наш счет, но при этом думают, что осчастливили нас, – для меня просто моськи, мелкая шушера. У меня против них – иммунитет, и я абсолютно не страдаю, общаясь с ними, – наоборот, они меня даже развивают.
– Каким образом?
– Иду в их театр абсурда с собственным готовым сценарием. Они думают, что я от них завишу, а у меня к ним один подход – заставить работать на меня. Я попросту раскалываю их – одно не подошло, вот вам другое; оно не сработало – попробуем что-нибудь еще!
– Ты – необыкновенная женщина…
– В этом паноптикуме только так и нужно. Появляется азарт, как у дрессировщика в цирке – номер должен быть успешным!.. Это и ведет меня, поэтому все, что за этим, – уже не важно, важен результат. Вхожу в образ – ставлю между ними и собой стеклянную перегородку и не позволяю втянуть себя в поставленный не мною спектакль очередного бездарного режиссера. Постепенно запускаю свой собственный сценарий, и можешь мне поверить на слово – у меня это вполне получается.
– Бедная моя, это все – из-за меня…
– Да брось ты, пусть они будут бедные, сами ведь называют себя слугами народа. Что ж, раз слуги – пусть и обслуживают.
– Никогда не знаешь, о чем с ними говорить…
– А дусик Арамчик знает? Тоже не знает. Кристальнейшей души человек, но ведь ходил же и продолжает ходить на поклон к партийным бонзам, и даже гордится дружбой с некоторыми из них…
– Ну, наш премьер – совсем другой породы, сам – белая ворона в этой стае…
– Кроме него есть и другие. Ладно, сиди и жди, не переживай – мы их сделаем…
Решила – сначала не забираться слишком высоко, но и не опускаться слишком низко – замминистра культуры Горликов в самый раз.
Она не лукавила, когда говорила мужу о своем пренебрежительном отношении к партийно-бюрократическому аппарату, руководящему культурой, – их махровую пошлость и невежество вкупе с жалкими потугами на исключительность и интеллектуальность ничто не могло скрыть. Не спасали даже надутое высокомерие, барская пренебрежительность и чванство по отношению к челобитчикам да и просто к зависимым от них людям. Для нее все это было слишком очевидным – им даже значительность не удавалось прилично разыграть. Она не раз наблюдала, как при звонке или визите чиновника повыше они немедленно поджимали хвосты и менялись в лице, вытягивались во фрунт. Их только что демонстрировавшееся «собственное мнение» тут же превращалось в беззастенчивое блеяние – да-да-а-а, обяза-а-а-тельно, будет сде-е-лано… сплошные гласные и приглушенные тональности…








