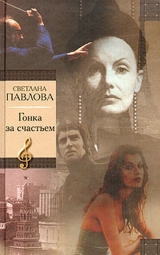
Текст книги "Гонка за счастьем"
Автор книги: Светлана Павлова
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 33 страниц)
Отрыдав и назвав все своими именами, я поняла: зная эту ужасную правду, я не знаю, что мне с ней делать дальше – выяснять подробности у отца? Требовать объяснения у матери?
Сейчас, с высоты своего возраста и собственного пережитого горького опыта, я могу глубокомысленно изречь:
– Да, слаб человек и грешен, тешит себя чаще низменным и редко бывает способен к высокому…
Ни за что не поверю и сейчас, что несчастья и страдания могут облагородить. Опыт показывает, что все совсем наоборот, инстинкт самосохранения и эгоизм в такие периоды заглушают все прочие чувства – отец, не зная, как решить проблему, переложил все на мать, а она, как умела, защитила свою правду – себя и свою семью…
Но под этим горьким, доказанным жизнью выводом я могу подписаться сейчас, а тогда было – крушение иллюзий, прощание с затянувшимся детством и первое жесткое столкновение с несовершенствами реальности… Все было так конкретно неприглядно, так непоправимо больно, что привело к резкому отчуждению от родителей, особенно – от матери. В ней я видела тогда одно только зло. При моем максимализме это было вполне закономерно. В тот день я полностью прошла два спецкурса – стремительного взросления и ускоренной любви-ненависти к ней…
И хотя ситуация зашла в тупик по вине отца, мне было жаль его – он казался мне одиноким и несчастным, загнанным в угол двумя такими разными, но знающими, чего они хотели, женщинами-охотницами, а он, вроде бы обидевший их обеих и виновный перед обеими, на самом деле казался мне затравленной ими жертвой.
Мать продолжала бесстрастно следовать привычному ритму, делая вид, что все идет по-прежнему, ничего не изменилось, но в ней затаились глухое несчастье, потерянность и еще что-то неясное, чего не было раньше, – и в глазах, и в напрягшейся фигуре… Теперь никакой маской этого нельзя было скрыть, это бесконтрольно исходило от нее…
ГЛАВА 5Наш факультет жил отдельной жизнью, и эта тема у нас не муссировалась – по крайней мере, я не чувствовала никаких косых взглядов. Ирина с Женькой, конечно же, знали все от меня. Ирина считала, что не мое дело призывать отца или мать к ответу.
– Ты что, хочешь стать их судьей? Или жаждешь справедливости? А ты можешь точно сказать, в чем она состоит? В том, чтобы заставить отца уйти от матери и жениться на сомнительной особе, на тридцать лет младше себя? А если ребенок действительно не от него? И чем все это может кончиться для всех? А хочет ли этого он сам? Видишь, у меня одни только вопросы…
Женька была с ней солидарна:
– Не ты заварила кашу, не тебе ее и расхлебывать. Бессмысленно страдать понапрасну, когда невозможно докопаться до правды. Хотя порой лучше и не докапываться, себе дороже… как говорит любитель порассуждать, наш сосед – дед Степаныч – пол-России бегает, непонятно, кем зачатая. А вообще, девицы-красавицы, душеньки-подруженьки, у меня в последнее время все чаще возникают печальные подозрения на предмет того, что взрослая жизнь, к которой мы так стремимся, – довольно поганая штука и идиллических картинок в ней гораздо меньше, чем хотелось бы…
Поскольку ни один из участников драмы не проявлял активности и не давал никакой пищи для дальнейших разговоров, конец этих событий, достаточно банальных на первый взгляд, был не очень долгим и довольно вялотекущим… В московском свете еще некоторое время посмаковали эту историю, дополняя собственными подробностями, которые до меня иногда доходили, но, как водится в приличном обществе, в лоб никто и никогда не спросил ни о чем главных действующих лиц…
Можно представить, как была бы распиарствована эта история сейчас, с какими фотоснимками и заголовками! А в те времена личная жизнь живых классиков еще была табу для средств массовой информации…
Я не знала, о чем говорили родители, обсуждая эту тему, да и обсуждали ли они ее вообще… скорее всего, мать сделала все, чтобы забыть о ней – избавив себя от соперницы, она с удвоенной энергией принялась за воссоздание былого семейного покоя.
* * *
Для отца случившееся было сильнейшим потрясением – он как-то весь поник, его плечи опустились, в фигуре появилось что-то жалкое, не по годам старческое, взгляд стал безжизненным…
Некоторое время он вообще не выходил из дома, целые дни проводя в кабинете, а позже, перед сном, добирался до скамейки, стоявшей в глубине двора, и, тяжело на нее опустившись, сидел там, как на погосте, беззвучно шевеля губами – то ли предаваясь воспоминаниям, то ли хороня их… О чем он думал в этих внутренних самоистязаниях самого себя, часами смотря в одну точку, – не знаю. Я также ничего не знаю и о том, действительно ли он поверил матери или лишь спрятался за поданную ею спасительную мысль о своем бесплодии. Решив молчать, я никогда не призналась ни ему, ни ей, что мне все известно.
Позже, после второй поездки в Пицунду, куда они вместе ездили на летний отдых, у него начались периодические запои, и даже всесведущая с ее всеохватным вниманием мать не всегда могла распознавать и вовремя выявлять источники поступления алкоголя.
Марина в положенный срок произвела на свет мальчика и устроилась на работу в Интурист. Вскоре до меня дошли слухи, что она вышла замуж за шведа и благополучно укатила в Швецию.
Жизнь не стояла на месте, разветвляясь в новых историях – вскоре было заведено уголовное дело на профессора Будницкого, обвиненного в антисоветской деятельности, и начался громкий судебный процесс, полностью переключивший на себя всеобщее внимание.
У меня тоже произошло немаловажное событие – мой первый настоящий роман с однокурсником, на который я решилась только потому, что девицы заели меня, называя закоренелой холостячкой и замшелой старой девой. Роман был платонический и продлился недолго, потому что молодой человек слишком торопил события, к которым я еще не была готова, но главным было то, что я понемногу начала пробуждаться.
* * *
Дома все выглядело внешне, как всегда, благопристойно – тишина и красота, все блестит и сияет чистотой, отменная еда, короче – сплошная идиллия, но все это – для непосвященных. Что до меня, то я, зная обстановку изнутри, задыхалась от гнетущей домашней атмосферы, в которой не было ни единой свежей струи и никакой надежды на перемену. Мне было непонятно, как теперь вести себя дома, а дома ведь не ведут себя, а просто живут…
Я старалась придумывать себе дела в университете, чтобы меньше встречаться с родителями, возвращалась поздно и, поужинав, сразу уходила к себе комнату.
Впрочем, первоначальное отчуждение и раздражение против матери понемногу улеглось – не то чтобы я примирилась с ее поступком, здесь, скорее, срабатывали незримые, глубинные связи – мать есть мать, человек родной и незаменимый. К тому же, я видела, как резко она сдала, и тогда мне стало ясно, чего стоила ей эта маска успешной светской дамы.
Позже, когда все успокоилось, она сделала себе пластическую операцию – выглядеть плохо она теперь просто не имела права.
Но даже в то трудное время я не припомню ни одного случая, чтобы она сорвалась под воздействием стресса, проблем или негативных эмоций – ее невидимый стержень, энергетика и дух были организованы так, что казалось, у нее нет никаких уязвимых мест, ничто и никто, кроме отца, не способны ее сокрушить. А отец оставался при ней, и это было – главным…
Я тогда впервые уяснила для себя, что мои родители несчастны, каждый по-своему – мать, создавшая себе божество и полжизни поклонявшаяся ему, поняла, что результат не соответствует замыслу, а отец, внушивший ей эту любовь и принявший ее, в результате этой любовью и был подавлен.
Мне захотелось сбежать – не исключено, что просто пришло время оторваться от родителей, хотя тогда мне казалось, что причина заключена именно в этой истории. Я говорила себе, что не могу оставаться в лживой обстановке дома, где невозможно ничего изменить или исправить – этого не хотят, не могут сделать его главные создатели, – и верила в это.
Прямолинейная Женька остудила мои терзания как всегда метко и категорично:
– Что ты дурью маешься? Угомонись и живи спокойно, у тебя нет никакого права ни диктовать им своих правил, ни навязывать своих точек зрения. Кому станет легче от выяснения всех деталей, от сцен покаяния, взаимных обвинений? Родители и сами несчастны, да не так уж и молоды… Ну, устроишь душераздирающую сцену, а к чему придете? Кто станет счастливее? Я, между прочим, ох, как хорошо понимаю, почему ты слишком застрадала – это всего-навсего повод, а причина в другом, признайся, – тебе давно надоело жить на цепи, уездной барышней, хоть и в роскоши, но все же – в деревне. Поневоле взвоешь, захочешь вырваться, ситуация понятная, но не рви грубо, а слиняй по мирному.
Ирина выразилась более изящно, но в том же ключе:
– Я давно размышляю над тем, что родители в какой-то момент перестают быть непререкаемыми авторитетами для своих детей, а остаются просто родителями. Это – нормально, но жить вместе, когда происходит внутренний разрыв, трудно, по себе знаю… давно все дома раздражает…
– А я думаю, что не в родителях дело… Просто, господа биологи, пора признаться еще в одном открытии, которое меня недавно пронзило. Отгадайте – с трех раз.
– Да ладно, валяй, все равно не отгадаем, твои открытия вечно – за пределами возможного….
– Зато – универсальные, так что пользуйтесь, дарю. Я обнаружила, что наши перепады и раскорячки объяснить не так уж трудно, если посмотреть на все непредвзятым взглядом.
– Да не мути ты, скажи по-человечески.
– Излагаю – в один прекрасный момент просто приходит такая понятная пора – трубит гормон и зовет всех и каждого в свой отдельно взятый поход. И уж, поверьте, родители тут ни при чем – мои вон молятся на меня, тянутся всю жизнь, завели себе свет в окошке, а я, подлая, только и мечтаю – как бы вырваться на волю. Вот только некуда – замуж, что ли, податься.
Такие разговоры приносили облегчение, я понимала, что зацикливаюсь и начинаю смотреть на родителей только в критическом свете.
И все-таки тоскливое состояние в семье было как вирус, который постепенно начинал особым образом действовать на меня – в дом я входила на цыпочках, как в больницу…
Мои родители, каждый в своей раковине, перестали нуждаться во мне, и это прозрение не ударило меня, наоборот – я даже почувствовала облегчение, потому что внутренне уже оторвалась от них.
В какой-то момент инстинкт самосохранения, врожденное жизнелюбие подтолкнули меня – моя растерянность исчезла, и я осознала, что пора становиться самостоятельной, а это невозможно, если живешь жизнью родителей. Для этого нужно жить отдельно.
Одно время я, как и Женька, у которой закрутился бурный роман с потрясающе талантливым художником, подумывала о замужестве, ведь это был самый естественный вариант бегства из дома – на нашем курсе на всех напала матримониальная лихорадка, и незамужних или неженатых можно было пересчитать по пальцам…
Я осмотрелась – горизонт выглядел безутешным, да и стоила ли игра свеч? В нашей семье и без дополнительных сценариев было столько тайного расчета и интриг, что это отдавало уже традицией, и я задумалась – а не решить ли проблему проще? У меня же есть выход – наша московская квартира. Нужно только дождаться удобного момента, чтобы переселиться в нее окончательно. Такой вариант должен устроить всех, включая и мать, ведь в отсутствие третьего лица – а я, как ни крути, действительно, третье лицо, Фенечка не в счет, она живет в своем параллельном мире – все в доме тет-а-тет, без свидетелей наверняка пошло бы иначе, родителям стало бы легче расслабиться и как-то наладить свою дальнейшую жизнь…
* * *
Обычно мы проводили лето вместе. Поездки хоть и бывали интересными, но составлялись всегда по программе родителей, своей программы у меня никогда не существовало. На этот раз родители уехали до начала моих летних каникул, и я впервые оказалась предоставлена самой себе на целый месяц. Мне было сказано, что у отца переутомление и ему нужен полный покой.
Впервые в жизни передо мной прорисовалась заманчивая перспектива – пусть временная, но полная независимость. Женька была недосягаема, обосновавшись в каком-то медвежьем углу, без телефона и вообще без всякой связи. В это добровольное изгнание она радостно отправилась со своим новоиспеченным мужем – за неделю до отъезда они втайне от ее родителей, не разрешавших ей рано выходить замуж, расписались, что мы с Ириной торжественно засвидетельствовали. Я решила не скучать – позвонила верной Ирке Красновой и предложила махнуть куда-нибудь на отдых вдвоем.
– А тебя отпустят? – засомневалась она.
– Уже отпустили, автоматом, – сами уехали, а меня не пригласили, что приятно. Наконец-то отдохну, как все нормальные люди. Вот только – куда двинуть? Пошуруй в профкоме, может, какая-нибудь пара горящих путевок и найдется.
Она пошуровала и предложила на выбор три возможности – университетскую базу отдыха в Сочи, спортивный лагерь на Домбае и дачу одного знакомого парня из Эстонии, там летом всегда кантовался кто-нибудь из наших, но пока, к счастью, одна комната оставалась свободной.
Посовещавшись, мы остановились на третьем варианте – в двух первых случаях пришлось бы жить по заведенному распорядку, а в Эстонии мне нравилось, я бывала там раньше – в то время это был островок другой цивилизации да и полной независимости для нас.
Я позвонила в Пицунду и сообщила матери, что еду с Ириной отдыхать в Эстонию – в данной ситуации этот революционный поступок не вызвал возражений, она лишь попросила оставить телефон и сказала, где лежат деньги.
Это было незабываемо здорово – ощутить себя взрослой и свободной. Оказалось, что я могу справиться со всеми проблемами сама, без спецзаказов и звонков. Сначала – билеты на самолет, вполне можно постоять и в очереди, потом – пробежка по магазинам за всеми сопутствующими отдыху товарами, переделка, стирка-утюжка… Наконец, на заказанном заранее такси, хотя мать советовала обратиться к Палычу, мы двинули в аэропорт.
Необходимость действовать, новые впечатления да и просто здоровый эгоизм молодости притупили все тяжелые ощущения последнего времени – и так впервые без внешней помощи, без советов и наставлений началось постепенное превращение маменькиной дочки в существо, хотя еще и не вполне самостоятельное, но жаждущее и вполне способное жить своей отдельной жизнью…
Эйфория достигла апогея, когда мы сошли с трапа самолета и увидели, что даже погода на нашей стороне – солнце сияло, как на юге. Вдали размахивал букетом Яарно, обещавший стать нашим Вергилием. Не сумев сдержать щенячьей радости по поводу открывающихся перспектив, я ринулась ему навстречу, крича во весь голос:
– Ура-а-а! Да здравствует жизнь и свобода!
Ирина, смеясь, понеслась за мной…
Мы были молоды и неопытны, и обе одинаково думали – пусть будут трудности и ошибки, зато свои. Тогда мы еще не понимали, что лучше учиться все же на чужих ошибках…
Без преувеличения могу сказать, что это был лучший отдых в моей жизни.
Вернувшись в Москву, я сразу переехала в нашу квартиру на Льва Толстого, твердо заявив матери – буду жить теперь здесь. Скорее всего, ей было не до меня, или, может, она интуитивно поняла, что ее рычаги управления мною перестают действовать, потому что неожиданно для меня она не стала противиться этому уже свершившемуся факту.
Там я благополучно и прожила до своего замужества, изредка наезжая в Новодворье, в основном лишь для того, чтобы повидаться с отцом – мать сама регулярно навещала меня, когда по делам бывала в Москве.
После окончания университета мне предложили работу на кафедре в должности лаборантки с правом ведения семинарских занятий и возможностью работы над собственной темой – я так до сих пор и не знаю, приложила ли она руку к моему устройству. Хотелось бы верить, что это – моя собственная заслуга, ведь на факультете меня считали признанным лидером и способной студенткой. Я с радостью ухватилась за это предложение, потому что работать в школе мне не улыбалось, а куда еще можно было деваться с моим дипломом – я себе представляла довольно смутно. У меня все устроилось наилучшим образом.
Ирине, получившей диплом с отличием, предложили аспирантуру, а Женька нашла себе работу в мединституте на кафедре гистологии. Она несколько отдалилась от нас, наслаждаясь семейной жизнью, обставляя свою новую двухкомнатную квартиру, но мы на нее не были в обиде, потому что и сами стали реже встречаться – у Ирины вновь начался очередной этап романа с препятствиями с Игорем Сергеевым, сослуживцем ее отца, человеком женатым и старше ее на двенадцать лет. Я тоже впервые всерьез увлеклась одним нашим аспирантом, поэтому некоторое время мы общались в основном по телефону.
* * *
Жизнь родителей не то чтобы наладилась, но приобрела более ритмическую подвижность, зависящую от духовного и физического состояния отца. Собственный юбилейный вечер, где было объявлено о присуждении ему народного артиста СССР и о выдвижении его оперы «Дворцовый переворот» на Госпремию, он, едва выведенный из очередного запоя, с трудом высидел.
После открытия банкета и нескольких тостов в его честь мы сразу уехали, потому что, отправившись провожать министра культуры, он где-то по дороге умудрился набраться и, вернувшись, уже едва держался на ногах. Но теперь это волновало меня куда меньше – начиналась собственная жизнь, к которой я так стремилась и в которой, как я надеялась, мне удастся избежать крупных ошибок, а мелкие нам не страшны, с ними мы справимся – шутя!
ГЛАВА 6Умелая режиссура матери периодически выводила отца из болезней и запоев, дозируя достаточное появление на публике – без излишеств, чтобы не примелькаться. Ни на шаг не отходя от него, она умело разряжала обстановку и ограждала мужа от некоторых не в меру назойливых музыкальных критиков и любопытных знакомых – не следовало никому давать возможность вторгаться в их личную жизнь… При этом она явно не желала мириться ни с его новым состоянием, ни с собственным фиаско, поэтому и продолжала вытаскивать отца на всяческие тусовки. И он действительно понемногу стал приходить в себя.
Начало 90-х, полностью изменив жизнь, зафиксировало и полную утрату в обществе интереса к высокому искусству, показав, как быстротечна слава, как зыбка и ненадежна любовь публики… О молодых талантах в серьезной музыке что-то не было слышно, да и литература порядком подрастеряла имена, а новых, таких же крупных, как в те годы запрета, не появлялось.
Вот тогда моя мать опять удивила всех своей изобретательностью, поставив на создание собственного издательства. Эпоха была уже совсем другая, да и нравы – не те, поэтому, чтобы оставаться на волне, нужно было рисковать, и она, уже немолодая женщина, это сделала. Язык не поворачивался назвать ее пожилой или, не дай Бог, стареющей, разговоры о ее возрасте в доме хоть и не были под запретом, но не велись, юбилеи не отмечались, да и эти определения ей просто не подходили.
Не знаю, как ей удавалось – не внешне, хотя и внешне тоже – всегда находиться в такой безукоризненно-прекрасной форме… Казалось, она чувствовала себя так, словно к ней не имели никакого отношения все мешающие ей факторы – годы, угасание, болезни, проблемы, перемена настроений, негативные ощущения… Это было загадкой, приводило меня в восторг, и я гордилась ею, надеясь, что это у нас – семейное.
Она, безусловно, была прирожденным топ-менеджером, если перевести ее особые способности в современные реалии. Берясь за очередной проект, она, с ее хваткой и организаторскими способностями, без труда справлялась с ним, любое новое дело оказывалось ей по плечу.
Я не раз замечала, что ее присутствие в издательстве действовало на окружающих стимулирующим образом, но совсем не так, как присутствие блистательного отца. При ней подтягивались, переставали ныть и расслабляться, мгновенно включались в работу, рассосавшись по кабинетам, закрыв за собой двери, уткнувшись в компьютеры или бумаги – все демонстрировали исключительно темпы, ритмы, деловую и профессиональную активность и времени зря не теряли… В этом и заключалось то, о чем она мне говорила в свое время, – иллюстрация эффекта «включенного образа».
И как все, за что она бралась, становилось событием значительным, так и здесь, хоть и не все проекты были высокодоходными, но все, без исключения, оказались высококлассными – будь-то переводная художественная литература, поэтические сборники, энциклопедические издания, мемуарно-исторические серии, альбомы по искусству или детские книги и учебники для школ.
* * *
Отец, кроме работы в издательстве, продолжал заниматься дирижированием, главным образом в Москве, и лишь изредка они вместе с матерью выезжали и на гастроли. Теперь зарубежные поездки были больше связаны с его участием в жюри конкурсов или фестивалей, а также различного рода событиях, посвященных юбилейным торжествам и памятным или знаменательным датам. Он продолжал писать и эстрадные песни – по просьбам известных исполнителей, а однажды, уступив уговорам популярного эстрадного певца и по совместительству владельца собственного агентства Эдуарда Глущенко, написал несколько новых – попопсовее, по просьбе заказчика, песен. Трудно было устоять перед таким проектом – Глущенко задумал организовать концерт из песен Загорского разных лет. Я уже переехала в Москву, и этот разговор велся в издательстве в моем присутствии.
– Вы давно уже классик песенного жанра, у вас все песни – особый бренд, штучный товар, не бабочки-однодневки. Но их распевность, изысканность и балладная тональность хороши для серьезных певцов высокого эстрадного уровня…
– Спасибо за оценку. А позвольте полюбопытствовать, почему – «но»?
– Да потому, что я хочу совместить и мастеров, и способных молодых, ведь чтобы быть на волне, нужно уметь охватить все слои публики, и, прежде всего, привлечь молодую аудиторию – именно она в наше время и определяет массовость, которая, сами понимаете, и есть кассовость – формула здесь несложная.
– И как же я смогу повлиять?..
– Во-первых, разрешите моему парню сделать несколько собственных аранжировок, подсовременив некоторые из ваших старых песен, для ускорения, а во-вторых, напишите четыре-пять новых – вот вам куча словесной руды, кромсайте, как хотите.
– Что ж, подсовременьте… А для новых песен у вас есть какие-нибудь особые пожелания?
– Только одно – не нужно ничего раздумчиво-меланхолического, серьезного, этого у вас – предостаточно… Постарайтесь написать шлягеры новой поры – попроще, пораскованнее, поразухабистее, что ли. Побольше чувства юмора, народ ведь ходит на концерты оттянуться, погудеть…
– Не знаю, смогу ли соответствовать поставленной задаче – гудеть, видите ли, не приходилось…
– Уверен, что создадите новые хиты сезона. Концерт получится что надо, ни одной минуты в этом не сомневаюсь – петь согласились все звезды.
Глущенко оказался прав – все не просто получилось, концерт оглушил своим успехом. За ним последовал грандиозный банкет, в новорусском стиле, с такими речами о признании его выдающихся заслуг перед публикой, о которых он и мечтать перестал, но которых, с его честолюбием, ему так не хватало.
* * *
С этого времени и начался очередной вираж его метаморфоз – он завяз на эстраде…
Мать постоянно пыталась убедить его в том, что у всех бывают временные трудности и застои, что он не выдохся и ему нужно снова вернуться к сочинению серьезной музыки. Он молча выслушивал ее и, не сопротивляясь, шел в кабинет.
Но все было напрасно – он впустую отсиживал в кабинете, чтобы, скорее всего, не спорить с матерью. Из кабинета не доносилось ни звука, и отсидки, как правило, были непродолжительными. После них мрачное, почти несчастное выражение долго не сходило с его лица. Было видно – что-то в нем заглохло.
– Понимаешь, – сказал он мне, когда я как-то заехала к ним в Новодворье, – сейчас совершенно другое время и иные нравы… Вернуть интерес к высокой музыке – невозможно. Телевидение настолько изменило массовое сознание, что слушательские навыки у большинства людей заторможены, а то и вовсе отсутствуют, сама знаешь – серьезную музыку ходят слушать единицы, поэтому лучше смотреть правде в глаза и работать в прикладных жанрах, что в данный момент гораздо важнее.
Скорее всего, он просто размышлял вслух, пытаясь определить свое состояние. А я подумала, что в творчестве все объясняется гораздо глубже – драматическими границами отпущенного каждому таланта, предельностью горения и созидательных возможностей – он просто иссяк, пересох… Однажды он сам признался мне:
– Меня приводит в ужас сама мысль о крупных музыкальных формах – не понимаю, как я смог столько сделать.
Издательские дела поначалу всерьез увлекли его, но ненадолго – теперь он терпеливо отсиживал свои присутственные часы, делая минимум необходимой работы, большую часть которой перекладывал на расторопного заместителя… Оживлялся он к вечеру – когда предстояло ехать на очередную тусовку. Мать же, методично занимаясь делами каждый день, находила в себе силы постоянно сопровождать его – просто для того, чтобы не дать ему перебрать с выпивкой.
В связи с новым творческим приливом у него произошел очередной перелом – он начал обращать усиленное внимание на свой внешний вид и одежду. Насмотревшись на скоморошескую отвязность своих партнеров по шоу-бизнесу и следуя их рекомендациям, обзавелся собственным визажистом. Им стал сам Макс Волков, вызывавший у меня полный шок, внешне – второй Майкл Джексон, только в российском варианте. Он сделал отцу молодежную, стильную стрижку и перекрасил его каштановые волосы, чтобы скрыть так шедшую ему легкую серебристую седину, в невероятно-золотистый, с подпалинами, цвет.
Маникюр и педикюр, не говоря уже о массаже, вдруг естественным образом вошли в его жизнь и словарь. Полностью же меня ошарашило его последнее, внеочередное посещение салона, закончившееся совсем уж ударно – он явился в издательство, проведя радикальную коррекцию бровей – так эта услуга называется, а попросту говоря, Макс выдернул ему, как себе, половину бровной растительности, что придало лицу отца пустовато-удивленное выражение.
На его «Ну, и как я тебе в моем новом образе?» – я ответила что-то невразумительное, типа – «СвоеОбразно (с ударением на втором „о“), но к этому нужно привыкнуть». Он внимательно посмотрел на меня и сказал:
– Значит, не понравилось. А все прочие – хвалят.
– И мама – тоже?
– Ну, на нее угодить сложно. Да я и не пытаюсь… с некоторых пор…
И, как не раз бывало, призвав на помощь Пастернака, закончил цитатой:
– Не забывай, «все живо переменою»!..
Он как-то слишком оживился, стал непривычно игривым и кокетливо-общительным – очевидно, старался вписаться в свой новый образ эстрадной звезды.
Вся эта шлягерно-попсовая деятельность новой волны и публика, вращающаяся вокруг отца, были не во вкусе матери. Но теперь он двигался только в этом направлении, и она уже ничего не могла тут поделать – причудливые изгибы отцовского преображения не были попыткой бунта, откуда было взяться бунтарскому духу после стольких лет систематического подавления и безоговорочной добровольной капитуляции? Это было единственное проявление его творческой независимости, которая вдруг развернулась неожиданной стороной – теперь ему не требовалось одобрения всегдашней конечной инстанции, ведь контакты завязывались на тусовках и от заказов отбоя не было. Мать даже и не пыталась возражать, поняв, что сейчас писать иначе он уже просто не мог – или так, или никак…
Как-то в переходе метро я увидела афишу Театра теней с названием спектакля – «Вакхические радости. Музыкально-хореографическая драма для мужчин». Режиссер – А. Рогов, композитор – С. Загорский.
Я решила, что композитор – однофамилец отца. Мне и в голову не могло прийти, что он связал себя с известным скандальной репутацией театром, руководитель и режиссер которого не сходили со страниц бульварных газет, расписывая эпатажный репертуар театра и всячески выставляя на всеобщее обозрение свою нетрадиционную ориентацию. Столь откровенная демонстрация подробностей личной жизни наводила на мысль, что делается это исключительно рекламы ради и привлечения публики для – главным образом, специфической… Рогов был не дурак – прекрасный бизнесмен, при нем дела в театре пошли в гору… Скорее всего, он нашел свою нишу и срочно изготовил успешно продаваемый на рынке зрелищных услуг требуемый продукт. Понять это было можно – каковы времена, таковы и песни. Принять – труднее…
Придя в офис, я рассказала об увиденной афише матери и от нее узнала, что автор музыки – отец, закончил опус за неделю.
– Он теперь ничем не способен долго заниматься.
Впервые она позволила себе столь критическую оценку, но событие было действительно экстраординарным.
– Просмотрела так называемый сценарий, все от начала до конца – фрейдистски-гомосексуальные завихрения, сплошные комплексы… вульгарно, даже грязновато, абсолютно безвкусно и невероятно пошло. Все декорации – условны, пустая черная сцена с гигантскими цветными фаллосами на заднем плане…
– А знаешь, я уже раньше видела во сне похожие картинки. Прямо – сон-вещун… Надеюсь, приличная публика на это ходить не станет, так что краснеть не придется…
– Зря надеешься. Билеты раскуплены заранее, все было умело разрекламировано по телевидению и в газетах. Знакомые звонят каждый день, просят посодействовать с билетами – полный ажиотаж.
– Да зачем это им?!
– Неужели не понятно? Приятно же посмотреть, как у Загорского, выражаясь современным языком, крыша поехала.
– Может, ты преувеличиваешь, ориентируешься на свой взыскательный вкус, а это – просто острый материал, с игривым подтекстом?.. Профессионально рассчитанное заигрывание с публикой?
– Тут ты права – острее не бывает, но без всякого подтекста, прямиком – в лоб. Можешь сама полюбоваться началом арии главного героя, выпала одна страница. Дальше – все в таком же духе. А отец утверждает, что это – ирония-буфф, эпикурейский юмор, что и Моцарт сочинял, веселясь, импровизируя, развлекая себя и публику. Мог играть, например, носом и считал, что нет такой глупости, которую нельзя было бы спеть… Утверждает теперь, что высокое и одухотворенное в творчестве не противоречит казарменному юмору и плебейским замашкам его создателя…
Я прочла и опешила – это было нечто…
– И как же звучит музыка к таким ариям?
– Не знаю, да музыка здесь и не важна, в данном случае используется только его имя – он им нужен для наживки. Изобрел новый метод работы – сразу с оркестром, читая строки, развивает тему, импровизирует на фортепиано, дает инструментальные советы… его записывают на магнитофон, а потом какой-то их спец расшифровывает запись, и после этого идет отдельная, уже без него работа с оркестром. Короче, полный бред… А он доволен, уверен, что нашел себя и говорит – проглотят…








