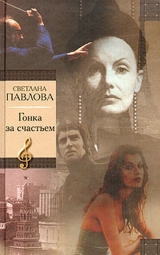
Текст книги "Гонка за счастьем"
Автор книги: Светлана Павлова
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 33 страниц)
Будучи абсолютно не уверенными в себе и в долговременности пребывания на своих теплых местечках, они торопились обогнать друг друга в этой гонке за приобщение к кормушке более высокого ранга, максимально напрягаясь в одном – верноподданническом раже, лакейски-подобострастной отработке хозяйских команд, и состязание в угодничестве перед хозяевами было единственным занятием, которому они необыкновенно талантливо, почти самозабвенно предавались. Понятное дело – пребывание в таком унизительном положении приводило к осознанию своего полнейшего ничтожества, которое они потом с лихвой восполняли, расслабляясь по полной программе – да и как иначе можно было преодолевать собственные комплексы неполноценности? Только одним – с упоением отыгрываться на зависимых от них талантливых просителях.
Они беззастенчиво делали вид, что не только представляют культуру, но и руководят тем ее отрезком, на который их забросила судьба. Внутренне они прекрасно понимали, что без них с культурой ровным счетом ничегошеньки не произойдет, да никто и не заметит их отсутствия, разве что только собственная семья, а вот их подопечные – каждый в отдельности и все вместе взятые – и есть этот самый настоящий культурный слой, генофонд нации. Именно за каждым из них и закреплено местечко в этом слое – за некоторыми даже навечно, согласно отпущенному свыше Божественной милостью таланту. Не стоило слишком удивляться выходкам функционеров – комплексы и не то проделывают с людьми…
В роли опальной просительницы она выступала впервые, но, внутренне совершенно свободная от чьих бы то ни было мнений, за исключением собственного, не собиралась и внешне демонстрировать свою растерянность – не дождутся и на этот раз. Да, она пришла сама, но слишком просить не будет, сами все и дадут – по слегка видоизмененной небезызвестной булгаковской формуле. Хоть и пришлось забрести в стаю волков, но по-волчьи выть она не собирается.
На прием записываться не стала – знала, вряд ли Горликов примет ее, изыщет способ отвертеться. Решила – лучше идти прямиком, а там действовать в зависимости от обстановки.
Секретарша была все та же. Они встречались не раз, и в ее очередном появлении хорошо вышколенное создание не заподозрило подвоха – мало ли зачем, может, и позвали, кто же сюда посмеет прийти без договоренности… Был задан лишь один вопрос – назначено ли ей время. Калерия, не смутившись, ответила утвердительно.
– Сейчас Егор Иванович занят… встреча, скорее всего, закончится не скоро, у него целая группа из Большого театра – с каким-то важным разбирательством.
Калерия сказала, что никуда не спешит и подождет конца разговора в приемной.
Примерно через час артисты вышли, и секретарша вошла в кабинет. Калерия, не дожидаясь раскрытия своей маленькой лжи, вошла в кабинет следом за ней и направилась прямо на откинувшегося в кресле вельможу.
– Милейший Егор Иванович, сколько лет, сколько зим?
– А, Калерия Аркадьевна, драгоценная вы наша, какими судьбами? – увидев ее, он, захваченный врасплох, от неожиданности на мгновение остолбенел, потом вскочил с места и его понесло – на что она и надеялась. Он опередил секретаршу, которой так и не удалось уточнить, было ли Калерии назначено. – И правильно сделали, что навестили… К чему этот придворный этикет, мы же свои люди… Да, давненько вас не было видно… проходите, проходите. Все цветете, это же просто уже неприлично – такая с ног сбивающая красота…
На одном дыхании выдав тираду, он поцеловал ей руку, которую она, абсолютно не раздумывая, первая подала ему.
– Да и вам грех жаловаться, друг мой, – просто образцовый государственный муж, – с улыбкой сказала она, свободной рукой плавно прочертив воздух вертикальной линией, призванной обозначить сей данный образец, и тут же без перехода процитировала:
О нет, хоть юность в нем кипит,
Но не жесток в нем дух державный:
Тому, кого карает явно,
Он втайне милости творит.
– Поэзия – великая сила, – бесцветно промямлил он, не зная, как реагировать на ее цитату – то ли счесть за комплимент, то ли воспринять выпадом в свой адрес… Да и с авторством было неясно, а признаваться в этом не хотелось.
Даже в ее опальном положении он чувствовал ее превосходство – другим, попроще, он бы показал, где раки зимуют, а с ней, при виде этого блеска и царственной поступи, от неожиданности потерял представление о реальности и тут же приложился и ко второй ручке.
– Да, и «милость к падшим» – наша задача, – нашелся он, эксгумировав тайники своей литературной памяти, чем приятно удивил Калерию – выкрутился-таки!
Секретарша, укоризненно посмотревшая было на нее, теперь молча вышла из кабинета, плотно прикрыв за собой дверь.
Горликов, как обычно, был любезен и даже в чем-то, видимо, от растерянности, превзошел самого себя – начал, уводя ее от главной темы, рассказывать занимательные истории из жизни своей трехлетней внучки. Она же, раскусив его прием, остановила словоизвержение изворотливого царедворца прямым вопросом – не найдется ли работа для Загорского, пусть на время, приглашенным дирижером, в любой московский оркестр? Словесный поток иссяк мгновенно – он сразу обмяк, развел руки в стороны, а потом, выразительно возведя глаза к потолку, отрицательно покачал головой, что, в переводе с языка жестов, означало – рад бы помочь, но не все в моей власти, запрет исходит свыше. Да, слова здесь были действительно не нужны.
Почти то же самое, правда, с менее статичными мизансценами, повторилось в Госконцерте. Трепов, демонстрируя полное соответствие фамилии, формы и содержания, был в своем амплуа – просто милашка, душа нараспашку, свой в доску. Но и здесь было ясно – дело не в нем.
Он носился вокруг нее кругами и поил ее кофе. От прямого разговора не уклонился, начав с совета:
– Вы же не пухнете с голоду, небось хорошо объегорили нас, утаив валютку, знаем мы вашего брата. Могу дать хороший совет – пока отсидитесь в своих хоромах, а потом помаленечку, по чуть-чуть – вылезайте.
– Да сколько можно сидеть? Я еле-еле вытянула его из депрессии, ведь он почти не спит, даже есть перестал… неужели это кому-нибудь нужно? Прекрасно ведь понимаете, что он – не заурядный лабух, а стержень, основа современной музыкальной культуры, а вы, не церемонясь, посадили эту основу на цепь, загнав в клетку…
– Ну, допустим, лично я никого никуда не сажал… к этому делу я вообще никакого отношения не имею…
– Все вы понемногу имеете, и вот результат – обложенный со всех сторон и затравленный, он сидит и ждет, что я принесу в клюве.
– Пусть не просто сидит и ждет, а высиживает какой-нибудь новый творческий замысел – вытворит что-нибудь гениальное, глядишь, простят, забудут, да еще и премию дадут. Вспомни, сколько раз такое проходили. Партия своих заблудших сыновей не бросает, а ее всевидящее око вкупе с руководящей и направляющей десницей никому не позволит сбиться с пути истинного, – он, не скрывая циничного юмора, коротко хохотнул.
– Не юродствуй, прекрасно помнишь, что Загорский – беспартийный…
– А зря… Удивляюсь, как это ты не досмотрела… Тем более должен стараться, вдвойне – творить как сумасшедший…
– Да не творится в таком состоянии, пойми ты наконец и помоги хоть чем-нибудь… хотя бы вспомни, сколько было вместе выпито-съедено, и мы всегда тебя выделяли… Подумай и о том, что пройдет время, все закончится, и он восстанет из пепла… тебе же стыдно тогда будет, что имел возможность и не помог…
– Ладно уж, раз не можете ни ждать, ни сочинять, дам тебе по старой дружбе один дельный советец – начинайте с провинции. Здесь вам сейчас ничего не светит, поверь моему чутью. Да и кроме чутья, есть кое-что еще – надеюсь, не надо расшифровывать, поверишь на слово – кое-какой информацией я владею.
– Да уж, в эти ваши подковерные игрища под грифом «СС – Сведение счетов» лучше и не вникать… А с чего… и как начинать?
– А с простого – поезжайте хотя бы в Рязань, в Саратов, да в тот же Ростов, где он всех знает! Отовсюду звонки – звонят из филармоний, консерваторий, концертных залов, домов культуры и слезно просят прислать кого-нибудь именитого, чтобы хоть как-то, на громкое имя, заманить публику. Понастроили, понимаешь, дворцов, а нам – отдувайся, ведь заполнить их некем – публика почти не ходит! Всё пустует… а чего было ожидать? Уровень-то ведь только у нас, да еще в Ленинграде… вот и идет стон по всему бескрайнему Союзу – спасайте, выручайте, присылайте! А уж о глубинке и говорить нечего – валите туда, до смерти загастролируетесь!
Он захохотал, в полном восторге от своей метафоры, а потом продолжил:
– Шуткую я, не обижайся… хотя и не слишком, в каждой шутке есть только доля шутки, а здесь она – совсем малюсенькая. Отработаете грех – вот тогда можно будет и на поклон, начинать замаливать, только забирайтесь сразу повыше… Дам еще один совет – если решитесь отправиться, берите с собой шамовку, бо никаких харчей в нашей провинции давно не водится, а с вашей тонкой душевной и физической организацией в тамошних ресторанах есть почти невозможно – еще отравитесь. Как там выживают – больша-а-ая загадка для меня. Вот я и думаю – раз нет жратвы, ходили бы уж хоть на зрелища, так нет, не хо-одят…
«Беспринципная сволочь, – подумала она, – еще и острит на такую тему, а кто же довел людей и страну до ручки? Тоже мне, заботливые попечители духа народного! Печетесь-то вы больше всего о собственном благе, прикрываясь своим бездарным принципом демократического централизма, в котором демократии столько же, сколько во мне уважения к тебе, пройдоха, а сам принцип состоит из ничем не прикрытого каждый-сверчок-знай-свой-шесток холуйства. Вот уж точно – перевертыш, зубоскалит, лицедействует… И внешность, и манеры типичные – из двуликих рвачей, бравирующих направо и налево широтой взглядов, но с той же неутолимой жаждой – поскорей вверх по карьерной лестнице… по трупам пройдет, чтобы быть отмеченным. Прошел хорошую выучку в КМО… Даже не скрывает, что команда – „Ату его!“ – еще в силе. Правильно сделала, что пришла именно сюда: этот, по недоумию, виден как на ладони и управляем, прочие же сворные демцентралы этого направления – можно не сомневаться – не упустили бы своего и обиходили бы нас за милую душу…»
Но, прощаясь, вслух сказала другое:
– Ухожу под впечатлением – приятно поговорить с человеком сведущим!
Он проводил ее до двери и пожелал удачи. В машине она отвела душу, заключив свой внутренний монолог:
«Что б вы все сдохли, ничтожества! Да все вы, вместе взятые, и мизинца его не стоите, а туда же – в глушь, в Саратов! Сам небось поедешь в Карловы Вары! Вместе со своей колодой-женой, людей пугать!»
Она поняла одно – анафема еще не снята и ей нужно выпутываться одной, стало уже ясно – бессмысленно бегать дальше по иерархической цепочке, еще не время, и везде будет одно и то же…
Но ясно и другое – возвращаться к мужу с пустыми руками она не может, он на грани нервного срыва…
Решение пришло сразу. Нет, она ни за что не признается Сергею в своем проигрыше, а представит ситуацию иначе – как правильно продуманный вместе с умницей Треповым план его возвращения назад.
Она заехала на телеграф и заказала переговоры с директором Рязанской филармонии. Когда их соединили, ее уже несло, как Остапа, – она сказала, что звонит по рекомендации Владимира Алексеевича Трепова, который не только передает пламенный привет, но и, памятуя о его многочисленных просьбах, делает ему царский подарок – уговорил самого Загорского отправиться в Рязань на гастроли. Директор отреагировал полным восторгом – счастлив, согласен на любую программу, в любое удобное для маэстро время. Договорились тут же о двух концертах – в субботу и в воскресенье.
Домой она вошла с деловым видом.
– Все, заканчивается вынужденная отсидка и начинается первый этап твоего возвращения. Душка Трепов не подвел и тут же все организовал – едем на гастроли в Рязанскую филармонию. Вылет – в пятницу, вот билеты. По концерту – в субботу и в воскресенье, успеешь отрепетировать. Сбросила ему программу-верняк – Шопен, Рахманинов, Чайковский, Шуман… От себя он предложил что-нибудь из твоих камерных вещей – на твое усмотрение. Москву будем брать позже.
– Лерочка, как тебе это удалось?..
– Не все же безнадежные идиоты – он, по крайней мере, не совсем… Так и сказал – гениям надо помогать, бо порой не ведают, шо творят.
Бо, правда, было сказано совершенно по другому поводу, но какое это имело значение!
– И знаешь, что по дороге пришло мне в голову? Нужно хоть раз побыть гонимым… чем плохо оказаться в одной компании с Прокофьевым, Шостаковичем, Шебалиным, Мясковским, Хачатуряном? Вспомни новейшую историю – этот дебильный «Сумбур вместо музыки», державное мурло Жданов со всей своей камарильей… А где это все сейчас?.. Кто из приличных людей помянет их добрым словом? А Шостакович хоть и страдал, но не сдался, выстоял – и сколько еще написал после их разгромов… Как был глыбой, так и останется – во веки веков… А Шебалин? Распяли и выперли из Консерватории…
– У него тогда отнялась речь, парализовало правую руку…
– Но он и тут не сдался, научился писать левой…
– Да, Дмитрий Дмитриевич не раз вспоминал, как не сладко пришлось и в тридцать шестом, и в сорок восьмом тоже, да и позже…
– Заметь, ведь тогда было несоизмеримо хуже – просто лишили средств существования, ничего не исполнялось… все записи – как корова языком слизала, с работы выставили – несоответствие, это у него-то! Сочинения никуда не берут… издеваясь, подкинули потом какую-то призрачную копеечную должность… А если вспомнить все перипетии Прокофьева…
– Что-что, а уничтожать у нас любят и делают это – с чувством, с толком, с расстановкой, по хорошо продуманному плану и вполне профессионально…
– Но, слава Богу, и все подленькое когда-нибудь заканчивается.
Они съездили в Рязань. После первых удачных концертов слухи распространились, и их сразу же пригласили – уже без подлога – в Тулу, Воронеж, Ростов, потом в Ярославль и – пошло-поехало…
Примерно месяца четыре носились они по залам и зальцам необъятных просторов родины, пока ей не осточертели голодуха, клопы, тараканы, дихлофосный запах гостиниц и постоянно полупьяный, после очередных успешных выступлений с последующими застольями, постепенно опускающийся муж.
– Все, хватит, – сказала она себе, – его уже начинает устраивать такая жизнь, он совсем перестал писать музыку, да на это и не остается времени – только дирижирует старыми, набившими оскомину вещами, провинциальной публике не до изысков, подавай узнаваемое. Пришла пора выходить из подполья. Что ж, Катерина свет Алексеевна, настал и ваш черед – прошу на сцену.
* * *
Она записалась на прием к Фурцевой и, ничего не сказав об этом Сергею, выехала в Москву – мало ли каким будет результат от встречи с этой непредсказуемой дамой!
На фоне почти безнадежного мрака мужского партийного шовинизма она казалась невиданной птицей, случайно залетевшей на этот Богом забытый Олимп, уцелеть на котором можно было при одном жестком условии – сгруппировавшись в сплоченную стаю, используя из всех спускаемых в массы многочисленных доктрин одну-единственную догму – незыблемость партийно-идеологической круговой поруки.
И она, высоко вознесясь, умудрилась продержаться в своей должности целых четырнадцать лет. Но сколько ни кучкуйся, от себя никуда не денешься – она не раз поражала воображение Калерии своими неординарными решениями и нестандартными поступками. И приезд Франко Дзефирелли с легендарной Анной Маньяни, и дивный Витторио де Сика сам по себе и с «Подсолнухами», и приезды Гранд-Опера, и организация международных Праздников искусств – все это и многое другое было делом ее рук.
Трудно забыть километровые очереди москвичей к Пушкинскому музею на выставку импрессионистов – Калерия сама бегала туда дважды. Во многом благодаря министру начали устанавливаться и более тесные официальные контакты со многими именитыми соотечественниками-эммигрантами, включая очаровательную Надю Леже и ностальгирующего по своему Витебску гениального Марка Шагала. А чего стоил один только привоз «Джоконды» в Москву, когда она сумела перехватить ее после японской выставки, ухитрившись обойти вышестоящую инстанцию – изыскала-таки немалые деньги на страховку картины, правда, за счет средств своих гастролирующих подопечных. Она же была и автором идеи доставки шедевра в Москву – обратилась к военным, и те не устояли, скорее, перед ее личным женским обаянием, приказывать ведь им было бесполезно, у них собственная иерархия – высококлассные глубоко скрываемые спецы в считанные дни изобрели лучшую в мире особую перевозочную капсулу из какого-то замысловатого стекла. Этими доныне непревзойденными конструкциями продолжают пользоваться и сейчас при перевозках особо значительных историко-культурных и художественных ценностей.
В отличие от всех прочих подпущенных к власти партиек, она также умела одеться и вполне достойно выглядеть – не традиционно-безликая горкомовская кофточка, а умеренно-элегантный деловой стиль. На разнообразных приемах на Западе она была вполне на месте – бывшая ткачиха не уступала зарубежным дамам, вполне справляясь с вечерним декольте. Она впитывала на ходу и подхватывала на лету, подсматривая за реальной жизнью своим цепким взглядом – где же еще можно было научится умению преподнести себя, а заодно и подать представляемую ею страну, не в высшей же партшколе, и уж тем более не на пленумах и съездах.
На этих же приемах она никогда не чуралась каверзных вопросов и острых бесед и, будучи не робкого десятка, позволяла себе даже некоторые вольности – смело шествовала под руку с вполне ярко выраженными антисоветски настроенными знаменитостями, буржуазными лидерами и сильными мира сего, не говоря уже о Луи Арагоне и Пикассо, которых просто обожала – они ведь были коммунистами…
Ее нестандартность была самого разнообразного свойства – она несомненно умела рисковать и была способна на поступок. Не получившая настоящего образования, она, самородок, интуитивно чувствовала все непреходящее и истинное и тянулась к нему. Единственная женщина на такой недосягаемой высоте, чтобы удержаться на ней, должна была не просто учиться у мужчин, она должна была стать проницательнее их – и ей это удалось. В частности, она научилась неплохо балансировать на этой ничем и никем не страхуемой невидимой проволоке. Можно бесконечно удивляться ее умению доступными властными функциями, а при необходимости и выходящими за пределы ее полномочий методами и способами приобщить закосневшие структуры, а через них и совершенно не повинную в их существовании «единую общность» к нетленному и вечному, сближая отечественные и мировые культурные достижения. При всей своей несомненной принадлежности к этим самым закосневшим структурам, она, тем не менее, изыскивала и находила постоянные возможности давать перебивку нормированного примитива действительно высокими образцами искусства – прошлого и настоящего.
Но как из песни слова не выкинешь, так и из рамок не выпрыгнешь – со всеми вытекающими из этого вневременного тезиса следствиями… Она, при всех своих достоинствах, оставаясь вполне адекватной своей эпохе, была вполне органично инфицирована некоторыми свойственными этой эпохе микробами. В частности, могла вполне успешно публично жевать положенную идеологическую жвачку – во имя и на благо…. Когда ее заносило на крутых виражах единственно верного пути – а таких периодов было не так уж мало, – с ней было лучше не сталкиваться. Отправляясь на эту встречу, Калерия надеялась исключительно на два обстоятельства – собственное наитие и на благорасположение духа своей визави.
Ей повезло – начало приема было теплым и даже радушным. Калерия оделась стильно, но просто, не как в предыдущие два визита, в которых нужно было блистать и даже слегка подавить своим блеском, – здесь перегнуть и затмить было абсолютно недопустимо. Обменявшись искренними комплиментами по поводу внешнего вида, дамы с минуту помолчали, изучая друг друга. Калерия чутко фиксировала все нюансы в перепадах настроения своей могущественной собеседницы. Дамы играли, конечно же, не на равных, но обе были блестящими психологами и знатоками мельчайших оттенков и тонкостей неспешного партритуала – Калерия приступила к делу ровно тогда, когда дождалась вопроса о творческих планах, не раньше и не позже. В нужный момент она без обиняков назвала вещи своими именами – муж на грани срыва.
– Свое мы уже искупили, исколесив полстраны. Теперь вся надежда – только на одного человека, Екатерина Алексеевна, сами знаете, на кого… А уж как мы будем молиться на вас – сами понимаете…
Мадам культурный министр, конечно же, все хорошо понимала – давно научилась читать между строк.
– Да, пора вытаскивать вас, неразумных. Но и ты пойми – чтобы простили, придется покаяться. Вот вам на выбор два предложения. Первое – подписантское, сподобьтесь письмишко от группы творческой интеллигенции подмахнуть…
– А может, есть какие-нибудь официальные заказы?
– Да я и забыла, вы же у нас хитренькие – на дармовщинку все хотите, да все только лучшее вам подавай… Очень удобненькая позиция, мне бы такую – только первые роли, за здорово живешь, а вот по-черному отработать – это ни-ни, не для вас, тут вы ручек марать не желаете.
– На это у вас желающих и без нас найдется сколько угодно – тех правофланговых, кто считает себя «символами эпохи и полпредами советской музыки»… а вот написать действительно хорошую музыку способны единицы, мне ли вам об этом говорить…
– Тут ты, конечно, права, с тобой не поспоришь… хотя замучилась я и с бездарями, и с талантами – вечно у них склоки и раздоры, а мне с ними – одни разборки и вечная головная боль…
– Да уж, успела я рассмотреть группу недовольных товарищей – мощные ходоки, вышли все с распаренными лицами…
– Передрались из-за пластинки, требуют выбросить с записи «Тоски» Вишневскую с Ростроповичем, он там дирижирует. Уже и у Горликова успели побывать и заручиться поддержкой. Но у милейшего Егорушки, нашего голубка непорочного, а попросту говоря – размазни и жениного подкаблучника, какая-то там неувязочка вышла – обещать-то он обещал, но где-то или не досмотрел, как всегда, или просто закрутился и подзабыл дать команду, кому следует… а может, и еще чего – не буду врать, точно не знаю, в отпуске была… Но только расхлебывать заварушку кинули мне, мои же все оправдываются, кивая на недосмотр друг друга… а семейка в это время ничего не подозревает и все равно пишет. Театральный народец не просто недоволен, а активно ропщет и челобитничает по-новой, требуя справедливости, ну, а я как всегда – крайняя, отдуваюсь тут за всех…
– Может, я не усекаю каких-то нюансов, но мне кажется, что в случае Вишневской и Ростроповича все ясно – это же могучая кучка, прямой доход государственной казне.
– Да ты что, с луны свалилась, что ли?! Могучая кучка, тоже мне… сказала бы я тебе, какая кучка… Ясно ей тут все… Лучше не зли меня. Да оправданное у товарищей из Большого возмущение – у твоих кучкистов на даче целых четыре года жил этот злобствующий писака, пасквилянт Солженицын… теперь вот из-за бугра будет злопыхательствовать. А правдоискатель Ростропович ничего лучшего выдумать не мог – взял и вылез в поддержку опального, еще и письмо в ЦК настрочил… сама знаешь, как у нас рады таким письмам…
– Я, со своими мотаниями по Курскам и Калугам, совсем и запамятовала об этом… Так они из-за этого не хотят петь в одной компании?
– Да и компании у них разные – пишут-то ведь две «Тоски».
– Тогда в чем же дело, зачем им все это нужно?
– Удивляешь ты меня – вчера на свет, что ли, родилась? Ясно, зачем – чтоб никаких соперников! Если есть зацепка – рубить под корень! С размахом, талантливо!
– Ну и дела…
– Да уж, наши дела-делишки – сахарок еще тот… Достается мне… причем, со всех ведь сторон, свои тоже хороши – так и норовят побольнее куснуть, только успевай увертываться… Иногда так все надоедает, что хочется послать все подальше, плюнуть на бесконечные кляузы и заняться только искусством, а не получается – если поступил сигнал, нужно реагировать, разбираться… а попробуй не разберись – разберутся с тобой… Ладно, не будем о наболевшем, лучше вернемся к нашему барану, то есть – барину…
Калерию передернуло – тоже мне, феерическая острячка, по всему видно – довольна собой, уверена, что блеснула. Да и впрямь ведь – ввернула к месту…
– Есть и кое-что творческое… хотя бы вот это – написать ораторию ко дню рождения Ильича. Любой сочтет за честь. За такое предложение идут бои, а вам предлагаю по доброте душевной, да еще из любви к его песням… Признаюсь тебе – берут они меня до слез…
И она вдруг неожиданно, с чувством запела приятным, хорошо поставленным голосом:
Меня попросишь спеть – и я спою
Мелодию мою печальную…
Две последующие строчки они пели уже дуэтом, причем Калерия с Ходу подобрала второй голос – вышло вполне профессионально:
В любви моей опять звучит минор—
Не получается веселый разговор…
«Да, если бы не наши удушающие догмы и рамки, могла бы стать по-настоящему значительной фигурой. Когда действует от себя – адекватна своему месту… К тому же, оказывается, может делать что-то не просто толково, но и с чувством, без всякой фальши», – подумала Калерия и впервые за встречу – тоже совершенно искренне – сказала:
– Ну и ну, настоящий сюрприз, вам бы самой на сцену…
– Да все уж, с этим – давно кердык, отпелась я… теперь только вот в кругу семьи, да еще – иногда с подругами вспоминаю былое… а было такое приятное времечко – в свое время первой певуньей слыла в фабричной самодеятельности…
– Если бы в стране было принято более открыто освещать жизнь наших лидеров, конкурентов бы у вас оказалось немного…
– Ладно, просительница, растрогала и ты меня, хорошо просишь и поешь – душевно, по-нашему, по-русски. И что же он насочинял там такого, что наши недремлющие так разошлись? Все культурные идеологи на уши поставлены… Один мой человек из их когорты шепнул мне, что дело под контролем у Самого…
– Да Загорский просто попробовал, один раз…
– Говорят, одна тоже попробовала… и знаешь, что вышло?
– Знаю-знаю, как не знать.
– Ты уж давай-ка, не хлопай ушами, а пригляди за ним… за мужиками всегда нужен глаз да глаз. А особенно за таким, как твой.
– Екатерина Алексеевна, теперь уж точно – глаз не спущу…
– Да ладно уж, не шелести, давай-ка лучше хряпнем с тобой по маленькой, за будущий успех… сама люблю, когда я – добрая…
Она наклонилась и, не вставая, вытащила из письменного стола бутылку, две хрустальные рюмки и наполнила их.
– Лучше нашей беленькой – ничего нет, от нее никакой головной боли. Ну, будем здоровы, за успех, и пусть нашим врагам пусто будет.
Они чокнулись, и Калерия, не моргнув глазом, залпом, вслед за министром, опрокинула свою рюмку – водки она не переносила, но момент был не тот, чтобы выделываться, обижая отказом.
«Только бы не закашляться», – с опаской подумала она…
К счастью, пронесло – лишь на минуту задохнулась, но, незаметно сжав зубы, перевела дух и даже не поморщилась…
– А теперь иди, обрадуй своего. Пусть уж не подведет меня, постарается, напишет от души.
Домой она летела на крыльях. Так и не поняла – или на каком-то витке травля сама по себе пошла на убыль и начала затухать, или сегодня произошло небывалое – ей удалось найти ключ даже к сердцу непредсказуемой хозяйки партийной культуры! Что же это было – чудо или промысел Божий? Но это было уже неважно, а важно было то, что опала – снимается!
Пусть только теперь попробует закочевряжиться и выдать что-нибудь в своем любимом духе, вроде – «я петь пустого не умею»… Хочется любви – придется отдаваться!
Видимо, когда все прочувствуешь на собственной шкуре, кое-что начинаешь переоценивать – кочевряжиться он не только не стал, но примирительным тоном и себе, и ей – в утешение – сказал:
– Спасибо, что хоть Ильичу Первому – не бровям…
А в своем духе не удержался и выдал, но совсем другого плана:
– Что ж, Борис Леонидович, вы не только неисчерпаемый кладезь истин глубоких и вечных, но и певец мимолетных прозрений, предусмотревший все самые невероятные оттенки бытия – придется «серебрить в ответ»… раз обязали небожители…
После ленинской даты опала начала затухать, а потом и вовсе сошла на нет – его пригласили в жюри Всесоюзного конкурса молодых дирижеров. Оставалось дождаться сигнала полной реабилитации, и тот не замедлил явиться – сначала позвали для участия в правительственном концерте, а потом разрешили и поездку в Италию. Вот тогда он и воздал должное тому, ради чего она прошла через все это:
– Ты спасла меня. Я этого никогда не забуду.
И в свое время прекрасным образом забыл, неблагодарный.








