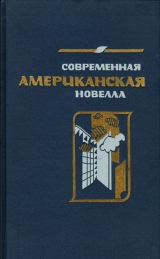
Текст книги "Современная американская новелла (сборник)"
Автор книги: Стивен Кинг
Соавторы: Трумен Капоте,Джон Апдайк,Уильям Сароян,Роберт Стоун,Уильям Стайрон,Артур Ашер Миллер,Элис Уокер,Сол Беллоу,Энн Тайлер,Сьюзен Зонтаг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 38 страниц)
– Лап, – обратилась она к мистеру Дэбни (ее излюбленное ласкательное прозвище, производное от «лапушки»), – ты бы уж выводил, что ли, машину, если мы собираемся ехать на нашу ферму. Боюсь, ему не долго осталось.
И вот, заручившись нежданным согласием родителей отпустить меня с Дэбни, я втиснулся на заднее сиденье «форда-Т», удостоенный держать на коленях промасленный бумажный пакет, набитый цыплятами, которых мамаша Трикси нажарила для полдника на ферме.
В путешествие отправились не все Дэбни – две старшие дочери с наикрупнейшим Хорем остались, – и, несмотря на это, нас оказалось несметное множество. Мы, дети, бок о бок и друг на друге потным клубком слиплись на заднем сиденье, что в точности воспроизводило кавардак, царящий в доме, разве что сор вокруг был иного рода: пустые бутылки из-под шипучки «ар-си-кола» и «нехи», юмористические журналы, арбузные корки, кожура от бананов, грязные заводные рукоятки от двигателя, заляпанные смазкой разнообразные шестерни и скомканные бумажные салфетки. На полу у себя под ногами я даже высмотрел (к несказанному своему смущению, ибо я только что научился распознавать такие штуковины) скомканный желтоватый использованный кондом, забытый тут – я был уверен – каким-нибудь раззявой приятелем сестер постарше, умудрившимся где-то разжиться этим добром для своих плотских утех.
Был чудный летний день, обжигающе жаркий, подобно предыдущему, но ни одно окошко в машине все равно не закрывалось, и нас приятно обдувало. Шадрача поместили в середине переднего сиденья. Мистер Дэбни сгорбился за баранкой и, жуя табак, рулил в мрачной задумчивости; он разделся до нижней рубахи, и мне чуть ли не воочию видны были его раздражение и безысходная ярость, сосредоточившиеся в напряженно вспученных мускулах шеи. Матеря сквозь зубы норовистую ручку переключения передач, на все остальное он слов почти не тратил, целиком поглощенный мукой своего опекунства. Столь тучная, что ее изобильные плечи веснушчатым каскадом складок перевешивались поверх спинки сиденья, по другую сторону от Шадрача маячила Трикси, телесной дородностью одновременно как бы окутывая и поддерживая старца, а тот дремал и клевал носом. Кольцо седин вокруг сияюще-черной лысины мне виделось чем-то похожим на легкий нимб чистейшего инея или пены. И странно, впервые с момента появления Шадрача я почувствовал укол горя и до боли острого нежелания, чтобы он умирал.
– Лап, – сказала Трикси, стоя у поручней замызганного паромчика, переправлявшего через реку Йорк, – как ты думаешь, что это за большие птицы – вон там, позади того судна?
Наш «форд-Т» был первым из въехавших на паром автомобилей, и мы все высыпали на палубу полюбоваться рекой, предоставив Шадрачу проспать на сиденье все пятнадцатиминутное плаванье. Река была голубой и красиво искрилась белыми барашками. Большой серый с белой маркировкой по борту морской буксир пропыхтел в сторону военной пристани в Йорктауне, волоча за собой круговерть отбросов и ошалело мельтешащую над ними стаю птиц. Их вопли заполняли всю мирную ширь фарватера.
– Чайки, – сказал мистер Дэбни. – Ты что, чаек никогда не видала? Тоже мне, вопросы задаешь! Чайки. Глупые, жадные твари.
– Какие красивые, – тихо отозвалась жена. – Такие большие, такие белые, а их едят?
– Да они жесткие, задохнешься жевавши.
Мы уже наполовину переплыли реку, когда Эдмония пошла к машине за лимонадом. Возвратясь, она, поколебавшись, сообщила:
– Мама, Шадрач там в штаны наделал, прямо что-то несусветное.
– О господи, – сказала Трикси.
Мистер Дэбни схватился за планшир и поднял к небесам свое простецкое, тощее, замученное лицо.
– Девяносто девять лет! Господь всемогущий! Ребенок – девяностодевятилетний старый ребенок!
– А пахнет – это какой-то кошмар, – сказала Эдмония.
– Чего бы ему, дьявол его побери, перед отъездом-то было в уборную не сходить? – пробормотал мистер Дэбни. – Мало нам того, что три часа до фермы тащиться, причем без всякой…
– Тш-тш-тш! – прервала его Трикси, тяжеловесно двигаясь к машине. – Бедненький дедушка, он не виноват. Посмотрим, как ты, Вернон, через пятьдесят лет будешь с кишками управляться.
* * *
Едва машина съехала с парома, как мы, детвора на заднем сиденье, принялись ерзать и демонстративно зажимать носы, суча ногами по усеянному замасленным хламом полу. Запах стоял ужасный. Но через две-три мили, когда мы проезжали деревушку под названием Глостерский окружной центр, дремотную, кирпичную, всю в плюще и восемнадцатом веке, Трикси разрядила ситуацию, предложив остановиться у бензоколонки «Амоко». К этому времени Шадрач уже в значительной мере вышел из сонного транса. Он беспокойно завозился в трясине своего конфуза и начал тихонько издавать капризные постанывания, приглушенные и сдержанные настолько, чтобы лишь едва обозначилось то, из-за чего он наверняка по-настоящему тяжко страдал. «Ну-ну, Шад, – мягко сказала Трикси. – Сейчас Трикси о тебе позаботится». Что она и сделала, отчасти уговорами, отчасти при помощи собственной подъемной силы вытащив старика из автомобиля и приведя в вертикальное положение, а затем на пару с мистером Дэбни продвинув это тощее, марионеточно пританцовывающее на цыпочках пугало к уборной, помеченной надписью ДЛЯ ЦВЕТНЫХ, и под приглушенный шум струящейся воды исполнила некий бережный ритуал омывания и вытирания. Потом она доставила его обратно к машине. Впервые за утро Шадрач выглядел вполне пробужденным от того ступора, в который он столь внезапно погрузился много часов назад. «Шлава те Хошшподи!» – услышали мы его слабый, но одушевленный голос, когда взрослые Дэбни водворили его, очищенного, обратно на сиденье. Он поглядывал по сторонам, временами озаряясь узнаванием, и, когда мы трогали его за плечо, обращая на что-нибудь его внимание, отзывался тихим хохотком. Даже мистер Дэбни, похоже, обрел вдруг хорошее настроение.
– Ну как, Шад, жизнь идет, а? – проорал он, перекрывая беспорядочный треск и кашель мотора.
Шадрач кивнул и осклабился, но промолчал. В машине воцарилась атмосфера веселья и возрождения.
– Не гони, Лап, – лениво проворковала Трикси, отхлебнув пива, – мне помнится, там полицейский пост.
Меня переполняло ликование, в сердце билась надежда, а мимо проносились зеленые луга и перелески, цветущие всеми красками лета и источающие аромат сена и жимолости.
Дачное прибежище Дэбни, как я уже говорил, было обветшалым и примитивным – воистину жалкий обломок былого величия. Там, где стоял когда-то солидный плантаторский дом в палладианском стиле, непременном для такого рода построек в дни расцвета Старого Доминиона, теперь торчало жилище хотя в чем-то и более благопристойное, чем лачуга, но, как ни верти, все-таки чрезвычайно скромное. Похожее на короб, некрашеное, стоящее на голых бетонных блоках и увенчанное поблескивающей железной крышей, оно, пожалуй, резало бы взгляд где угодно, но только не в округе Короля и Королевы – регионе, настолько отдаленном и обезлюдевшем, что человеческое жилье там и вообще-то не часто углядишь. Кособокий сортирчик, приткнувшийся на заднем дворе, не добавлял утонченности, да и сам двор здесь тоже был свалкой всяческого хлама. Но окружавшие усадьбу акры дивной зелени были божественны: италийского вида поляны и райские дубовые, эвкалиптовые и багрянниковые кущи – все как бы воскрешало первобытное великолепие тех времен, когда это были земли индейцев покахонтас и паухаттан; к дому со всех сторон подступала изумрудно-зеленая чащоба кустарника, сплошь перевитого виноградом; в воздухе веяло восхитительным хмельным ароматом кедровой сосны, а по ночам лес оглашался посвистом козодоев. В комнатах было относительно чисто, благодаря, правда, отнюдь не усилиям хозяев, а скорее тому обстоятельству, что большую часть года никого из Дэбни в доме не бывало.
В тот день, подкрепившись жареными цыплятами, мы уложили Шадрача на чистую постель в одной из скудно обставленных комнат, затем принялись каждый за свои дела. Мы с Малым Хорем до вечера играли у дома в шарики, стараясь держаться в тени величественного старого бука; через какой-нибудь час ползанья в пыли наши физиономии стали грязными и замурзанными. Попозже мы плюхнулись в мельничный пруд, который, помимо всего прочего, избавил Малого Хоря от его «з. т.». Остальные ребятишки удили окуней и лещей в солоноватой протоке, извивавшейся по лесу. Мистер Дэбни съездил за провизией в придорожную лавку, а потом исчез в кустах – как видно, ему надо было что-то подправить в своем надежно запрятанном дистилляторе. Между тем Трикси, опорожняя к этому времени уже шестую банку пива, тяжеловесно топала по кухне, иногда отрываясь от банки, чтобы заглянуть в комнату, где спал Шадрач. Мы с Малым Хорем тоже время от времени совали туда голову. Шадрач спал глубоким сном, и вроде бы с ним было все в порядке, хотя и случалось, что дыхание у него начинало вырываться хриплыми всхлипами, а его длинные черные пальцы принимались конвульсивно хвататься за край простыни, белым саваном покрывавшей его по грудь. Потом настал вечер. Все пообедали жареными лещами и окунями и с заходом солнца пошли спать. Нас с Малым Хорем, распаренно простершихся нагишом на одном тюфяке, от хрипов Шадрача отделяла лишь тонкая перегородка, и его вздохи нарастали и стихали на фоне других ночных звуков этого затерянного в пространстве и времени уголка: стрекотаний цикад и сверчков, уханья филина и успокоительных посвистываний козодоя – то близких, то почти пропадающих вдалеке.
На следующий день перед полуднем мистера Дэбни навестил шериф. Когда он явился, хозяев дома не было, и ему пришлось подождать: они были на кладбище. Шадрач еще спал, а ребятишки поочередно его караулили. Сменившись с вахты, мы с Малым Хорем около часа рыскали по зарослям и качались на виноградных лозах, а когда ярдах в четырехстах позади дома вышли из сосновой рощи, наткнулись на мистера Дэбни и Трикси. Они что-то высматривали на поросшем ежевикой участке земли, который служил местом захоронения для семьи Дэбни. То была обласканная солнцем поляна с высокой травой, в которой скакали кузнечики. Кладбище терялось в зарослях шиповника, крапивы и всяческого бурьяна; усеянное обломками развалившихся каменных разметочных столбиков, неогороженное и на бесчисленные десятилетия оставленное без присмотра, оно было целиком отдано на откуп лето за летом осаждавшей его зелени, так что даже граниту и мрамору пришлось уступить под натиском всепроникающих корней и буйно пробивающихся побегов.
Здесь были похоронены все пращуры мистера Дэбни, так же как и их рабы, которые покоились чуть в стороне, неотделимые от своих хозяев и хозяек, но четко от них отграниченные как в жизни, так и в смерти. На участке, где были могилы рабов, как раз и стоял мистер Дэбни, мрачно взирая на плотное переплетение корней и на потрескавшиеся, косо торчащие столбики. В руке он держал лопату, но копать еще не начинал. Утро становилось все жарче, и по лбу мистера Дэбни струился пот. Я вглядывался в надгробья и читал имена, из-за отсутствия фамилий краткие, будто клички спаниелей или кошек: Фаунтлерой, Уэйкфилд, Малышка Бетти, Мери, Джупитер, Лулу. Requieseat in Расе. Anno Domini[5]5
Да покоится в мире (начало заупокойной молитвы). От Рождества Христова год… (лат.)
[Закрыть] 1790… 1814… 1831. «Все Дэбни, – подумал я. – Такие же, как Шадрач».
– Черт бы меня взял, если тут найдется хоть один свободный дюйм, – пожаловался мистер Дэбни жене и сплюнул сгусток желтовато-коричневого табачного сока в крапиву. – Напихали сюда этих померших старых дядюшек и тетушек, и всех на один пятачок. Им там, внизу, должно быть, и так уж тесно. – Пауза. Потом характерный звук, обозначавший у него страдание, – придушенный стенающий вопль: – Господи ты боже мой! Как подумаешь – ведь целую тонну глины надо выкопать!
– Лап, а почему бы тебе не отложить это дело до вечера? – сказала Трикси. Она пыталась обмахиваться волглым носовым платком, а ее лицо – оно и прежде попадалось мне на глаза в этом же состоянии сокрушительного летнего помрачения – было мертвенного голубовато-белого цвета, как снятое молоко. Обычно это предвещало обморок. – Слышь, Лап, ведь на таком солнце даже мулы дохнут!
Мистер Дэбни согласился, добавив, что не отказался бы сейчас от доброго стакана чая со льдом, и мы пошли по узенькой тропке, которая вела через поле, пестревшее золотарником, назад к дому. И только мы на двор, смотрим – шериф ждет. Стоит, одной ногой уперся в подножку своего четырехдверного «плимута», причем на переднем крыле машины громоздится круглая, грозно отсверкивающая серебром балясина сирены. (В наших краях в те времена ее называли «ревун».) Шерифом был средних лет мужчина с брюшком, лицо его было опалено солнцем и изрезано мелкими морщинками, на глазах очки в стальной оправе. Позолоченная звезда была у него пришпилена к гражданской рубашке, промокшей от пота. С дружелюбным видом он небрежно коснулся шляпы и сказал:
– Привет, Трикси. Привет, Верн.
– Привет, Тэйзуэл, – веско, хотя и не без доли подозрения, отозвался мистер Дэбни. Не останавливаясь, он продолжал утомленно продвигаться к дому. – Чаю со льдом не хочешь?
– Нет, спасибо, – сказал тот. – Верн, погоди-ка минутку. На два слова.
Я был достаточно осведомлен, чтобы почувствовать неясную тревогу по поводу некоторой своей причастности к тайной лесной винокурне, и задержал дыхание, но тут мистер Дэбни остановился, повернулся и ровным голосом произнес:
– В чем дело?
– Верн, – сказал шериф, – я тут слыхал, будто ты затеваешь хоронить на своей земле престарелого цветного. Мне вчера Джо Торнтон рассказал, в лавке. Это правда?
Мистер Дэбни упер руки в бока и сердито уставился на шерифа. Затем сказал:
– Джо Торнтон – дышло ему в пасть – пустоголовое неизлечимое трепло! Но вообще-то правда. А в чем дело?
– Нельзя, – сказал шериф.
Последовала пауза.
– А почему нет? – сказал мистер Дэбни.
– Потому что это против закона.
Я и раньше видывал, как в мистере Дэбни вздымается ярость, особенно когда речь идет о законе. У виска всегда появлялась трепещущая жилка, кроме того, вспыхивали щеки и лоб; в этот раз оба признака были в наличии, причем вспухшая венка так и забилась, задергалась, словно полураздавленный червяк.
– Это в каком таком смысле против закона?
– В самом обычном. Кого-либо хоронить на принадлежащей частному лицу земле по закону не положено.
– Да почему же не положено-то? – взъелся мистер Дэбни.
– Я не знаю почему, Верн, – сказал шериф, и в его голосе послышались нотки раздражения, – но вот не положено, и все тут.
Мистер Дэбни выбросил руку в сторону – сперва вверх, потом чуть опустив – этаким деревянным, волевым, непреклонным жестом, на манер железнодорожного семафора.
– Вон на том поле, Тэйзуэл, людей хоронят вот уже чуть не две сотни лет. На моих руках престарелый, беспомощный человек. Он был рабом, он здесь родился. Теперь он умирает, и я должен его здесь похоронить. И я это сделаю.
– Верн, послушай-ка, – сказал шериф, пытаясь проявлять терпение. – Ничего подобного сделать тебе не позволят, так что, пожалуйста, не трать на меня свои доводы. Похоронить его придется там, где это позволено законом, ну хоть на любом из здешних погостов, которые для цветных, к тому же все связанные с похоронами работы придется поручить имеющему лицензию цветному специалисту. Таков закон суверенной Виргинии, и никаких как, почему и отчего тут быть не может.
Приближение взрыва ярости и негодования у мужа Трикси почуяла заблаговременно:
– Лап, ну не надо, ну успокойся…
– Дерьмо собачье! Безобразие! – взревел он. – С каких это пор налогоплательщик должен отчитываться перед правительством, хоронить ему или не хоронить безобидного больного старика негра на своей же собственной земле? Это противоречит каждому слову конституции, сроду ничего подобного не слыхивал!
– Лап, – вклинилась Трикси, – ну пожалуйста… – и заголосила.
Шериф умиротворяюще вскинул руки и громко скомандовал:
– Тихо! – Когда мистер Дэбни и Трикси смолкли, он продолжал: – Верн, мы ведь с тобой не первый год знакомы, а потому, сделай милость, не лезь на рожон. И больше я тебе повторять не буду. Объясняю: позаботиться о том, чтобы того старика похоронили у какой-нибудь из здешних церквей для цветных, тебе придется, а кроме того, придется поручить связанную с этим деятельность обладающему лицензией специалисту. Свобода выбора тебе оставлена. Есть большое похоронное бюро для цветных в Таппаханноке и еще, говорят, одно есть в округе Мидлсекс, где-то между Урбанной и Салюдой. Если хочешь, я из суда им звякну.
Я смотрел, как краску гнева на лице мистера Дэбни вытесняет более мягкий, бледный цвет смирения. После продолжительного, вдумчивого молчания он сказал:
– Ну хорошо, ладно. Ладно! И как полагаешь, во сколько это обойдется?
– Да точно-то я не знаю, Верн, но тут одна старая прачка – она стирала и мне, и Руби – не так давно преставилась, и, говорят, ее за тридцать пять долларов похоронили.
– Тридцать пять долларов! – услышал я пораженный выдох мистера Дэбни. – Господи помилуй!
Не знаю, возможно, один лишь гнев побудил мистера Дэбни поспешно удалиться, но потом его целый день не было, и вновь мы его увидели только вечером. Меж тем Шадрач на какое-то время вышел из своего забытья, и от неожиданности мы даже решили, что он окончательно ожил. Трикси лущила горох и посасывала пиво, заодно посматривая, как мы с Малым Хорем играем в шарики. Вдруг Эдмония, которой было предписано в течение часа опекать Шадрача, выбежала из дома.
– Сюда, сюда, все, быстрей! – задыхаясь, выкрикнула она. – Шадрач совсем проснулся, он говорит!
И в самом деле: едва мы подоспели к его ложу, смотрим, он приподнялся в постели, и его лицо впервые за много часов стало живым и осмысленным, словно он пусть отчасти, но все же сознает, где он и что с ним. К нему даже вернулся аппетит. Перед тем Эдмония вставила в петельку его рубашки хризантему и теперь утверждала, что на каком-то этапе своего удивительного воскрешения он эту хризантему наполовину съел.
– Вот прямо сейчас, нет, вы бы только послушали! – уверяла всех нас Эдмония, наклоняясь над кроватью. – Вот только сейчас он говорил о том, чтобы сходить к мельничному пруду. Как вы думаете, зачем это ему?
– Ну, может, просто хочет поглядеть на пруд, – отозвалась Трикси. Она принесла из кухни Шадрачу бутылку «ар-си-колы» и теперь, усевшись рядом, держала ее перед ним, а он тянул напиток через бумажную соломинку. – Шад, – мягко сказала она, – ты хочешь этого? Хочешь поглядеть на пруд?
По черному лицу пробежало выражение предвкушаемого удовольствия, захватившее и его старческие, слезящиеся глаза. Даже голос, хотя и ломкий, прозвучал довольно уверенно, когда он повернул голову к Трикси и сказал:
– Да, мэм, хо'ошо бы. На пруд хо'ошо бы глянуть.
– А почему тебе хочется посмотреть на пруд?
В объяснения Шадрач вдаваться не стал, только сказал еще раз:
– На пруд хо'ошо бы глянуть.
И вот, повинуясь желанию, которое, при всей нашей неспособности доискаться его причины, мы не могли не уважить, мы отправились с Шадрачем к пруду. Он располагался в лесу, в нескольких сотнях ярдов к востоку от дома, – сумрачная, неимоверной давности запруда, одной стороной примыкавшая к болотцу, поросшему мхом и ярко-зеленым папоротником, а по другим берегам окруженная громадами дубов и вязов. Питали пруд донные ключи да все та же торопливая протока, в которой ребятишки за день до этого ловили рыбу, и его вода, отражавшая нависающие деревья и переменчивое небо, всегда оставалась такой ледяной, что пробирала до костей, поэтому купание в нем было изрядной встряской, хотя и приятной. Как переправить туда Шадрача, придумали не сразу: явно ведь такое расстояние он бы не одолел ни самостоятельно, ковыляя на своих бессильно подламывающихся ногах, ни даже с нашей неловкой помощью. В конце концов кто-то вспомнил про тачку, которой пользовался мистер Дэбни для доставки зерна к винокурне. Тачку достали из сарая, и мы быстренько сделали из нее нечто вроде достаточно удобного и даже не лишенного внешней привлекательности колесного паланкина – напихав туда сена и задрапировав сверху одеялом.
Покуда мы, чуть покачивая, везли Шадрача по тропе, он лежал на этом возвышении довольный и успокоенный. Дорогой я наблюдал за ним; в памяти он до сих пор видится мне полуслепым, но хладнокровным и невозмутимым африканским владыкой, которого во всей полноте прожитых им лет несут к некоей долгожданной и неотъемлемо предустановленной награде.
Мы поставили тачку на мшистый берег, и Шадрач долго глядел с нее на пруд, гладь которого, слегка подернутая рябью, была усеяна резво скачущими водомерками, а над нею в солнечной, медного цвета дымке нервно мельтешили переливчато-прозрачные стрекозки. Стоя рядом с тачкой, откуда хрупкими черными камышинками торчали тощие голени Шадрача, я обернулся и, вглядевшись в этот древний лик, попытался определить, на что Шадрач так зачарованно смотрит, что именно сообщает его взгляду такую мечтательность и успокоение. Его глаза следили за ребятишками Дэбни, которые разделись до трусиков и попрыгали в воду. Похоже, это наводило на какую-то мысль, и, озарившись внезапной догадкой, я понял, что ведь и Шадрач когда-то тоже плавал в этом пруду, в августе какого-то невообразимого года, чуть ли не целый век назад.
Мне не привелось узнать, было ли его долгое одинокое путешествие из южной глубинки попыткой отыскать этот пруд и хоть на миг вернуть свое детство; с тем же успехом это могло быть и способом окончательно поставить крест на той жизни, что прошла в страданиях. Даже сейчас я не взялся бы утверждать этого с уверенностью, но ничего иного не остается, как допустить, что Шадрач, когда его, еще молодого, множество лет назад в Алабаме освободили, оказался, подобно большинству его братьев и сестер, опять ввергнутым в кабалу, быть может более мучительную, чем любое узаконенное рабство. Хроники пестрят тысячами свидетельств о тех людях, кто был освобожден и тут же окунулся в новый, уже совсем непостижимый кошмар: нищета, голод, унижения, горящие по ночам костры, беспричинные убийства и – что хуже всего – нескончаемый страх. В мой рассказ все это безумие и мракобесие не вмещается, однако, не упомянув обо всем этом хотя бы намеком, я погрешил бы против памяти Шадрача. Несмотря на лихую бодрость тона, которым он говорил нам о том, что «совшем обешшадел», должно быть, он пережил тяжкие несчастья. Все-таки я сейчас склоняюсь к тому, что возвратиться в Виргинию его побудила не тоска по былым узам, а желание вновь обрести невинность детства. И в тот день, сам еще мальчишка, я стоял на берегу пруда и видел в Шадраче не бежавшего от тьмы, но ищущего света, посланного мгновенным проблеском воссоздавшегося в памяти детства. Старые, туманящиеся глаза Шадрача глядели на запруду, на барахтающихся и перекликающихся в воде ребятишек, по его лицу разливалось глубокое спокойствие и блаженство, и я чувствовал, что он вернул себе, возможно, единственный неомраченный миг жизни. «Шад, а ты тут тоже купался?» – спросил я. Но ответа не последовало. А вскоре он снова впал в дремоту, его голова склонилась к плечу, и мы отвезли его в тачке назад домой.
По субботам у Дэбни на даче спать обычно не ложились до десяти часов. В тот вечер мистер Дэбни вернулся к ужину все еще мрачный и раздраженный, но молчал – его явно не отпустили еще смятение и досада по поводу шерифского эдикта. Он даже вилку ни разу в руки не взял. Но ужин был обильным и удался на славу, как всякая трапеза у Трикси, – я хорошо это помню. Только благословенная земля Пойменной Виргинии способна была в те тяжелые годы одарить бедняка таким пиршеством: ветчина под томатным острым соусом, овсянка, цветная капуста, сладкие перцы, вареная кукуруза, огромные красные помидоры, испускающие сок в салат с луком, травами и уксусом. На десерт дали восхитительный хлебный пудинг, политый свежими сливками. После этого к мистеру Дэбни на ломаном пикапе прикатил сосед-фермер и коллега по самогоноварению по имени мистер Седдон Р. Уошингтон, и они предались тому единственному на моей памяти развлечению, которому уделял свое время мистер Дэбни, – игре в домино. Когда сгустились сумерки, зажгли керосиновые лампы. Мы с Малым Хорем, как два ленивых слизня, опять заползали, одержимые страстью к возлюбленным шарикам; процарапав в пыли у крыльца большой круг, скорчились над своими стекляшками и агатами в мерцающем овале тигрово-желтого света лампы, бешено атакуемой мотыльками. Из-за края леса медленно поднялась луна, похожая на огромный, яркий, местами слегка грязноватый воздушный шар. Пощелкивание наших шариков перемежалось с быстрым «щелк-щелк» костяшек домино на веранде.
– Кто во всем этом виноват – это ясно и ежу, – доносились до меня адресованные мистеру Уошингтону поучения мистера Дэбни. – Виноват во всем, скажем прямо, этот твой Франклин Д. от слова «дубина» Рузвельт. Миллионер этот голландский. А его так называемый «Новый курс» не стоит и горшка теплой мочи. Знаешь, сколько я за прошлый год заработал – в смысле законным образом, – нет?
– Сколько? – спросил мистер Уошингтон.
– А, не стану даже говорить. Стыд один. Все эти цветные, что продают на улицах Ньюпорт-Ньюса вареных крабов по пять центов за штуку, – они и то больше меня зарабатывают. Сама система какая-то несправедливая. – Он помолчал. – А Элеонора тоже ничуть не лучше его самого. – Снова помолчал. – Говорят, она все с цветными да с евреями путается. Со всякими там проповедниками.
– Но ведь должна же когда-то жизнь получше стать, – отозвался мистер Уошингтон.
– Да уж хуже-то некуда, – сказал мистер Дэбни.
По веранде медленно протопали тихие шаги, я поднял голову и увидел, что к отцу подошла Эдмония. Она разлепила губы, секунду неуверенно помедлила и сказала:
– Пап, по-моему, Шадрач отошел.
Мистер Дэбни ничего не сказал, лишь внимательно глядел на костяшки с его всегдашним выражением замученности, самоуглубленного отчаяния и сдерживаемого гнева. Эдмония слегка коснулась рукой его плеча.
– Пап, ты слышишь, что я говорю?
– Слышу.
– Я с ним рядом сидела, держала его за руку, и тут вдруг ни с того ни с сего голова у него… она как-то так перекатилась, и он затих, и не дышит. А его рука… она как-то так обмякла и… ну, в общем, похолодела. – Эдмония опять помолчала. – Он даже звука не издал.
Мистер Уошингтон, кашлянув, поднялся и отошел в дальний конец веранды, там зажег трубку и уставился на красноватую луну. Когда и на этот раз мистер Дэбни не отозвался, Эдмония слегка погладила его по плечу и тихонько проговорила:
– Пап, я боюсь.
– Вот еще, чего это ты боишься? – буркнул он.
– Не знаю, – дрогнувшим голосом сказала она. – Смерти. Мне страшно. Не понимаю, как это – смерть. Никогда раньше не видела, чтобы кто-нибудь вот так вдруг…
– В смерти-то ничего страшного как раз нет, – торопливым, сдавленным голосом выпалил мистер Дэбни. – Жизнь – вот страшная штука! Жизнь! – Он вдруг вскочил со скамьи, разбросав костяшки домино по полу, и, когда он снова проорал: – Жизнь! – я увидел, что из черного дверного зева появилась Трикси и пошла к ним, топая так тяжко, что затряслись подпорки веранды.
– Ну-ну, Лап… – начала она.
– Жизнь – вот от чего должно в страх бросать! – кричал он, уже не сдерживая прорвавшийся гнев. – Я иногда понимаю, почему люди кончают с собой! Где, дьявол бы меня побрал, где мне взять денег на то, чтобы его зарыли в землю? Вечно с этими черномазыми одни проблемы! Да будь ты все проклято, меня воспитали приличным человеком, я всегда говорю «цветные», а не «черномазые», но с ними же вечные проблемы, с этими черномазыми! Они же кого угодно по миру пустят, проклятые черные ублюдки! В задницу! Нет у меня тридцати пяти долларов! И двадцати пяти тоже нет! Пяти долларов и то нет!
– Вернон! – подняла голос Трикси, умоляюще раскинув огромные студенистые руки. – Ведь с тобой так когда-нибудь удар случится!
– И еще, кстати: уж кто самый последний нигеров подблудник, так это Франклин Д. Рузвельт!
Потом вдруг его ярость – точнее, наиболее грубая, необузданная ее фракция – испарилась, всосалась в лунную ночь с ее летними стрекотаньями и запахом теплого суглинка и жимолости. На миг мне показалось, будто он весь съежился, ростом стал еще меньше обычного, сделавшись таким невесомым и слабым, что, того и гляди, улетит, как сухой лист; он провел нервно подрагивающей ладонью по копне своих спутанных черных волос и сказал:
– Да знаю я, знаю, – причем голос у него был слабым и непослушным, как бы обведенным трауром. – Бедный старик, он тут ни при чем. Славный был старикан, жалко его, он никому, наверное, ни малейшего зла не сделал. Вовсе я ничего против Шадрача не имею. Бедный старик, жалко его.
Сидя на корточках под стеной веранды, я ощутил вдруг резко накатившую удушливую волну горя. Из леса донеслось легчайшее дуновение ветерка, и я вздрогнул от его прикосновения к щеке; мне было жалко Шадрача и мистера Дэбни, на душе было горько из-за рабства и нищеты, из-за всяческого людского разлада, взвихрившегося вокруг меня в пространстве и времени, которых я не мог понять. Словно гоня от себя пронзительное беспокойство, я принялся – в этаком приступе самососредоточения – считать светлячков, вспыхивавших в ночном воздухе. Восемнадцать, девятнадцать, двадцать…
– А все-таки, – сказала Трикси, коснувшись руки мужа, – помер-то он на земле Дэбни, как ему и хотелось. Пусть даже его придется положить где-то на незнакомом погосте.
– Что ж, он ведь об этом не узнает, – сказал мистер Дэбни. – Когда ты помер, тебе все равно. Помер и помер, эка важность.








