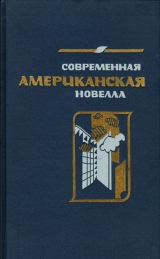
Текст книги "Современная американская новелла (сборник)"
Автор книги: Стивен Кинг
Соавторы: Трумен Капоте,Джон Апдайк,Уильям Сароян,Роберт Стоун,Уильям Стайрон,Артур Ашер Миллер,Элис Уокер,Сол Беллоу,Энн Тайлер,Сьюзен Зонтаг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 38 страниц)
– Так-то оно так, – отвечает Дженет, – только неужели это все, что вы можете сказать?
Она обожает ездить вместе с Родни в торговый центр, хоть он каждый раз что-нибудь выпрашивает. Заглядывая в парфюмерный отдел, Дженет не упускает случая опрыснуться выставленным на пробу одеколоном: «Шантильи», «Чарли» или любым другим покрепче. На этот раз она опробовала два или три флакона и выходит, благоухая как цветочная клумба.
– От тебя воняет, – возмущается Родни, по-кроличьи сморщив нос.
– А Берта пахнет вроде меня, только в тысячу раз хуже – такая она большая, – выпаливает Дженет. – Разве папа тебе не говорил?
– Папа – посланец сатаны.
Этого он в церкви набрался: бабка с дедом его каждое воскресенье туда таскают. Дженет пытается его разубедить, но Родни все равно настроен скептически.
– Он так чудно на меня смотрит, будто насквозь видит, – говорит малыш.
– Вот-вот, – чуть не подскакивает Дженет – так ведь и ей казалось. – С ним такое произошло, что теперь он не умеет показать, как нас любит. Не все у него на месте, не хватает кое-чего.
– Как у кота кастрированного?
– Да, наверное.
Меткость его слов поражает Дженет. Ведь еще ребенок, а похоже, давным-давно раскусил отца. Картинки у него теперь спокойнее: деревья из тонких палочек, самолеты летят над самой землей. Этим утром он нарисовал высокую траву и чьи-то фигурки, притаившиеся в ней. Все стебли под углом, будто клонятся от легкого ветерка.
С получки Дженет покупает Родни подарок: маленький батут, разрекламированный по телевизору. Называется он «Мистер Прыг-Скок». Родни увлекся игрушкой и прыгает до посинения. Дженет тоже заразилась. Они вынесли батут на травку и забавляются по очереди. Она представляет, как однажды возвратится Дональд и увидит ее в воздухе с развевающимся матросским воротником. В один прекрасный день ехавший мимо сосед притормозил и крикнул: «Эй, смотри кишки не вытряхни». Дженет задумывается. Предостережение так ее напугало, что теперь она реже подходит к игрушке. Ночью ей снится кошмар, будто она прыгает на мягком мху, который вдруг превращается в упругую груду мертвых тел.
Тим О’Брайен
Вслед за Каччато
Скверная была пора. Билли Бой Уоткинс погиб, и Френчи Такер тоже. Билли Бой умер со страху прямо на поле боя, а Френчи Такеру пуля прошила шею. Лейтенанты Сидни Мартин и Уолтер Глизон подорвались на минах. Погибли и Педерсон, и Берни Линн. И Бафф тоже. Все они теперь были уже на том свете. Война шла своим чередом, и дождь был частью войны. От сырости в носках и ботинках заводилась плесень, носки гнили, а ступни делались белыми и размякали так, что кожу с них можно было соскоблить ногтем. Как-то среди ночи с криком вскочил Гнида Харрис – ему в язык впилась пиявка. Когда не лил дождь, над рисовыми полями низко и сонно стлался туман, и все вокруг сливалось в сплошную серую стену, и сама война была какой-то промозглой, гнилой и вязкой. Сменивший лейтенанта Мартина лейтенант Корсон подцепил дизентерию. Сигнальные ракеты не загорались. Снаряжение ржавело, окопы за ночь заливало водой вперемешку с грязью. А утром – новая деревушка, и война шла своим чередом. В начале сентября какую-то заразу подхватил Воут. Хвастал перед Оскаром Джонсоном остро заточенным лезвием своего штыка, да и провел им по руке, срезал кусочек размякшей кожи. «Не хуже „жиллета“», – довольно ухмыльнулся он. И крови-то никакой не было, а через несколько дней инфекция проникла вглубь, рука вздулась и пожелтела. За Воутом прислали «хьюи». Вертолет отвесно пошел на посадку, цепляясь лопастями за твердый, словно гранитный, воздух, и унес Воута, снова взмыв вверх в сыром вихре. Обратно на войну Воут уже не вернулся. От него потом пришло письмо про то, что в Японии очень загрязненный воздух и полно клопов. Однако на вложенной фотокарточке вид у Воута был вполне довольный: сидит себе с двумя смазливыми медсестричками, а между колен зажата бутылка с длинным горлышком. Как громом поразило всех известие, что ему оттяпали руку. Вскоре после этого Бен Найстром прострелил себе стопу, зато остался жив, писем от него не было. Обо всем этом и болтали постоянно. И еще про дождь. Оскар любил говорить, что эта погода напоминает ему Детройт в мае. «Не именно дождь, – добавлял он, – а мрак и темень. Самая погодка стянуть чего или бабе юбку задрать. Лично я грабил и насильничал почти исключительно в такую погоду». Тогда кто-нибудь бурчал: вот, мол, черномазый, а врет как по писаному.
Такая была шутка. Шутили не только над Оскаром. Много смеху было и из-за Билли Боя Уоткинса – как отдал он концы от страха прямо на поле брани. И из-за лейтенантовой дизентерии. И над багровыми чирьями Пола Берлина тоже потешались. Доставалось и Каччато, который, как говорил Гнида, был глуп, как пуля, или, по определению Гарольда Мэрфи, туп, как рыбье дерьмо.
Но в конце октября, в сезон дождей, Каччато исчез.
– Удрал, – доложил Док Перет. – Смылся в неизвестном направлении.
Лейтенант словно бы и не слышал. Да и какой из него лейтенант – стар слишком. Прожилки на носу и на щеках у него полопались от пьянства. В свое время он был капитаном, даже майора ждал, но его погубили виски и четырнадцать тусклых лет между Кореей и Вьетнамом. И сейчас он был просто старый лейтенант, больной дизентерией. Он лежал в пагоде на спине, раздетый до зеленых трусов и носков.
– Каччато. Сбежал, – повторил Док Перет. – Смылся. Убыл.
Лейтенант лежал без движения. Обеими руками он держался за живот, словно пытаясь загнать болезнь глубже.
– Отправился в Париж, – сказал Док. – Так он сказал Полу Берлину, Пол Берлин – мне, а я вам докладываю. Ушел. Собрался и ушел.
– Пари, – тихо произнес лейтенант на французский манер. – Значит, во Францию, в веселый Пари?
– Да, сэр. Именно так. Так он Полу Берлину сказал, так и я вам докладываю. Вам бы укрыться, сэр.
Лейтенант вздохнул. Тяжело дыша, он сел, спустил ноги на пол и застыл над горелкой «Стерно». Он зажег ее, подержал у огня ладони и, нагнувшись, вдохнул жар пламени. Снаружи не переставал дождь.
– Париж, – слабым голосом повторил он. – Значит, Каччато отправился в веселый Париж? Так, что ли?
– Так он сказал, сэр. Я просто передаю, что он сказал Полу Берлину. Серьезно, вам бы укрыться.
– Пол Берлин, это который?
– Да вот он. Вот Пол Берлин.
Лейтенант поднял голову. Его ярко-голубые глаза казались чужими на бледном лице.
– Ты Пол Берлин?
– Так точно, сэр, – ответил Пол Берлин, изображая улыбку.
– Черт, я думал, ты – Воут.
– Воут – это который порезался, сэр.
– А мне казалось, это ты порезался. Ну и как тебе все это нравится?
– Нормально, сэр.
Лейтенант вздохнул и тоскливо покачал головой. Он поднял ботинок и стал сушить над огнем. Позади него в полутьме восседал, скрестив ноги, круглолицый Будда, благодушно улыбаясь с высоты. В пагоде было холодно. За месяц непрерывных дождей она насквозь отсырела, в ней стоял запах мокрого песчаника, глины и старых благовоний. Внутренность пагоды представляла собой небольшое квадратное помещение с низким потолком, как в доте. Здесь приходилось сильно наклонять голову или подгибать колени. Когда-то тут был, наверное, красивый храм, выложенный цветной плиткой и аккуратно выкрашенный, чистенький, у ног Будды в подсвечниках горели свечи. Теперь же это была грязная развалина. Окна заложены мешками с песком. У выщербленного ступенчатого возвышения, на котором помещался Будда, валялись черепки битой посуды. У самого Будды не хватало правой руки, а его жирный живот был изрешечен шрапнелью. Только улыбка оставалась прежней. Наклонив голову, он словно прислушивался к долгому лей-тенантову вздоху.
– Значит, сбежал Каччато, так?
– Вот именно, – ответил Док Перет. – Вы меня поняли.
Пол Берлин ухмыльнулся и кивнул.
– В веселый город Париж, – произнес лейтенант. – Наш Каччато отправился в веселый город Париж, что во Франции. – Хмыкнув, он покачал головой. – Дождь не кончился?
– Черта лысого он кончится, сэр.
– Вы когда-нибудь видели такой дождь? Вообще в жизни?
– Нет, сэр, – ответил Пол Берлин.
– Ты вроде дружил с Каччато?
– Нет, сэр. – Пол Берлин снова покачал головой. – Увязывался за мной иной раз.
– А с кем он дружил?
– С Воутом, сэр. С ним более или менее.
– Что ж, – произнес лейтенант, сунув нос прямо в ботинок, от которого исходил запах пропотевшей кожи, – что ж, наверно, надо позвать сюда мистера Воута.
– Воута нет, сэр. Это же тот, что порезался, – гангрена у него еще была, помните?
– О матерь божия!
Док Перет набросил лейтенанту на плечи пончо. За окном лил дождь, без грома и молний, ровный, бесконечный дождь. Время уже подходило к полудню, но ощущение было такое, будто продолжаются бесконечные сумерки.
– Париж, – пробормотал лейтенант, – Каччато отправился в веселый Париж. Смазливые девочки, голые задницы, и куда ни глянь – лягушатники. Французы. Он вообще как, нормальный?
– Просто глуп, сэр. Как пробка.
– Так прямо и пошагал? Сказал, что пешком пойдет в Париж?
– Так он сказал, сэр. А вообще, кто его знает.
– А ему известно, сколько дотуда?
– Шесть тысяч восемьсот уставных миль. Он мне так и сказал – ровнехонько шесть тысяч восемьсот миль. И вообще, он здорово подготовился. И компас есть, и запас воды, и карты, и все прочее.
– Карты, – буркнул лейтенант, – карты, старты, кварты. С картами он, конечно, все моря-океаны переплывет. Свернет себе из карт лодку – и никаких проблем.
– Нет, – отозвался Пол Берлин. Он взглянул на Дока Перета, который пожал плечами в ответ. – Нет, сэр. Он показывал мне по картам. Говорил, что сначала пройдет Лаос, потом Таиланд, Бирму, потом Индию, потом еще какую-то страну, забыл какую, потом Иран, Ирак, потом Турцию, Грецию, а там уж рукой подать. Рукой подать – так и сказал. Он все продумал.
– Другими словами, – сказал лейтенант и снова лег, – другими словами, самоволка – чтоб ему…
– Выходит, так, – подтвердил Док Перет. – Выходит, так.
Лейтенант потер глаза. Он был болезненно-бледен и небрит. Некоторое время он лежал тихо, держа руки на животе, и слушал звуки дождя. Затем усмехнулся, покачал головой и расхохотался.
– Ну зачем? Нет, вы мне объясните, за каким чертом?
– Вы только не волнуйтесь, вам нельзя раскрываться. Я же просил, – сказал доктор Перет.
– Нет, все-таки зачем?
– Только тише, пожалуйста. Я же сказал, он глуп как пробка.
Лицо у лейтенанта стало совсем желтым. Он отбросил ботинок, повернулся на бок и захохотал.
– Серьезно, ну за каким?.. Что за бред – пешком переться в Париж? Что это за идиотская война такая, объясните мне на милость. Что с вами со всеми творится? Нет, вы уж скажите, что же тут происходит?
– Только не нервничайте, я вас прошу. – Док Перет укрыл лейтенанта и положил ладонь ему на лоб.
– Ангел милосердный, матерь божия. Да вы что? Пешком в Париж – что же это такое на самом деле?
– Ничего, сэр. Это же Каччато. Если ему что в голову взбредет, он на все способен. Успокойтесь, все будет хорошо. Это же только кретин Каччато.
Лейтенант усмехнулся. Не вставая, он натянул брюки, ботинки, рубашку и принялся тоскливо раскачиваться перед голубым огнем. В пагоде пахло сырой землей, дождь не утихал.
– С ума сойти, – вздохнул лейтенант. Он ухмыльнулся, качая головой, и посмотрел на Пола Берлина. – В каком отделении?
– В третьем, сэр.
– Каччато тоже?
– Так точно, сэр.
– А еще кто?
– Я, Док, Эдди Лазутти, Гнида, Оскар Джонсон, Гарольд Мэрфи. Вот и все, не считая Каччато.
– А Педерсон и Бафф?
– Так они ж убиты.
– С ума сойти. – Лейтенант все раскачивался перед пламенем. Выглядел он совсем больным. – Ну что ж, – вздохнул он, вставая. – Третье отделение идет догонять Каччато.
До гор было четыре километра ходу ровным рисовым полем. Горы вырастали прямо из риса, а за ними и еще за многими горами лежал Париж.
Вершины гор были скрыты туманом и облаками. Дождь, казалось, склеил небо и землю.
Ночь отделение провело на привале у подножия первой гряды, а утром начали восхождение. Около полудня Пол Берлин увидел Каччато. Пригнувшись, тот размеренно и упрямо брел вверх в полумиле от них. Он шел без каски, и это было странно, так как обычно он тщательно прикрывал розовую лысину на макушке. Пол Берлин первым заметил Каччато, но молчал, а лейтенанту об этом доложил Гнида Харрис.
Лейтенант Корсон вытащил бинокль.
– Он, сэр?
Лейтенант не отрывался от бинокля, а Каччато все карабкался навстречу тучам.
– Это он?
– Он. Лысый, как орлиная задница.
Гнида фыркнул.
– Лысый, как монах. Точно – Каччато. Вот дубина.
Они наблюдали за Каччато, пока он окончательно не растворился в пелене облаков и дождя.
– Форменный идиот, – не унимался Гнида.
Они двигались в быстром темпе, растянувшись цепочкой.
Впереди лейтенант, за ним Оскар Джонсон, потом Гнида, Эдди Лазутти, Гарольд Мэрфи, Док, и замыкал цепочку Пол Берлин. Он смотрел себе под ноги и особенно не торопился. Он ничего не имел против Каччато. Глупая, конечно, затея, дурацкое мальчишество, очень похожее на Каччато, но все равно лично он ничего против этого дурня не имел. Обидно, и все. Пустая потеря времени среди всеобщих, несоизмеримых потерь.
Карабкаясь вверх, он попытался представить себе Каччатову физиономию. Она выходила расплывчатой, бесформенной и придурковатой; такой он и есть. Большой знаток в таких делах, Док Перет говорил, что, по его мнению, до синдрома Дауна Каччато не хватало одного-единственного тонкого генетического волоска. «Мог выйти и совсем идиот, – делился он с Полом Берлином своими соображениями. – Ты посмотри, какие у него глаза раскосые. И какой он дряблый весь, будто из желе. А форма головы! Нет, что ни говори, а все-таки он урод, каких мало. Я, конечно, не могу утверждать, но готов крупно поставить, что старина Каччато малость олигофрен».
Не исключено, что в этом содержалась доля истины. Каччато был весь какой-то причудливо недоделанный, словно природа долго и терпеливо билась над ним, но в конце концов махнула рукой как на безнадежное предприятие, не стоящее таких усилий. Простодушный, круглолицый, какой-то пухлый, с нежной, болезненной, как у мальчика, кожей. Он казался незавершенным, не зрелым даже той обыкновенной зрелостью, какая помечает любого парня, достигшего семнадцати лет. По общему мнению, в результате получался дурак дураком. Не то чтобы Каччато особенно не любили – разве что Гнида Харрис его действительно не жаловал, так как с неизменной неприязнью относился ко всем, кого хоть в чем-то превосходил, – но и приятелей у Каччато не было. Только, может, Воут. А Воут и сам умом не блистал, да и не было его больше на войне. Одним словом, Каччато терпели, как терпят порой докучливого пса – куда его денешь.
И вот, надо же. Пешком в Париж. Как раз в его духе. Как он, например, получил «Бронзовую звезду» за то, что выстрелил в упор прямо в лицо одному косоглазому. Дурак и есть, чего с него взять. Или вечно посвистывал зачем-то. У него не хватало ума даже на то, чтобы соблюдать осторожность и по возможности избегать опасностей, которые подстерегают тело и душу на войне. В каком-то смысле это делало из него хорошего солдата. Он шел в головной дозор, как идет мальчишка на первую в своей жизни окружную ярмарку. Работы на минных полях тоже не особенно избегал. А улыбка – больше украшение, нежели выражение каких-то чувств, – не сходила у него с лица даже в самые странные минуты: и когда отдал концы Билли Бой, и когда труп Педерсона среди бела дня поплыл лицом вверх по затопленному рисовому полю, и когда из-под каски Баффа потекла вдруг, мешаясь, красная и серая жидкость.
Однако и жалко дурня.
Карабкаясь в гору, Пол Берлин ощущал какое-то странное теплое чувство к этому парню. Не то чтобы расположение, а, пожалуй, сочувствие.
Не дружбу, нет. Жалость. Жалость и еще интерес. Дурь, конечно, вдруг собраться и уйти в дождь, но все-таки что-то в этом было.
До вершины горы они добрались только после полудня. Идти было тяжело: сверху низвергались потоки воды, земля выскальзывала, вытекала из-под ног. Внизу, насколько хватал глаз, простирались облака, они закрывали рисовые поля и войну. А наверху другие облака закрывали другие горы.
Оскар Джонсон вышел на то место, где Каччато останавливался в первую ночь, – каменная площадка, над которой козырьком нависал выступ скалы, выгоревшая банка «Стерно», обертка от шоколада и полусгоревшая карта. На карте была нанесена красная пунктирная линия, пересекающая рисовые поля и поднимающаяся на первую невысокую гряду Аннамских гор. Там линия обрывалась, продолжаясь, очевидно, уже на другом листе карты.
– А ведь он серьезно, – негромко сказал лейтенант. – Этот идиот не шутит.
Карту лейтенант держал так, словно от нее воняло.
И Гнида, и Оскар, и Эдди Лазутти – все кивнули.
На отдых расположились прямо в этом же уютном каменном гнездышке. Забились под скалу и молча сидели, поглядывая сквозь косые струи дождя на склоны следующей горы. Пол Берлин раскладывал пасьянс. Гарольд Мэрфи сделал сигарету с марихуаной, затянулся и передал по кругу. Они курили и смотрели на дождь, на тучи, на бесконечные горы. Было покойно и уютно. Шел славный проливной дождь.
Ритуал завершился в полном молчании. А потом лейтенант мог лишь вымолвить:
– Прости, господи.
Гнида Харрис выругался.
Дождь все лил.
– А может, назад двинем, – наконец сказал Док Перет. – Ей-богу, сэр, а? Развернемся – и обратно. Черт с ним.
Гнида Харрис фыркнул.
– Нет, серьезно, – продолжал Док, – может, пусть себе идет подобру-поздорову, бедолага? Записать его пропавшим без вести, сгинул в бою, заблудшая овечка. Сам очухается рано или поздно, сообразит, какую дичь затеял, глядишь, еще и вернется.
Лейтенант неотрывно смотрел на дождь. Сеточка багровых прожилок выделялась на его желтом лице.
– Как вы думаете, сэр? Пусть идет, а?
– Туп, как бревно, – хихикнул Харрис.
– Только поумнее тебя, Гнида.
– Ну знаешь, Док!
– Захлопнись!
– С какой это стати?
– Я же сказал, захлопнись, – сказал Док Перет. – Прикуси язык.
Гнида хмыкнул, но замолчал.
– Ну, так как все-таки, сэр? Поворачиваем?
Лейтенант молчал. Потом он зябко передернул плечами и вышел под дождь с комком туалетной бумаги. Пол Берлин все раскладывал пасьянс. Представлял себе, будто сорвал банк в тридцать тысяч и будто теперь ему надо придумать, на что бы пустить выигрыш, как в Лас-Вегасе.
Лейтенант вернулся и приказал собираться.
– Поворачиваем, назад? – спросил Док.
Лейтенант покачал головой. Выглядел он совсем больным.
– Я так и знал, – обрадовался Г нида. – Ей-богу, так и знал! Нельзя с войны просто взять и уйти. Пусть знает, тупая башка, что с войны не уходят. Верно, сэр? – Гнида ухмыльнулся и победно подмигнул Доку Перету. – Ей-богу, я так и знал.
Каччато уже добрался до вершины следующей горы. Он стоял опустив руки, с непокрытой головой и сквозь пелену дождя смотрел вниз. Лейтенант Корсон навел на него бинокль.
– Он, может, нас и не видит, – сказал Оскар. – Может, он не знает, куда дальше идти.
– Видит. Видит он нас. Отлично видит. И куда идти, знает. Очень даже хорошо знает.
– Может, сэр, дымку подпустить?
– А что, вполне. Действительно, отчего не поддать немного дымку?
Пока Оскар запускал дымовую шашку, лейтенант не сводил бинокля с Каччато. Недолго пошипев, шашка изрыгнула густое бледно-лиловое облако.
– Видит, – шептал лейтенант, – еще как видит.
– Да он нам машет, поганец!
– Не слепой, спасибо за информацию. Пресвятая дева!
Словно сраженный пулей, лейтенант вдруг осел прямо в лужу, обхватил голову руками и принялся раскачиваться взад-вперед. Клубы лилового дыма ползли вверх по склону горы. Каччато руками бил себя по бокам, словно большая птица крыльями. Пол Берлин взял бинокль. Большая Каччатова голова плыла, будто воздушный шар в облаках дыма. По виду не скажешь, чтобы он был испуган. Просто дурак, мальчишка. Веселится, улыбка во весь рот.
– Мне плохо, – проговорил лейтенант. – Мне плохо. – Он продолжал раскачиваться.
– Может, крикнуть ему?
– Плохо, – стонал лейтенант, – чертовски плохо. В Корее совсем не так было, можете мне поверить. Да, конечно, крикни ему. Как же мне плохо!
Оскар Джонсон приложил ладони ко рту и громко закричал. Пол Берлин смотрел в бинокль. На мгновение Каччато перестал махать руками. Он медленно развел руки ладонями вверх, словно хотел показать, что в них ничего нет. Затем он раскрыл рот, и в этот момент по горам прокатился гром.
– Что он сказал? – Лейтенант по-прежнему сидел на корточках, обхватив себя руками, и раскачивался. Он никак не мог унять дрожь. – Что он такое сказал?
– Не разберешь, сэр. А ты, Оскар?
Снова загрохотало. Протяжный гром волнами шел из самой глубины гор и скатывался вниз, колебля листья и траву.
– А ну тихо, к чертовой матери! – раскачиваясь, орал лейтенант дождю, ветру и грому. – Что сказал этот ублюдок?
В бинокль Пол Берлин видел, что Каччато открывает и закрывает рот, но слышен был один только гром. Потом Каччато снова замахал руками.
«Он же показывает, что улетает, – вдруг понял Пол Берлин. – Забрался, бедолага, на верхотуру, машет руками и хочет улететь».
Как ни странно, движения рук Каччато были плавными, четкими, даже грациозными.
– Курица, – заржал Гнида Харрис. – Глядите-ка! Чисто курица, только что не кудахчет!
– Матерь человеческая!
– Глядите!
– Курица мокрая, ну точно!
По горам, словно топот стада слонов, снова раскатился гром. Лейтенант все раскачивался, обхватив себя руками.
– О черт! – стонал он. – Что же он говорит?
Но Пол Берлин не слышал. Он только видел, как у Каччато шевелятся и растягиваются в счастливой улыбке губы.
– Что он говорит?
И Пол Берлин, наблюдая за полетом Каччато, ответил:
– Он говорит: «Пока!»
Ночью дождь сменился густым холодным туманом. В тумане они разбили лагерь у вершины горы. Гром гремел всю ночь. Лейтенанта стошнило. Потом он сообщил по рации, что преследует противника.
– Может быть, вертолетов прислать, папаша двадцать девятый, – запросили издалека.
– Не надо, – отвечал старый лейтенант.
– Тогда, может, артиллерии? Слушай, что я тебе скажу, папаша двадцать девятый. У тебя такой симпатичный, располагающий голос. Нет, кроме шуток. – Радио-голос на минуту замолчал. – Предлагаю выгодное дельце. Так и быть, дам вам две пушки по полцены, да с гарантией. Делай что хочешь. Ну как, берешь? Мы только что получили партию новых потрясающих стопятидесятипяти-миллиметровок, пальчики оближешь, можешь мне поверить. Мы вот как сделаем. Будешь брать оптом, дешевле обойдется. Идет?
– Нет, – радировал лейтенант.
– Каков! Тебе не угодишь. Тогда, может, ракетами посветить? Есть отличные хлопушки, и огонек настоящий подмешан. Дешевая распродажа, только один день.
– Нет, нет, нет.
– Зря, такой товарец в руки плыл.
– Нет, выродок ты этакий.
– Ладно, дело хозяйское, – разочарованно сказал радиоголос. – Пожалеешь еще… Ладно, папаша двадцать девятый, не дуйся. Счастливо поохотиться.
– Благодарствую, – проговорил лейтенант в сплошной треск помех.
Ночной туман оказался похуже дождя. Холоднее, да и тоску наводил смертную. Они лежали под провисшим тентом, который, словно невод рыбу, собирал туман. Но Оскар, Гарольд Мэрфи, Гнида и Лазутти все равно спали, прижавшись друг к другу, как любовники. Они могли спать без конца.
– Только бы он не останавливался на ночь, – прошептал Пол Берлин на ухо Доку Перету. – Только бы у него хватило ума идти без остановки. Если он будет все время идти, нам его в жизни не нагнать.
– Все равно с вертолетами догонят, или с самолетами, или еще как-нибудь.
– Если оторвется от нас, то нет. Ему надо двигаться незаметно.
– Сколько там времени?
– Не знаю.
– Который час, сэр?
– Чертовски поздно, – отозвался из кустов лейтенант.
– А сколько?
– Четыре часа. Четыре ноль-ноль после полуночи. То есть утро.
– Спасибо.
– Рад услужить. – Его голый зад белел в темноте за кустами.
– Как вы, сэр?
– Чудесно! Неужели не видно, как мне здорово?
– Главное для него – не останавливаться, – снова зашептал Пол Берлин. – Вся надежда, что у него хватит ума идти не останавливаясь.
– Да-а. А что толку?
– Может, и доберется до Парижа.
– Допустим, – вздохнул Док Перет и повернулся на бок. – А дальше что?
– Ничего. Париж.
– Не доберется. Я сам любитель приключений, но отсюда пешком до Парижа не дойдешь. Физически невозможно.
– Он не такой дурак, как кажется, – заметил Пол Берлин, сам не очень-то в это веря. – Он не такой уж тупица.
– Я знаю, – сказал лейтенант. Он вышел из кустов. – Что я, не знаю, что ли?
– Невозможно. Отсюда ни одна дорога не ведет в Париж.
– Можно зажечь горелку, сэр?
– Нет, – ответил лейтенант, заползая под навес и ложась на спину. Он тяжело дышал. – Нельзя зажигать этот дерьмовый примус, нельзя ходить гулять без галош и шарфов, и нет, детки и храбрые мои солдаты, не будет вам сегодня к капусте шоколадной подливки. Нет.
– Ладно.
– Нет!
– Что еще – нет, сэр?
– Нет, – обреченно вздохнул лейтенант. – Мы ведь на войне, так?
– Вроде так.
– Вот то-то же. Война все-таки.
Снова хлынул дождь. Он начался громом, потом засверкали молнии, заливая лежащую далеко внизу долину зеленовато-призрачным светом. Потом снова загрохотало, потом гроза прошла и остался один только дождь. Они лежали молча и прислушивались. Вдруг ни с того ни с сего в голове у Пола Берлина, который считал себя человеком с патологически здоровой психикой, не обремененным высокими материями, амбициями и философией, возникла картина убийства. Бойни. Он увидел, как у Каччато проламывается правый висок, как потом наружу вылезают мозги. Не образ, не символ – Пол Берлин не из тех, кто мыслит образами, – а просто жуткое видение. Он попытался вспомнить ход своих мыслей, приведших к этому, но ни о чем таком он не думал, только о дожде, о своих преющих, немеющих конечностях. Не с чем связать, нечем объяснить эту кровавую картину. Просто увидел, как круглая башка Каччато вдруг взорвалась, будто пропоротый шар со сжатым гелием – тррах!
«Куда его черт несет, – размышлял Пол Берлин, – и чем это все кончится? Конечно, убийство было логическим выходом из порочного круга; Каччато его заслужил и едва ли избежит. За глупость рано или поздно приходится платить, а на войне расплачиваются живой валютой – оторванными пальцами, размозженной костью бедра, разлетевшимися брызгами мозга. Война все-таки!»
Пол Берлин с какой-то предрассветной чувствительностью жалел Каччато, жалел себя за перенесенные страдания, от которых мерещится такое, и уповал на чудо. Он устал от убийств. Он испытывал не страх – во всяком случае сейчас, – не потрясение, а просто глубокую всеохватывающую усталость.
– А ведь он храбрый парень, – прошептал он. Потом заметил, что Док его слушает. – Серьезно, помнишь, как он выволок тогда вьета из бункера?
– Да.
– И выстрелил ему прямо в морду.
– Помню.
– Во всяком случае, трусом его не назовешь. Он сбежал не со страху. Этого о нем не скажешь.
– Зато другого много чего можно сказать.
– Верно. Но в смелости ему не откажешь. Это ты должен признать.
– В общем-то, конечно. – Голос у Дока был совсем сонным.
– Интересно, он по-французски умеет?
– Ты что, шутишь, что ли?
– Просто интересно. Как по-твоему, трудно выучить французский, Док?
– Кому? Каччато?
– Все равно не так уж сложно. А все-таки, что ни говори, приятно думать, как там Каччато топает в Париж.
– Спал бы ты лучше, – посоветовал Док Перет. – О собственном здоровье подумать тоже не вредно.
Они шли высоко в горах.
Война осталась далеко от этих благодатных горных мест, где росли деревья и густая трава, где не было ни людей, ни собак, ни нудных долинных будней. Настоящая девственная природа, и лишь одна размытая узкая тропа вела вверх.
Они шли с опущенными головами. Впереди Гнида, затем Эдди Лазутти, Оскар, следом Гарольд Мэрфи с пулеметом, потом Док, лейтенант, и замыкающим – Пол Берлин.
Они уже выбились из сил и молчали. Мысли сосредоточились на ногах, а ноги отяжелели от прилившей крови, потому что шли они уже долго и день был насквозь сырой от бесконечного дождя. Не какого-нибудь тоскливого или вещего дождя, а просто дождя, от которого некуда деться.
Ночь они провели возле тропы, а утром снова двинулись вверх. И хотя никаких следов Каччато здесь не было, другой тропы на этой горе тоже не было, и они шли по ней – единственному пути на запад.
Пол Берлин двигался почти автоматически. По бокам у него, не давая ни сгорбиться, ни скособочиться, покачивались в такт с бедрами две фляги с шипучкой. Градом лил пот. Сильное сердце, крепкая спина и с каждым шагом все ближе вершина, мысленно подбадривал он себя.
Каччато они теперь не видели, и Полу Берлину уже думалось, что, может быть, они окончательно потеряли его. От этой мысли на душе у него полегчало, и он, карабкаясь по тропе, начал было наслаждаться красотой окружающего мира, чувством высоты и приятным сознанием того, что настоящая война осталась далеко внизу. Но тут Оскар нашел вторую карту.
Красная пунктирная линия пересекала границу с Лаосом. Немного дальше они увидели каску Каччато и бронежилет, затем его личный жетон и саперную лопатку.
– Этот болван так все и идет по тропе, – простонал лейтенант. – Ну почему он не свернет, скажите на милость?
– Потому что отсюда нет другой дороги на Париж, – ответил Пол Берлин.
– Кретин потому что, – вставил Гнида Харрис.
Размытая и блестящая тропа, смесь дождя и красной глины, вела их все выше.
Каччато не показывался, но по пути оставлял следы: пустые консервные банки, корки хлеба, ленты с золотистыми патронами на карликовой сосне, прохудившуюся флягу, шоколадные обертки, обрывок истертой веревки. И по этим следам они продолжали идти за ним. Следы дразнили и манили, шаг, еще шаг – то вдруг мелькнет вдали Каччатова лысина, то попадется не остывшее еще кострище, то нарочно брошенный у тропы носовой платок.
Так они и брели за ним по тропам, уходящим все дальше и дальше на запад, все в одном и том же направлении, открыто, безо всяких уловок. Места кругом были глухие, скалистые и неприступные, покрытые мраком осенней непогоды. Впереди лежала граница.
– Дойдет вон до тех гор, – сказал Док Перет, вытянув руку, – и нам его уже не достать.
– Это почему же?
– Граница, – пояснил Док Перет. Подъем почти прекратился, идти стало легче. – Дойдет до границы – и привет, Каччато.
– А далеко дотуда?
– Да нет. Пара километров, наверно.
– Тогда, считай, он ушел, – прошептал Пол Берлин.
– Не исключено.
– Бог ты мой!
– Не исключено, – повторил Док.
– Обед в «Тур д’Аржан», вечером – в оперу!
– Не исключено.
Тропинка сузилась и круто взяла вверх, и через полчаса они его увидели.








